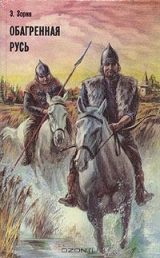
Текст книги "Обагренная Русь"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
В другие дни, бывало, после заветного жбана слабость быстро исчезала, но сегодня она почему-то держалась стойко, а от ног подымалась к сердцу противная знобкость.
Дверь скрипнула, кто-то вошел в ложницу. Рюрик не пошевелился, даже не приподнял головы. Только приоткрыл отяжелевшие, чужие веки, увидел бородатое лицо, внимательные, в прищуре, глаза. Догадался: Чурыня.
– Чего тебе?
– Худо, княже?
– Ох, как худо. Почто свет заслонил? Уйди.
Чурыня тихо отодвинулся, но из ложницы не вышел. До Рюрика доносилось его ворчливое бормотание, поднимавшее в князе беспричинный гнев.
«Вот все они так. Умереть – и то спокойно не дадут», – подумал он, закрывая глаза.
В темноте было спокойнее, обрывками грезилось приятное. Все гуще обволакивал голову прилипчивый хмель. А от ног поднимался пугающий холод...
Чурыня продолжал бормотать, постукивал жбаном – должно, допивал оставленное князем. А чтоб его!..
Рюрик резко повернулся – вскрикнул от боли в боку, сжался от страха. Чурыня снова приблизился, низко склонился над ним, глядел молча.
– Почто молчишь? – рыкнул князь.
– Не истопить ли баньку?
Рюрик помолчал, прислушиваясь, как все упорнее леденит поясницу холод. Ступни ног покалывало, немели пальцы. Может, и впрямь попариться – полегчает?
– Так повелишь, ли, княже? – словно угадывал его мысли Чурыня.
– Велю, – сказал Рюрик, лишь бы поскорее избавиться от настырного боярина. Чурыня отпрянул от него, побежал поднимать слуг. Оставшись один, князь вздохнул облегченно.
И снова загрезилось, снова вырвались из памяти приятные сны. А холод все упорнее сковывал ему чресла, и голова кружилась – но уже не от вина.
Внезапно Рюрика охватило беспокойство: такого с ним еще никогда не бывало. Он попробовал пошевелить ногами, но они были закованы в ледяные железа и не двигались. Рюрик приподнялся, протянул руку, коснулся живота и вздрогнул: живот был чужой, холодный и скользкий, как у лягушки.
У ложа появились люди. Чурыня прижимал Рюрика за плечи к подушке, кто-то плескал ему в лицо душистой водой.
– Что это ты, батюшка, такой скорбный нынче? – ворковал Чурыня. – Что это тебе привиделось?
Рюрик пытался вытянуться. Ему казалось, что если он хорошенько вытянется, то холод не достанет до сердца. Тупая, ноющая боль пронзала ему грудь.
– Эко холодный ты весь какой, – сказал Чурыня и, обернувшись к стоящим за его спиной, крикнул: – Несите одеяла, да поболе: знобко нашему князю!
Одеяла навалили на Рюрика горой, а ему чудилось, будто это земля, будто схоронили его заживо.
– Ну как, полегчало, княже? – спрашивал с воли испуганный голос Чурыни.
– Худо, совсем худо, – слабо отвечал из могилы Рюрик. – Землю-то скиньте... давит.
– Потерпи, князюшко...
– Холодно...
Куда уж боле – все одеяла, что были в тереме, собрали и накинули на князя. Постельничий прибежал с охапкой шуб.
– Ступай, ступай, – зашикали на него. – Аль не видишь, отходит князь. Лицо-то как посерело, язык едва ворочается...
А Рюрик говорил с присутствующими:
– Анну берегите. Сыновей, сыновей... Чермному – кукиш: Киева ему не отдавайте. Зовите Ростислава.
Но это только ему казалось, что он говорил. Никто не мог разобрать его слов. В горле князя хрипело и булькало.
Все ближе к сердцу леденящий холод, все сильнее стужа. Вытянуться, приподняться... Еще немного. Ага, сдается, окаянная! Теплом повеяло от земли, все легче несметная ноша.
– Никак, воспрял князь! – удивился кто-то.
«Схоронили, – со злорадством подумал Рюрик, – а я жив, жив...»
И ложница стала медленно выступать из мрака.
2
Сидя в Чернигове, Всеволод Чермный со дня на день ждал кончины Рюрика.
И весть, принесенная из Киева, взбодрила и порадовала его: теперь осталось недолго, добьют старого князя меды.
Но, чтобы не дать промашки, он решил еще раз уговорить митрополита отправиться во Владимир, а причина для этого была веская. Решился Чермный на последний шаг – отдать дочь свою за Всеволодова сына Юрия, узами брака связать Мономашичей и Ольговичей.
Случай представлялся удобный: митрополит сам прибыл в Чернигов.
Чермный был человеком расчетливым, но если надобилось, то и хлебосольным. Матфея встречал он пышно, колокола звонили по всему городу.
Митрополит, привыкший у себя в Киеве к скромности, даже упрекнул князя. Но Чермный ему на это отвечал:
– В долгу я перед тобою, отче.
– Это в каком же долгу-то? – спросил Матфей. – Был я во Владимире по твоей просьбе, но вернулся почти что ни с чем.
– Да кое с чем вернулся, – загадочно сказал князь. – Не все сразу делается. Помягчал ко мне Всеволод, не вовсе отринул. И в том твоя большая заслуга.
– Ну, коли тебе и этого довольно, то благодарствуй, – сказал Матфей. – Однако же и я зело рад, что довелось мне побывать в Залесской стороне...
Большое дело не сразу делается. И Чермный решил серьезный разговор отложить до следующего раза. А покуда сопровождал он митрополита по городу, стоял службу в церквах, молился истово, изо всех сил старался показать Матфею свою набожность.
Старику нравилось проявленное к нему внимание. Был он и на пиру у Чермного и немало дивился, как чинно и благопристойно вели себя в Чернигове бояре. Не то что Рюрик и его думцы, от которых стонал Киев.
И Олег, брат князя, понравился митрополиту. Был и он, как и Чермный, почтителен и набожен. Смиренно подходил к руке Матфея, стоял, потупясь, как девушка.
Понятно, не вовсе слеп был митрополит – видел он и то, что не для кого-нибудь, а для него расстарался князь. Но разве это плохо?
И если Чермный думает, как бы сесть после Рюрика на Горе, то и Матфей с ним. Лучшего князя на сю пору для киян все равно не сыскать.
Вот почему он не удивился, когда на третий день после пиров и празднеств сам Чермный напросился к нему в гости. Приехал он к митрополиту на двор с одним только меченошей, и Матфей не выставлял на стол ни медов, ни утонченных яств. В скромной горнице все было обставлено по-скромному. Да и сам митрополит выглядел по-домашнему просто.
– Всему свой срок, – сказал он, усаживая князя, – и знаю я, что приехал ты ко мне не без нужды.
– Угадал ты, отче, – ответил Чермный. – Нужда у меня к тебе есть, и немалая.
– Тогда не будем время тянуть. Говори, да покороче.
И Чермный сразу приступил к делу.
– Тебе, отче, больше других ведомо, что дни Рюрика сочтены.
– То одному богу ведомо, – отозвался митрополит, прикрыв глаза и осеняя себя крестом. – Однако же и я так мыслю: невоздержан князь, пьет сверх меры, долго ему не протянуть.
– Вот, – подхватил Чермный, – сие всем видимо, а кияне ждут не дождутся его кончины...
– Грешно сие, – сказал Матфей.
– Грешно, да куды подеваться? И так говорили мне: теперь Рюрик слаб, никто его не боится – ступай и свергни его с Горы. Устали мы от его проделок.
Матфей кивнул, но ничего не сказал. Глаза его, как и прежде, были прикрыты.
Чермный продолжал:
– Но я ответил киянам отказом. Не вижу в том великой для себя чести – идти и свергать больного князя. И так уж он одною ногой вступил в могилу, вторую подталкивать не хощу.
Митрополит открыл глаза, поглядел на Чермного с любопытством. Не часто доводилось ему обнаруживать в князьях такое благородство: чаще они готовы были и по малому случаю, ежели такой представится, перегрызть друг другу горло. Чермный удивлял его и озадачивал.
Князь улыбнулся, догадавшись, о чем только что подумал Матфей. И, чуть помешкав, продолжал:
– И еще есть к тому препятствие. Два старых корня дают на Руси соки могучему древу. Но то один корень перехлестнет, то другой. А земля едина, и ссориться нам ни к чему. Однако же мономашич Всеволод может не принять меня на киевском столе...
– Всеволод разумен, – заметил митрополит.
– Оно так, отче, – кивнул Чермный. – Но все ж таки без его благословения мне на Горе не быть. А сяду – так сызнова пойдет великая распря.
Матфей улыбнулся, остановил Чермного движением руки:
– Не хощешь ли ты, чтобы в другой раз навестил я Всеволода в его Залесье?
– Хощу, отче, – воспрял Чермный, радуясь, что митрополит сам направил беседу в нужное русло. – Хощу, отче, но знаю, что будет это тебе не легко.
– С чем же отправлюсь я ко Всеволоду? – спросил Матфей. – Ведь на прежнюю твою просьбу он уж ответил отказом. А новая и вовсе не проста.
– Кто же говорит, что проста! – воскликнул Чермный. – Иначе снарядил бы я с грамотой гонца, а не просил тебя об услуге. И не с пустыми руками поедешь ты, отче.
– Духовные пастыри не везут с собою даров, – нахмурился митрополит. – Сие есть суета сует, и мне не приличествует по сану.
– Вот ты о чем подумал! – улыбнулся Чермный. – Да разве дарами, пусть и самыми богатыми, прельстишь владимирского князя! У него и злата, и серебра столь, что ежели сгрести вместе все наши бретьяницы, то и половины не наскребем.
– Тогда почто смущаешь меня, князь?
– О другом моя речь. И забота моя иная. Я ведь и допрежь того, как сели мы к столу, тебе сказывал: два корня на Руси. У Всеволода сын подрос, а у меня дочь на выданье. Что, как сыграть нам свадьбу, да породниться, да и кончить былые счеты?..
– Вона куда ты метнул! – разулыбался Матфей. – Уж не сватом ли ты меня послать хощешь во Владимир? Сроду не знавал я, чтобы ходили митрополиты в сватах.
– Так кого иного о том попрошу? – отчаялся Чермный. – Иного-то Всеволод и слушать не станет. Ты один только это и сможешь, отче.
– Сроду не хаживал я в сватах, – задумчиво повторил митрополит. Но заметно было, что слова Чермного возымели действие. Дальше он слушал князя с еще большим вниманием.
– Не глух же Всеволод и должен внять голосу разума. Ежели прежде хотел он иметь на дружбу со мною согласие Рюрика, то нынче надежды сии пусты. Не токмо со мной, но и не с кем другим не станет мириться Рюрик, ибо во всех видит только врагов, покушающихся на его стол, – говорил Чермный. – Куды уж дале, ежели и сына своего Ростислава велел от себя гнать, подозревая его в заговоре, а младшего, Владимира, держит при себе, как в заточении, – ни удела ему не дает, ни на думу не кличет. Все передоверил боярину Чурыне, а Чурыня корыстолюбив и злопамятен, близость свою к князю использует, чтобы извести прежних своих врагов... И мнится мне, что Всеволод про все это знает, ибо дочь его Верхослава не из тех, что у мужа под каблуком. Умна она и начитанна, и нрав у нее крутой и решительный, как у отца.
Матфей подтвердил его догадку.
– Сие подтверждают и письма ее к игумену Симону, – сказал он и тут же спохватился: как бы не подумал Чермный, что церковная братия перехватывает грамоты. Поправился: – О том сам игумен мне говорил и гневался на печерского черноризца Поликарпа, досаждающего Всеволодовой дщери своими честолюбивыми мечтами: наскучило-де ему у нас и нельзя ли получить епископство.
– Вот видишь, отче, – сказал Чермный (о том, что письма, посылаемые в Печерскую обитель, вскрываются и о содержании их доносится митрополиту, он знал уже давно и только про себя посмеялся Матфеевой оплошке), – вот видишь, отче, – не пусты и не бесплодны мои задумки.
Он и не надеялся на то, что митрополит сразу же даст свое согласие. Еще долго пришлось ему уламывать Матфея, прельщать его выгодой предстоящего хождения в Залесье. Да и дорога была нелегка и опасна. Сам он тоже в митрополитовы-то годы не сразу бы на нее решился.
– Дам я тебе, отче, для охраны своих людей. Лучших дружинников отберу. Лучших коней пригоню из своих табунов. Ни в чем не будет тебе отказа. Покуда лежит зимний путь, доскачешь быстро.
– Хорошо, уговорил ты меня, – сказал Матфей. – Нужную дорогу правит бог. А чтобы в Чернигове не засиживаться, вели сегодня же собирать возы. Ежели все будет ладно и в срок, ежели твои люди не замешкаются, то в конце седмицы и тронемся, благословясь.
– Ну, Егорка, – сказал дьякон Богдан, входя в избу и от двери бросая шапку свою на лавку. – Нынче зван я был к митрополиту – так велел он тебя собирать в дорогу.
– Куды же это? – удивился Егорка. – Коли в Киев, так почто и ты не с нами?
– Мне-то в Киев возвращаться велено. А ваш с Матфеем путь лег ко Владимиру.
У Егорки аж дух перехватило от радости. Не поверил он Богдану: дьякон был известный в Киеве пересмешник и охотник до разных невинных проказ. Нешто снова соврал? Но вид у Богдана был серьезный и даже озабоченный.
– Ну, что глаза на меня вылупил? – прикрикнул он на Егорку. – Сколь раз тебе повторять: обоз уж стоит, и митрополит, поди, вышел на крыльцо, глядит по сторонам, тебя дожидаючись.
Нет, не врал Богдан, сам снял со стены суму, стал набивать ее разным дорожным барахлом: сунул Егоркино исподнее, новые чеботы, принес из сеней краюху замерзшего хлеба, отрезал кусок копченой оленины, завернул в тряпицу, в кожаный мешочек, чтобы не намокла, насыпал соли.
Прыгая то на одной, то на другой ноге, Егорка быстро напялил на себя теплые штаны, сорвал с гвоздика полушубок. И, схватив со стола суму, сразу кинулся к двери.
– А прощаться кто будет? – сказал с упреком Богдан. – Али мы с тобой нехристи?
Егорка засмущался и приблизился к дьякону. Богдан обнял его, заглянул в глаза:
– Рад?
– Еще как рад-то!
– Ну, иди, – оттолкнул его от себя дьякон, и Егорке показалось, будто блеснула в Богдановых глазах слеза. Да и у него самого вдруг защипало в носу. С чего бы это?
Жили они с Богданом не то чтобы душа в душу, но с первого же дня, как Егорка появился в Киеве, дьякон почувствовал к нему расположение. И всем это было заметно, заметил это и Егорка.
Не в общую избу повел Богдан молодого певчего, а к себе домой. Помыл его в баньке, кашей накормил, спать уложил, утром стал про жизнь расспрашивать. И чем дольше рассказывал про себя Егорка, тем все теплее становился у дьякона взгляд. А когда молодой певчий кончил свою историю, стал свою историю сказывать ему Богдан. И оказалось, что жизнь у них сходна, как две капельки родниковой воды.
Как и Егорка, дьякон не помнил своих родителей. Бродил и он с каликами по Руси, и его, как Лука Егорку, пригрел у себя заботливый старец – и ему, вишь ли, голос Богданов приглянулся...
– Оставайся со мною, – сказал молодому певчему дьякон. – Вместе службу править будем, вместе добывать свой хлеб насущный.
Не велика была у Богдана изба и редко водились в ней пироги. По-разному жили они. Иногда ссорились. Раз был случай такой, что Богдан даже поднял на Егорку руку. Да на кого не находят затмения? Егорка ведь тоже спуску ему не давал. Не прежний он был малец, окреп и возмужал. И когда однажды насели в слободе на Богдана бражники, крепко он ему помог: вдвоем-то они шестерых раскидали.
А вообще-то Богдан перед Егоркой никогда не распинался. Был он замкнут, а ежели выпадали минуты редкого настроения, то употреблял он их разве что на шутки. И ни единому слову его в такие дни Егорка не верил.
Вот и сегодня подумал – не потешается ли над ним Богдан? Ан нет. И впрямь ползет митрополичий обоз вдоль замерзшей Десны, то на берег взбирается, то спускается на лед.
Не так уж и много дней пройдет, как покажется в лесистой дебри Москва, а там на Клязьму выедут, а там пойдет дорога до самого Владимира, и однажды утром блеснут им в глаза золотые шеломы Успенского собора.
Разное приходило Егорке на ум, но чаще всего вспоминался ему Лука и добрая его жена Соломонида. Теснило в груди от предчувствия скорой встречи.
Однако же до встречи еще неблизко было. А покуда кони несли Егорку то полями, то балками; то сыпал снег, то крутила поземка. И все казалось ему, что медленно едут сани, что и быстрей бы могли. А уж куда быстрее? И так заморили возницы лошадей – торопил их митрополит, боялся распутицы. Да и дело, с кото рым он поспешал во Владимир, не терпело – к весне ждал его Чермный обратно с добрыми вестями.
Все бы хорошо, кабы и кончилось, как начиналось. Но неподалеку от Москвы случилась большая заминка.
Попал встречь обозу бывалый человек:
– Куда поспешаете, людишки?
– А ты очи отвори, – строго отвечал ему скакавший впереди сотник, – тебя мы не знаем, а с нами сам митрополит.
Мужик сошел с дороги, перекрестился, поклонился переднему возку до полоза. Из возка выбрался Матфей, мужик и Матфею поклонился.
– За чем заминка? – спросил митрополит.
– Да вот людин встал поперек дороги, – сказал сотник и замахнулся на мужика плетью. – Я вот тебя!
– Прости, отче, – упал мужик на колени перед Матфеем. – Не знал я, не ведал, кто вы такие. Вот и хотел предостеречь, – мол, дальше ехать опасно. А теперь вижу, что сам митрополит, так тебе, отче, всюду дорога открыта.
Матфей перекрестил мужика и направился сесть в возок, но услышал, как любопытствовал сотник:
– А ну-ка, сказывай, что за беда стряслась?
Митрополит митрополитом, а жизнь его в руках дружинников. Строгий дан был им наказ, и сотника наставлял сам Чермный: «Гляди в оба, чтобы и волоска не упало с головы Матфея!»
Мужик помялся, позыркал по сторонам, – бежать некуда, вокруг поле и снегу по пояс.
– Дык пожгли, вишь ли, деревни вокруг Москвы, – сказал он.
– Пожег-то кто? – конем напирал на него сотник.
– Сам не видел, не знаю. А людишки сказывают, будто приходили князь Кир с Изяславом Владимировичем да и пожгли. И по сей день где-то здесь обретаются...
«Вот те и преподнесли подарочек Ольговичи, – с досадой подумал Матфей. – Да как же я Всеволоду на глаза покажусь?»
Неладно получилось в конце дороги, но не обратно же поворачивать.
Бросив откатившегося к обочине мужика, сотник приблизился к Матфею:
– Что делать будем, отче?
– Езжайте, как ехали, – сказал митрополит и забрался под полсть.
– Трогай! – послышалось впереди.
«Хорошо бы на Кира взглянуть, – досадовал Матфей, – я бы ему выговорил».
Скоро на дороге стали попадаться беглецы. Люди шли со скарбом на плечах, гнали перед собою скот.
Показалась и первая деревенька, являвшая собою скорбное зрелище. На склоне холма стояли сгоревшие срубы, тут и там курились над пепелищем горькие дымки.
Вокруг Москвы остались одни уголья, но городские стены были почти не повреждены. На городницах толпился вооруженный народ.
С холма к обозу подскакал всадник в малиновом кафтане, резко осадил коня. Сотник выехал ему навстречу. Недолго поговорив, они разъехались, и обоз беспрепятственно втянулся в раскрывшиеся ворота.
Остановились посреди площади. Митрополит сошел с возка, засеменил, окруженный служками, через плотную толпу к указанной сотником избе. Люди падали на колени, крестили лбы. Матфей рассеянно благословил их.
На крыльце произошло движение, воины подались в стороны, и митрополит оказался лицом к лицу с князем Юрием.
«Так вот ты каков», – подумал Матфей, вглядываясь в его лицо и пытаясь определить по нему сходство со Всеволодом. Но отцовские черты были в Юрии почти неуловимыми. И смуглым цветом кожи, и темными волосами, и свободным разлетом черных бровей он больше походил на мать. Вот только разве в прищуре серых глаз сквозила Всеволодова лукавинка.
Юрий опустился на колени, приложился теплыми губами к руке митрополита. Матфей перекрестил его, приподнял и поцеловал в уста.
– Рад видеть тебя, сын мой, в добром здравии, – сказал он обычную в таких случаях фразу, вкладывая в нее особую нежность и теплоту.
Вечером обрадованные своим спасением московляне угощали митрополита и князя на славу и от всей души. Хоть и на бойком месте стояла Москва, а чтобы сразу нагрянуло столько важных гостей, случалось нечасто.
Окруженный всеобщим вниманием, разомлевший от обильных яств и от крепких медов, но еще больше от
недавно одержанной победы, Юрий рассказывал Матфею, как, возвращаясь от Твери, столкнулся на Дрезне с Изяславом.
– Вот ведь что князья-то выдумали: ушло-де наше войско к Новгороду, так не поживиться ли легкой добычей, – говорил он, расслабленно откинувшись на лавке и обводя присутствующих блестящим взором. – Куды было им смекнуть, что мы так быстро управимся со Мстиславом. Константин от Твери повернул к себе на Ростов, а я с Ярославом прямехонькой дороженькой повел свою дружину на Москву. Вроде бы мы уж и дома, а тут – смерды при дороге: спаси, княже, неведомые люди зорят наши гнезда... Пронюхав про нас через лазутчиков, Кир вовремя убрался, а Изяслав замешкался, так мы половину его дружины вырубили – впредь потеряет охоту хаживать во владимирские пределы. Самого-то Изяслава тоже едва не взяли, дружинник мой Веселица так и висел у него на хвосте, да не той дорогой пошел, завяз в болоте...
Не довелось Юрию схватиться с новгородцами у Твери, так хоть здесь ему посчастливилось. Был он возбужден и словоохотлив. Совсем заговорил Матфея.
– А ты за какой надобностью поспешаешь к отцу, отче? – поинтересовался он у митрополита.
Матфей всей правды открывать ему не стал, сослался на то, что дело у него к епископу Иоанну.
– Батюшка будет тебе рад, – кивнул Юрий и дальше распространяться с вопросами не стал.
Зимой темнеет быстро. Князья и бояре отправились на ночлег по своим избам, но дружинники и вои еще долго сидели у костров за воротами у крепостного вала—в городе разводить огонь было опасно: кто коня своего расчесывал, кто правил на оселке притупившийся меч, а кто просто разговаривал с соседом.
Егорка с любопытством переходил от костра к костру – то здесь присядет, то там. Уж очень хотелось ему встретить хоть одного знакомого.
А на ловца, говорят, и зверь бежит. У самого большого огня, сбившись в кучу, грелись боголюбовские пешцы. Егорка подошел, присел на корточки, стал слушать, как тешил своих товарищей байками веселый горбун.
– Ты, Крив, ври, да не завирайся, – тут перебил кто-то горбуна. – Сроду я не поверю, чтобы взял тебя
в свою дружину Роман, а что оберегал ты его от ляхов под Завихостом – так и вовсе брехня.
– Да я хоть на кресте побожусь, – возмутился Крив. – Экой ты молодой, Прокоп, а веры в тебе ни во что нет. Чего ни скажи, все не так. А сам, поди, и меча-то из ножен еще не вынимал, разве что накрошить капусты. Видел я, как вчера удирал ты от Изяславова конника, а того и не ведаешь, что ежели бы не моя стрела, так сегодня не сидел бы ты у огня и не слушал моих баек...
Знакомое имя насторожило Егорку. Стал он приглядываться к молодому пешцу и понял, что не ошибся. Не зря разыскивал он по стану своих земляков. Один сыскался-таки.
Прокоп заметил устремленный на него Егоркин взгляд и сам несколько раз посмотрел на него со вниманием.
– Погоди-ко, погоди, – вдруг отвлекся он от рассказа горбуна и встал, раскинув руки. – Ты ли это, Егорка?
Егорка тоже вскочил и кинулся к Прокопу. Поздоровались они в охапочку и ну бить друг друга по плечам и по груди да приговаривать:
– Прокоп!
– Егорка!
– Ну и здоров же ты!..
– Да и тебя не узнать!..
Выходило так, будто и не лежала между ними давняя обида. Стали вспоминать Луку, как учил он уму-разуму шаловливых чад.
– Жив ли старче? – спросил Егорка.
– А куды ж ему подеваться, – ответил Прокоп. – Не шибко много времени-то прошло, как увез тебя в Киев митрополит. А я вот, вишь ли, мечом перепоясался, – добавил он с гордостью.
Признаться, Егорка ему позавидовал. На долговязом Прокопе и кафтан и сапоги сидели ладно. Лицо обветрено, опушено ранней темной бородкой. Егорка в своей шубейке и торчащей из-под нее ряске выглядел неказисто.
– Эй, знакомцы! – позвал их Крив. – Будя вам на ветру шептаться, ступайте к костру.
– Ну-ко, спой, Прокоп, – послышалось со всех сторон. – Позабавь честной народ.
– Да что же вам спеть, мужики?
– А что хошь, то и пой.
Прокоп взглянул на Егорку и лукаво улыбнулся:
– Ну а ты, подпоешь ли мне? Али только псалмы петь и горазд?
– Отчего же псалмы? Можно и вашу, молодецкую.
– Ай да чернец! – развеселились пешцы и стали просить обоих: – Спойте лучше про добра молодца.
Нет, не совсем зазря хаживал Прокоп к Луке, не зазря угощал его дьякон березовой кашицей – пусть и рубака из него не ахти, пусть и бежал он от Изяславова конника, а песни его полюбились пешцам, да и дружинники собирались в кружок, едва только слышали его голос.
Хорошо пел Прокоп, но когда подхватил его напев густой басище Егорки, то все сидевшие у костра едва в снег со страху не попадали.
– Вот это да! – качали головами мужики. – Труба, а не голос у тебя, Егорка. И почто ему в церкви пропадать? Иди к нам – и уха тебе будет и первая доля с добычи. А девку тебе такую найдем, что и сотник позавидует.
Хороший народ сидел у костра, так и остался бы с мужиками Егорка, но митрополит был строг и придирчив – назавтра велел он ему петь в церкви заутреню, сам хотел служить молебствие во славу Юриевой дружины.
– Спасибо на добром слове, мужики, – поклонился Егорка. – Еще не раз свидимся.
– Да свидимся ли? – сказал Крив, – Во Владимире тебе, чай, не до нас будет.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
В Киеве в тот год рано сошли снега – теплынь стояла и благодать. А в княжеских палатах жарче прежнего топили печи: Рюрик мерз, кутался в шубу, покрикивал на истопников, чтобы не жалели дров.
В ложнице, как в предбаннике, денно и нощно плавал сизоватый полумрак.
Пиров в тереме больше не правили, бояре редко заглядывали в терем. Один только Чурыня не отходил от Рюрика ни на шаг. Оберегал его от сквозняков, смекал – не дай бог, помрет князь, так ему и подеваться
некуда. А что еще хуже – не потерпят его, расправятся с ним мстительные думцы.
Дошел до него опасный слушок, будто выехал из своей вотчины боярин Славн и не сегодня-завтра объявится в городе. И будто, отъезжая в Киев, он так говорил: «Князь скоро помрет, а Чурыню я сам изведу. Много горя хлебнули из-за него кияне».
Похоже, что это были его слова, а Славн впустую угрозами не разбрасывается, и третьего дня Чурыня отправил своего человека проверить слухи. Ежели Славна и впрямь в вотчине не окажется, то нужно ловить его по дорогам либо в самом Киеве.
И еще одна забота точила Чурыню: по весеннему паводку вернулся из своей поездки во Владимир митрополит Матфей. По пути он гостил в Чернигове у Чермного, но недолго, однако же; о чем говорили они, боярин не знал. Но догадывался: неспроста повадился митрополит по гостям. В прошлый раз просил он позволения у Рюрика и не скрывал, что беседовал со Всеволодом во Владимире и что Всеволод велел кланяться великому князю и спрашивал его, согласен ли он на мир и дружбу с Чермным. В тот раз Рюрик рассердился и выговаривал Матфею за самоволие – на этот раз митрополит даже не пришел к нему с дороги, даже не справился о здоровье. А ведь зимою едва не помер князь, едва его выходили. И в самую ту пору снова Матфей встречался с Чермным.
Все, все в один клубок скручивалось, и одно только смущало Чурыню: неужто не отдаст Всеволод Киева Ростиславу?
Не верилось в это, и верить не хотелось.
Закутавшись в шубу, Рюрик тихо сидел у стола, тоскливо смотрел на боярина.
– Что, князюшко, снова лихо тебе? – заботливо спрашивал князя боярин. – Не велеть ли свечечку запалить?
Рюрик отрицательно мотал головой, тихо отвечал:
– Скучно мне, боярин.
– А ты святое писание почитай, вот и развеселишься.
– Какое же это веселье? Чудно говоришь ты, боярин.
– Чудно, да праведно. Все великие праведники исцеляли себя святым писанием от недугов, изгоняли соблазнявших их бесов.
– Не праведник я, зело грешен, – жаловался Рюрик. – И не спасет меня ни твое писание, ни посты, ни молитвы. Огненная геенна припасена для меня в аду...
– Всем князьям дорога в рай уготована, – говорил Чурыня.
– Да много ли ты знаешь, – криво посмеивался Рюрик. – Сам-то тоже небось побаиваешься – и ты грешен, и ты пролил реки крови, всю жизнь пребывал в суете и лжи.
Никогда еще так не говаривал с ним князь. И от этих разговоров Чурыня смущался еще больше.
Как-то Рюрик ему сказал:
– Нет ли слухов каких от Славна?
И это обеспокоило боярина. Готовясь к смерти, что-то совсем не то припоминать стал князь.
– А что Славну сделается? – сказал Чурыня. – Живет себе, поживает в своей вотчине. Про нас он и забыл.
– Да вот я про него забыть не могу, – вдруг признался Рюрик, – Нынче снова пришел он ко мне во сне, грозился, хмурился, ногами топал...
– Это на него похоже, завсегда был он на тебя в обиде. Поди, и сейчас если и поминает, то недобрым словом.
Про слушок о выезде Славна Чурыня промолчал, но так подумал: «Вещие снятся князю сны».
Тем вечером прибыл к нему наконец-то посланный в Славнову усадьбу человек.
– Ну? – нетерпеливо спросил его Чурыня.
– Всё так, боярин. Нет Славна в усадьбе.
– Да хорошо ли ты поспрашивал? Да всё ли, как надо, проведал?
– Всех поспрашивал, боярин-батюшка. Всю округу излазил.
– И ничего? И никто даже возка его не видал?
– И ни возка, и ни боярина. Ну будто сквозь землю он провалился.
– Та-ак, – протянул Чурыня и своему человеку сказал: – Ищи Славна в городе. Не иначе как обретается он в Киеве у своих дружков.
Когда слухи подтвердились, боярин совсем потерял покой. Ведь понимал же он, что неспроста поднялся старый ворон со своего насиженного гнезда. Значит, почувствовал – запахло мертвечиной, значит, не он один, у есть и еще в Киеве людишки, которым тоже спится и видится, как лежит Рюрик в гробу. Дальние у них
задумки, и уж Чурыню в любом случае они не обойдут вниманием: больно насолил он всем. За все теперь с ним сполна сведут счеты.
Вот почему так он оберегал Рюрика, вот почему и свежего воздуха боялся впустить в князеву ложницу. Покуда Рюрик жив, и ему опасаться нечего. Не даст его в обиду князь...
Да вот не даст ли? Ишь, как старый вдруг заговорил про Славна! Чего доброго, велит к себе звать, приласкает, как в былые годы.
А человек, которому Чурыня доверился, рыскал между тем по посадам и по боярским теремам, у купцов и у слуг по-разному выспрашивал. И к тем лишь купчишкам он приставал, что ходили на Чернигов, – никак не миновать им было в пути Славновой вотчины. Но купцы отвечали, что боярской дружины им не попадалось. Так, может, без дружины, а только со слугами прискакал Славн в город? Нет, и таких видеть не доводилось.
Бродя у боярских теремов, Чурынин человек беседовал с сокалчими и конюшими. Про то, про се заводил речь, а больше про гостей – где какой пир пировали и много ли народу было звано на пир.
Но сокалчие и конюшие тоже уши держали топориком: не очень-то позволяли им хозяева болтать незнакомым людям лишнее. А этот вертлявый и вовсе был подозрителен.
– Ступай, ступай мимо, – гнали его от ворот.
Возле усадьбы боярина Миролюба попался человеку совсем еще юный гридень.
– Здрав будь, добрый молодец, – ласково приветствовал его человек. – Что сидишь, пригорюнился? Али на солнышке греешься, али кого дожидаешься?
– На солнышке коты греются, – с достоинством отвечал гридень, – а я дожидаюсь своего хозяина.
– Дай и я с тобой посижу!
Слово за слово – не только сам был разговорчивый человек, но и кого хошь разговорит. Не учен еще был гридень, всей житейской премудрости не понимал. Вот возьми он да и сболтни: то туда, то сюда пошлют – замаялся я со своим боярином.








