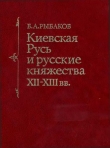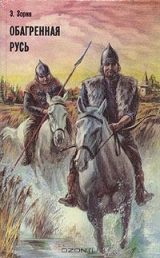
Текст книги "Обагренная Русь"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
– Еще чего выдумал, боярин!
– Постереги, а я тебе перстенек серебряный дам.
– Больно дешево ценишь ты кучу свою, боярин. Не стану я стеречь ее за серебряный перстенек.
– Ну так дам золотой, – скрепя сердце, пообещал боярин.
– Дай сейчас перстенек, тогда и постерегу.
– Экой ты хват, право, – разворчался Домажир. Но уж так ли не хотелось ему расставаться со своей кучей!
– Ладно, – сказал боярин, – бери перстенек, да стереги в оба. Чего не доглядишь, с тебя после спрошу.
– Ну сумлевайся, боярин, – пообещал гонец, любовно примеряя на палец перстенек.
С тяжелым сердцем ушел от своей кучи Домажир, но делать нечего: опасался он Мстиславова гнева.
Князь сидел на скинутом наземь седле перед посадниковой избою в окружении еще не остывших от битвы дружинников. Посадник стоял перед ним, понурясь.
– Ну что, – ехидно спросил его Домажир, – кого нынче признаешь за своего князя?
– Как и ране, признаю над собою Святослава, – упрямо твердил посадник.
– Чего глядеть на него, княже? – повернулся к Мстиславу Домажир. – Долго ли еще терпеть будешь такую дерзость?
– А ты помолчи! – оборвал его князь. – Не для того зван, чтобы давать мне советы.
Домажир обиделся: вот и служи князьям – с утра не знаешь, как повернется к вечеру. Еще и сам во всем виноват будешь.
– По душе мне верность твоя, посадник, – сказал Мстислав. – Ты вот ответь мне: а ежели меня выкликнут на вече, так же верен будешь и мне?
– Ежели выкликнут, ежели присягну, то и тебе верен буду до гроба, – твердо проговорил посадник.
Ответ его понравился Мстиславу.
– Вот, – сказал он всем и задержал взгляд свой на Домажире. – Слышали?
– Как не слышать, княже, – вразнобой заговорили все. Домажир громче всех постарался.
– За верность друзей своих я гривной жалую, а врагов не наказую, – сказал Мстислав. – Ступай и ничего не бойся, посадник. Дел у тебя много. Пущай возвращаются жители в дома свои – прощаю я им невольную их вину. Тебя же, боярин, – повернулся он к Домажиру, – звал я, чтобы скакал ты без промедления в Новгород и так бы говорил новгородцам: «Кланяюсь святой Софии, гробу отца моего и всем вам: пришел я, услыхав о насилиях, которые вы терпите от Святослава, жаль мне стало своей отчины».
Вот и снова повис над Домажиром карающий меч: не хотелось ему скакать в Новгород, где ждали его на расправу, – боялся он, что примут его не как Мстиславова неприкосновенного гонца, а как мятежного боярина.
Но мог ли он не послушаться своего нового хозяина? Чтобы скрыть смятение, низко поклонился князю Домажир:
– Повеление твое исполню, княже.
И побежал трусцой к своей награбленной куче. Тяжелое было у него предчувствие, под ложечкой сосало – так и есть: ни воина, ни кучи на старом месте не было. Только и осталось, что несколько побитых горшков.
Зато рядом другая куча выросла. И сидел на ней другой боярин, причмокивая, раздирал жареную курицу.
– Ты почто это мою кучу под себя перетащил? – закричал Домажир.
– Моя это куча, – спокойно отвечал боярин и бросал под ноги Домажиру куриные косточки.
– Нет, моя, – сказал Домажир и хотел схватить боярина за ногу. Но боярин неподатливый оказался, лягнул Домажира в плечо – тот кубарем с кучи.
Шум поднялся, как на торгу, – сбежались отроки, стали растаскивать бояр. Давешний Мстиславов человек тоже возле них объявился.
– Возвращай перстень, не то пожалуюсь князю! – накинулся на него Домажир. – Ты почто не стерег мою кучу, как сговаривались, а отдал ее другому боярину?
– Окстись, – упрекнул его Мстиславов человек, – никакого перстня ты мне не давал, а всё-то выдумал. Ежели хочешь очернить меня пред людьми, так ничего у тебя из этого не выйдет. Пойдем к Мстиславу и поглядим – позволит ли он унижать тебе своего милостника!
Испугался Домажир: как бы новой беды не нажить, плюнул и ушел восвояси. Добра себе от Мстислава он не ждал: крутенек был торопецкий князь.
4
Словиша на Городище был, когда ударили в вечевой колокол. Прискакал поздно – народ на площади стоял густо, не пробиться к степени. Бояре дело свое тихо сделали, крикунов было много, и никто не вступился за Святослава.
– Мстислава хотим! – неслось отовсюду.
Говорил длинный и тощий Репих:
– Доколь терпеть будем бесчинства? Что хотят, то и творят Святославовы людишки – вчера Ждана с Димитрием Якуновичем схватили, гноят в сыром порубе, завтра за нас возьмутся, повезут на правёж во Владимир, домы наши разграбили, купцам пресекли дорогу за море-океан, жен и дочерей наших бесчестят.
Поди спроси, кого обесчестили, – страху нагонял Репих. За ним вскарабкался на степень Фома:
– Правду сказывает Репих, вовсе не стало нам никакого житья. Владыка Митрофан тож не за нас печется – не выбирали мы его, как ведется в Новгороде, сажали его нам на шею понизовские, дозволения не спрашивали. Да и Твердислав какой посадник? Не в городе живет он, а на Городище, Святославу ино место лижет!
– Хотим Димитрия Якуновича! – заорали в толпе.
Твердислав тут же, на вечевой степени, стоял сам не свой.
Словиша крикнул с коня:
– Дайте Твердиславу слово сказать!
– Неча давать ему слова, – повернулся к Словише чернявый Домажир. – Наслушались его, будя. И ты, Словиша, помолчи-ко, покуда не скинули в Волхов.
– Не, – оборвал его Репих. – Пущай говорит. Пущай скажет Великому Новгороду, как Ждана с Димитрием без вины вязал...
– Пущай скажет! – заволновались в толпе. Просунули к дружиннику требовательные руки, стащили с коня, стали грубо подталкивать к степени.
Словиша поднялся на помост, снял шапку, поклонился на четыре стороны.
– Ишь ты, уважительный какой сделался, – нехорошо засмеялись в толпе. – Чего его слушать? В Волхов – да и всё тут.
У Словиши лицо стало белым, рука взволнованно сминала шапку, но говорил он спокойно:
– Дети вы неразумные. Наслушались своих бояр и рады: случай выпал повеселиться. Да когда же зло вам чинил Святослав? Когда мал и неразумен был или нынче, когда кликнули вы его снова, чтобы привел он к порядку бесчинствующих Мирошкиничей? Не вы ли отказывались погребать прежнего Димитрия и не владыко ли Митрофан вразумлял вас и ходил по городу со крестом, дабы упредить разбой и насилие? И когда посту пал против вашей воли Всеволод? Попросили вы у него Константина – дал вам Константина, попросили снова Святослава – дал Святослава. И посадника вы сами здесь же выбирали. Никто вам его не навязывал. А ежели истинных врагов своих сыскать надумали, так почто ходить далеко – рядом они: Репих с Домажиром да Фома. Это они насильничали и грабили купцов, а сами всё на Святослава сваливали. Это их людишки толкают Новгород к усобице. Отвечайте же: али Всеволод сжигал Торжок, али не Мстиславовых рук это дело? Али не ваши же бояре зорили своих же, новгородцев?..
Ко времени хорошие слова пришли дружиннику на ум. Обычно говорить он был не горазд, а тут все само вылилось. Притихла площадь. Переглядывались люди, понять ничего не могли. Вот вроде бы только что яснее ясного сказывали Репих с Фомой, а поднялся Словиша на степень – и ему такая же вера, и у него все концы сходятся.
Опять взялись за свое крикуны:
– Врет Словиша, не слушайте его, новгородцы. Наши бояре нашу правду говорят, а он из Понизья, человек пришлый. Возьмем в посадники Димитрия Якуновича, отец его всегда за правду стоял. А в князья просите Мстислава Удалого – он Всеволоду не даст у нас своевольничать!
На вече как на море – то в одну сторону качнется волна, то в другую. Пересилила боярская сторона, не было у Словиши надежной поддержки.
– Хотим Мстислава! – самозабвенно орали волосатые рты. – Хотим Димитрия Якуновича!
– Пошли, мужики, Ждана с Димитрием из поруба вызволять!
– В Волхов Словишу!
– В темницу Святослава!
– Под затворы Митрофана! Кликнем другого владыку!..
Одним духом кончали с прошлым. Подталкивая перед собой Словишу, буйной толпой шли к Городищу. Смяли нерешительную стражу, ворвались на двор, растеклись по палатам, все громя и руша.
Бледного Святослава вытащили из постели, вязали дружинников, взламывали замки на порубах – освобождали узников. Димитрия Якуновича со Жданом несли на руках. В освободившиеся темницы запирали ненавистных Всеволодовых людей.
Потом двинулись на Софийскую сторону к владычным палатам. Митрофана в самый раз застали – он уж коня оседлал, пытался бежать. Тоже привезли в Городище и тоже бросили в узилище.
Однако же недолго продержали владыку (трезвые умы возобладали), на следующее утро выпустили, а Святослава с дружиной перевели в Новгород и оставили под стражей во владычных палатах. Побоялись все же его отца и держали под залог, покуда не въедет Мстислав.
Мстислав въехал с честью и был по древнему обряду посажен на новгородский стол. Твердислава прогнали, Димитрия Якуновича в тот же день избрали посадником.
Никогда еще не были новгородцы так близки к осуществлению своей давнишней мечты. Сладкой жизнью зажил боярин Ждан. Перепадали лакомые куски и Домажиру, и Репиху с Фомой.
Для Словиши испросил Ждан у князя особой чести – взял его из владычных палат и препроводил в поруб на своем дворе. Кормил его, как собаку, объедками со стола, каждый день над ним измывался.
– Погоди, как уладимся со Всеволодом, – обещал он, – я тебя на цепь посажу возле своего крыльца. Пущай все знают, каков боярин Ждан, – другим неповадно будет поднимать на него руку.
– Ну-ну, – отвечал Словиша, – как бы цепь та не на тебя самого была кована. Всеволод обид не прощает, сына своего в беде не оставит, а Мстиславу путь укажет обратно в Торопец. Я моего князя знаю, недолго вам ждать осталось...
– Поспешаешь, Словиша, – засмеялся Ждан. – Тогда, чтобы поздно не было, нынче же повелю приковать тебя к крыльцу.
И угрозу свою исполнил. Пришли как-то утром ковали, принесли тяжелую цепь, одним концом взяли в оковы Словишину ногу, другой конец прикрепили ко всходу, бросили дружинника на снегу.
Вечером пьяные бояре кидали Словише с крыльца кости.
– Как, скоро придет вызволять своего дружинника Всеволод? – кричал, размахивая чарой, Ждан.
– Зверь ты лютый, а не человек, – отвечал Словиша. – Не всё ты сверху, придет и мой час – помни.
Прознал о бесчинствах Ждана владыка, отправился к Мстиславу, стал обличать его в присутствии передних мужей:
– Так-то начинаешь ты в Новгороде свое княжение! Судят бояре твои без суда, над достойными людьми измываются, словно рабов, сажают у крыльца своего на цепь. Сроду такого не слыхано было на Руси.
Мстислав выслушал его, не перебивая, тут же велел коня себе подавать, поехал с владыкой к Ждану. Глазам своим не поверил: и верно – сидит дружинник у боярина на цепи, вокруг кости разбросаны.
Схватил за бороду Ждана князь, тряс его, разгневанно кричал в лицо:
– Самого на цепь, самого в порубе сгною!
– Эко ты, батюшка, разгневался, – с трудом оправился все еще хмельной со вчерашнего перепоя Ждан. – Подшутил я над Словишей, а владыко сразу в колокол! Нехорошо, святой отец, ай как нехорошо по пустякам беспокоить князя.
Отковали дружинника, три дня пребывал он в беспамятстве на владычном дворе, едва выходил его Кощей, едва отмороженную ногу спас.
В последние дни зачастил на Софийскую сторону Твердислав. Ждан к нему милостив был, – как забрал у него князь Словишу, так он и бывшего посадника выпустил из поруба: не хотелось еще раз иметь дело с Мстиславом.
Приходил Твердислав на владычный двор, подолгу сидел возле Словиши.
– Упреждал я тебя, – говорил он, – а ты меня не послушался.
– Худо упреждал, – отвечал Словиша, – Не то бы и по сей день все шло по-старому. Хотел ты всякому люб остаться. Небось и Ждану обо мне исправно доносил?
– И как только язык у тебя поворачивается! – притворно возмущался Твердислав. – Бывал я у Ждана – в том винюсь. Но ведь тоже, чтобы тебе угодить.
– Ты сказки-то свои для батюшки своего оставь, – устало отворачивался к стене Словиша. – Батюшка у тебя шибко мудрым был – с него вся непогодь и началась. Ну да ничего: переболит, переможится. Вернется за сыном Всеволод – все по местам своим, как было, расставит...
Еще неприветливее встречал бывшего посадника
Митрофан. Теперь Твердиславу и лесть не помогала – гнал его от себя, стуча посохом, владыка:
– Изыди, сатана!
Нашумевшись вдоволь, новгородцы тоже стали трезветь. Оглядываясь, почесывали затылки: и кого это посадили они себе на шею? Нынешний Димитрий еще хуже прежнего был. Тот хоть своим худым умом пробавлялся, а Якунович шага не ступит, не посоветовавшись со Жданом. Нет, не отцова у него была хватка – тот собою помыкать никому не давал, всем при нем была полная воля. Теперь же только Ждановы дружки с прибытком, ходят возле князя, как тень, никого к Мстиславу и близко не подпускают...
Притих Великий Новгород, притаился – ждал перемен, ждал вестей из Понизья. И то, что молчал Всеволод, то, что не слал гонцов, не могло обмануть привыкших к его крутому нраву новгородцев: собиралась гроза. И скоро донеслись первые раскаты грома.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
– Вот что, дьякон, – сказал Всеволод Луке, – ты своего Егорку от меня не прячь.
– Да как же осмелюсь я, княже, – говорил, стоя перед ним на коленях, дьякон. – Все мы дети твои, а ты нам отец родной.
– Тогда почто не прислал Егорку, как я повелел?
– Болен он был, голоса лишился.
– А нынче?
– Нынче здоров.
– Ну так веди на мой двор. Сам знаешь, прибыл во Владимир митрополит. Нешто ударим перед ним лицом в грязь?
Вернувшись домой, прямой и торжественный, Лука сказал сидевшему у него Егорке:
– Собирайся, да поживее: кличет тебя князь в свой терем.
– Боязно, дяденька, – сжался Егорка.
– А ты не боись, – наставлял его Лука. – Не на правёж кличет князь, а на великую честь: сам митрополит Матфей послушать тебя захотел. Ишь, куды донеслась молва!
Незаметно пролетело время. Давно ли взял Лука Егорку к себе в обучение, давно ли потчевал его за провинности березовой кашей, а теперь на голову перерос малец своего учителя, да и мальцом его уж больше не назовешь (это один только Лука еще себе позволял по старой памяти): широко раздвинулся в плечах Егорка, и не пушок, а пробилась на его щеках пушистая бородка, голос не только не утратил своей прежней силы, но еще сильнее сделался, и сам Лука это признавал: на торжественных службах в Богородичной церкви уступал ему свое место.
В гости к Всеволоду наряжала Егорку хлопотливая Соломонида: перво-наперво извлекла из ларя новый кожух (давно уж купила на торгу – берегла для торжественного случая), в самый раз пришелся кожух Егорке – в рукавах не жмет и по длине в самую пору. Потом достала мягкие сафьяновые сапожки (не в чеботах же идти на княжий двор) – и сапожки были Егорке по ноге. Лука перепоясал его широким усменным поясом – носи, Егорка, радуйся, ничего для тебя не жаль. Вот только коня у дьякона не было, а то бы проехался Егорка по городу не хуже любого дружинника.
Однако от Волжских ворот до детинца и так рукой подать – робко ступил Егорка на княж двор. Растерялся он: встречали его на княжом дворе два отрока, едва не под руки, как почетного гостя, ввели на всход.
В сенях Всеволод ждал его, рядом в высоком кресле сидел почтенный старец с белой бородой до пояса, с серебряным посохом в руке, с добрыми выцветшими глазами на темном сморщенном лице.
Низко поклонился князю Егорка, с почтением приблизился к руке митрополита. Матфей благословил его.
– Наслышан, зело наслышан я о тебе, – проговорил он надтреснутым голосом и коротко взглянул на Всеволода.
– Хощет в службе тебя попытать митрополит, – сказал князь Егорке, – но я так мню – еще и до службы не порадуешь ли нас? Вот и княгиню думаю я кликнуть, и Юрия с Владимиром и Иваном.
Польстило Егорке ласковое обращение Всеволода, опустил он глаза, едва пролепетал закосневшим языком:
– Как повелишь, княже.
Тотчас же отворил Всеволод дверь и что-то шепнул подскочившему отроку. Покуда княгиня с детьми не пришла, стал расспрашивать Егорку:
– Сказывали мне, живешь ты у Луки?
– Всё так, княже.
– А не обижает тебя дьякон?
– Как можно, княже, – возразил Егорка. – Лука – человек добрый. И Соломонида со мной ласкова.
– А то слышал я, шибко строг дьякон? – продолжал Всеволод.
– Не без этого, княже, – все более осваиваясь, смелее отвечал Егорка, – да кака же учеба без строгости?
– И то правда, – кивнул князь. – Жигуча крапива родится, да в хлебове уварится. Добрых выучеников дал земле нашей Лука.
В сени вошли Любовь и Всеволодовы сыны. Юрий был ростом с отца, да и Владимир с Иваном мало в чем уступали ему.
– Вот, Матфей, моя поросль, – сказал Всеволод митрополиту. – Старший-то, Константин, нынче на пути из Ростова, а Святослав в Новгороде сидит взаперти на владычем дворе. Не дело замыслил Мстислав, да я ему не спущу. Сынов отправлю с дружиной – пущай сами братца своего вызволяют.
– Хороши у тебя сыны, – кивнул Матфей и благословил их. – Все один к одному. А Мстислава я тоже не одобряю – дело твое правое.
– Скоро ли выйдем в поход, батюшка? – обратился к отцу Юрий.
– Аль не терпится? – заулыбался Всеволод.
– Так доколь Святославу в узилище томиться?
– Вот дождемся старшего, он и возглавит рать, – сказал Всеволод.
– Кабы не замешкался Костя, так были бы мы уже под Торжком, – заметил Юрий и насупился.
– Все к старшему меня ревнует, – по-домашнему просто объяснил митрополиту Всеволод. – А ты не ревнуй, не ревнуй – на то он и старший...
– И без него бы управились.
– То ли управились бы, а то ли и нет. Как знать? – сказал Всеволод наставительно. – Скороспелка-то до поры загнивает.
Покуда шел у Всеволода с сынами свой разговор, Егорка глаз не спускал с молодой княгини. Знал он прежнюю жену Всеволода Марию, часто видел ее в монастыре у Симона: привозили ее к игумену, немощную, худую и желтую с лица. Но глаза у нее были добрые.
И сердце было доброе: всякий раз щедро одаривала она чернецов и иноков. Егорка тоже получал от нее подарки и целовал ей руку. До сих пор помнит он, как пахла ее рука воском и ладаном.
Лицо молодой княгини дышало здоровьем. Высокая грудь с трудом умещалась в расшитом бисером сарафане, светлые волосы со старанием убраны в осыпанную драгоценными каменьями кику, руки белы, с розовыми блестящими ноготками.
Егорка невольно вздрогнул, когда его окликнул Всеволод. – пора было начинать: все уже расселись вдоль стен на лавках, князь – сбоку от митрополита, Юрий, Владимир и Иван – у самого входа. Юрий подрыгивал ногой и смотрел на Егорку исподлобья – неожиданный вызов отца оторвал его от своих дел, Иван разглядывал носки своих аккуратных сапожек, Владимир рассеянно смотрел за окно, княгиня, сложив руки на коленях, улыбалась, слегка приоткрыв губы.
– Что петь повелишь, княже? – обратился он к Всеволоду.
– Пущай митрополит скажет, – ответил князь и повернулся к Матфею. Тот сидел, полузакрыв глаза, и молчал.
Тогда, еще чуть-чуть помедлив и прокашлявшись, Егорка начал свой любимый псалом из «Песни песней». Митрополит вздрогнул и удивленно вскинул на него глаза.
Говорил Егорке Лука, чтобы он расстарался для князя. Расстарался Егорка, сам себя превзошел – голос его звучал светло и ясно, как никогда.
Впалые щеки митрополита окрасились румянцем, княгиня выпрямилась на лавке, вся подалась вперед, судорожно сцепив на коленях пальцы рук. Юрий замер, не отрывая глаз, зачарованно смотрел на Егорку. Притихли Иван с Владимиром. Всеволод сидел, откинувшись, и то свет, то тени пробегали по его обмякшему лицу.
Пел и пел Егорка, и никто не остановил его. А когда кончил и обессиленно опустил руки вдоль тела, долго еще стояла в сенях нетронутая тишина.
Первым хрипло заговорил Матфей:
– Ну, порадовал ты меня, отроче. Сроду голоса такого не слыхивал. Много сказывали мне о владимирских чудесах, любовался я лепотою ваших храмов, а нынче
вижу – нет у меня в Софии киевской такого распевщика. Ехал я сюды – думал, на окраину Руси, а оказалось – в самое сердце. Порадовал, уважил ты меня, княже...
Всеволод ласково оглядел Егорку.
– Что, шибко понравился тебе мой распевщик? – прищурившись с хитрецой, обратился он к митрополиту.
– Не человечий – божий дар у него, – сказал Матфей.
– А хошь, отче, отдам тебе моего отрока?
Побледнел митрополит, посмотрел на князя с недовернем:
– А не жаль?
– Еще как жаль. Но не простой ты гость у меня – чем за честь такую тебя еще отдарю?
– Смотри, ввечеру не раскайся, княже.
– Бери отрока с собою в Киев, – вспоминать меня добрым словом будешь, – сказал Всеволод и, встав, положил руку на плечо обомлевшему от радости и от страха Егорке: удача-то какая – в киевской Софии петь! Но как жить он будет на чужбине без Луки? Чай, слезами изойдет привязавшаяся к нему Соломонида!..
– Вижу я, шибко возликовал отрок, – сказал, покачивая головой, митрополит. – Ты его спроси, княже, хощет ли он ехать со мною в Киев
– Куды как жалостлив ты, отче, – рассмеялся Всеволод. – Да нешто стану я у всякого спрашивать, согласен ли он исполнить мою княжескую волю?! Ступай, Егорка, к митрополиту да служи ему верой и правдой. А ежели возвернет он тебя во Владимир, так я с тебя строго взыщу, – и он подтолкнул распевщика к Матфею.
– Спасибо тебе за щедрый твой дар, княже, – сказал митрополит с дрожью в голосе и, как собственность, придирчиво оглядел Егорку. – А ты, отроче, не грусти – жить тебе в Киеве будет вольготно.
У Егорки дрогнули губы. Всеволод улыбнулся:
– Что, с Лукою не хошь расставаться?
– Жалко мне дьякона, – признался Егорка.
– Все равно не век тебе жить при Луке, – сказал Всеволод. – Стар он стал, немощен. А Матфей о тебе позаботится.
Митрополит согласно закивал головой.
– Покуда ступай к дьякону, простись с ним, – продолжал князь. – Ввечеру петь будешь в моем соборе, а заутра с богом тронетесь в путь.
2
Не просто в гости приехал к Всеволоду Матфей. Трудный у него был разговор, а все начиналось в Киеве.
Прибыл к митрополиту посланец от черниговского князя Всеволода Чермного – тайно прибыл, опасаясь Рюриковых пронырливых доносчиков.
Согнав Чермного с великого стола, снова вошел в прежнюю силу Рюрик, – с той поры, как постриг его Роман, много накопилось у него гнева, со многими не терпелось свести давние счеты. Перво-наперво прощупал он своих старых бояр: Славна, за то что воеводою был при Романе, выслал, на место его посадил Чурыню: забыл, как предавал он его в Триполе, Стонеговым байкам поверил. А Стонег все говорил по Чурыниной подсказке: надоело ему сидеть в порубе, потянуло на волю, к Оксиньице.
– Вот оно, – говорил Рюрик, с жадностью внимая его лживым речам. – В беде познаются друзья и недруги. Еще тогда усумнился я в верности Славна, а теперь вижу, что не ошибся. Ступай, Стонег, в Триполь, а ты, Чурыня, отныне будешь моею правой рукой.
Не зря чуть не каждый день навещал Чурыня Рюрика в монастыре, не зря нашептывал ему, чтобы скинул с себя монатью. Есть, говорил он ему, княже, еще у тебя преданные людишки – не навсегда потерян киевский стол. А Романа зарезали ляхи – так подвинь сына своего из Киева, отомсти Галичу.
Хотел Рюрик и жену свою с дочерью взять из монастыря, но те отказались. Тогда, сев на Горе (сын противиться ему не посмел), соединился он с Ольговичами и пошел отнимать наследство у Романовых сыновей.
Вот что значит сказанное ко времени доброе слово: нагнал он страху на галичан. И не беда, что в битве на Серете не удалось ему одолеть своих врагов, не беда, что после временно сел на киевский стол Всеволод Чермный, а Рюрик удалился в Овруч, – такое и раньше бывало. Главное, скинул он с себя смирение, силу почувствовал, понял, что еще рано ему на покой. И верно: скоро выгнал он Чермного и теперь никому уж боле не собирался уступать свое место.
Однако же осмотрительнее стал Рюрик – с годами пришла к нему запоздалая мудрость: ревниво следил он за своими недругами, радовался, что и в Рязани побил
Всеволод Ольговичей, клялся владимирскому князю, вечному заступнику своему, в любви и верности.
И не знал Рюрик, что недалеко отсюда, в митрополичьих палатах сидел в это время и беседовал с Матфеем гонец из Чернигова.
– После смерти Романовой великая настала смута в нашей земле, – говорил он митрополиту, – и хощет мой князь пресечь ее, не дать снова разгореться вражде между Ольговичами и Мономашичами. А как сделать сие? Вся надежда на тебя, Матфей. Просит тебя Чермный ступать во Владимир ко Всеволоду, дабы склонить его к миру. Многие убытки потерпела наша земля: князья рязанские до сих пор томятся в оковах, в неволе епископ Арсений. Ежели освободит их Всеволод и не будет держать против Чермного зла, клянется князь мой ходить по всей его воле.
Опытного гонца отправил в Киев Чермный, сумел он убедить митрополита.
Тогда отправился Матфей к Рюрику и сказал ему, что намерен по церковным нуждам навестить Митрофана в Новгороде, а также Арсения во Владимире, – истинную причину он от князя скрыл.
Насторожился Рюрик, но слишком далек он был от мысли, что вступил митрополит в сговор с Чермным, – долго выспрашивал у Матфея, что за нужда. Матфей был готов к этому, отвечал бойко. Рюрик дал ему дружину – ступай, отче, передай от меня поклон Всеволоду.
Поклон Всеволоду митрополит передал, а разговор повел хитрый и трудный. Стал выгораживать перед князем Арсения, долго и нудно описывал его добродетели.
Всеволод прервал его:
– Вижу, с нелегким делом прибыл ты во Владимир, отче. И чем ходить вокруг да около, сказывай прямо. Догадался я, что не Рюриком послан ты ко мне.
– Верна твоя догадка, княже, – сказал митрополит. – Приехал я не от Рюрика. И забота моя не токмо об Арсении – хощу я видеть плененных тобою рязанских князей.
– Хорошо, князей ты увидишь, – ответил Всеволод, – но для чего они тебе? Пребывают они в полном здравии и ни на что не жалуются. А в невзгодах своих сами виноваты. Не я на них, а они на меня. Что же мне делать оставалось, когда вызревал за моей спиною коварный заговор?
– В своих поступках ты сам себе господин, – сказал Матфей. – И не обсуждать их приехал я к тебе, а взывать о милосердии. И послан я черниговским князем.
– С этого и начинать надо было, – нахмурился Всеволод. – Так чего же ждет от меня Чермный?
– А ждет он от тебя мира, – сказал митрополит.
– Хитер князь, – улыбнулся Всеволод. – Сам затеял вражду, гнал сына моего Ярослава из Переяславля, Рюрика свергнул с Горы, а теперь взывает о мире? Не потому ли, что снова замышляет усобицу? Не потому ли, что не может смириться с потерей Киева? Прав был Рюрик, что не стал терпеть его на старшем столе.
– Твой стол ныне на Руси старший, – сказал митрополит. – И еще раз говорю тебе, княже: не поехал бы я в такую даль, ежели бы не поверил Чермному. Боле не покусится он на Рюрика, а сам помириться с ним не может.
– Значит, я помирить их должен?
– Ты, княже.
– А залогом мира станут рязанские князья?
– Всё так.
– Ну, а ежели Чермный просит мира, почто я-то должен перед ним заискивать?
– Чермный клятву верности тебе дает и впредь обещает ни против Рюрика, ни против кого другого из Мономашичей зла не замышлять. Но каков же мир, ежели Ольговичи томятся в неволе?
Всеволод задумался. Была в словах митрополита своя правда. И верно: каков мир, ежели Ольговичи у него в плену? Мир так мир – все должны разойтись по своим уделам довольные. И все-таки не зря учила его жизнь осторожности. Не сказал он митрополиту ни да ни нет.
Первой беседой недоволен остался Матфей. Зато хорошо понял Всеволод – слишком зыбки были обещания Чермного.
Тогда стал он просить свидания с рязанским епископом Арсением.
Всеволод не противился. Свиделись духовные пастыри. Давно не встречал Матфей рязанского епископа – сильно изменился за последние годы Арсений, мрачным стал, озлобился. Всеволода грязными словами поносил.
– Вижу я теперь, что прав владимирский князь, – со скорбью сказал Матфей. – Как допустить тебя к пастве?
– Не Всеволоду я служу, а своей земле, – возразил Арсений. – Почто пожег он Рязань?
– Сами вы пожгли свою Рязань, – сказал митрополит. – Был к вам Всеволод милостив, поверил в твою клятву, когда просил его повернуть войско.
Арсений молчал.
– А как поступили вы после? Как бояре распорядились? – повысил голос Матфей. – Приняли сына его Ярослава с честью, но токмо для виду: сами давно уже приготовили ему вместо княжеских палат смрадный поруб...
– Не стал он с нами советоваться, правил по всей отцовой воле...
– А по чьей воле должен был он править? Это вы отцу его давали клятву. За то и пощадил он Рязань – лишней крови не хотел, а вы кровью бредили. Знаю я, как расправлялись с Ярославовыми дружинниками. Мало того, что кинули их в узилища, так еще присыпали землей.
– Жестокости этой я противился, – оправдывался Арсений.
– Так не послушались тебя! – Матфей провел ладонью по лбу. – И после этого еще не пожег Рязани Всеволод, вышел с вами на ряд, уговорить вас хотел... Так нет, сызнова возгордились рязанцы, говорили буйно по своему обычаю и непокорству. Что оставалось Всеволоду? И дале терпеть вашу измену?
– Наши князья – Ольговичи...
– Вот и зорите Русскую землю. Думал я, ты князей своих поумнее, да, знать, ошибся.
Встал Матфей во гневе, чтобы уйти, но кинулся ему в ноги Арсений:
– Помоги, отче, вызволи! Не дай пропасть в неволе!
– Да как же я вызволю тебя, – задержался митрополит, – ежели упорствуешь ты? Как поручусь я за тебя перед князем?
– Каюсь, отче. Помутило мне рассудок...
– Молись. Простит тебя бог, так и князь пожалеет. А покуда возвращаюсь я к себе ни с чем. Мог бы и не ехать. Одному только радуюсь, что взглянуть довелось на Всеволодов чудный град. И думаю я так: не откуда боле – отсюда пойти новой Руси. Светлый разум у здешнего князя, дай бог ему долгих лет!
С тем и покинул распростертого на полу Арсения. Всеволоду Матфей честно сказал:
– Прав ты, княже, что не поверил одним словам. Так и передам я Чермному.
– Еще бы погостил, отче, – стал упрашивать его Всеволод.
– И не проси. Хватится меня Рюрик, заподозрит неладное, а я не по сговору у тебя.
– Вона как, – сказал князь, – Выходит, Рюрик об истинных твоих замыслах и не догадывается?
– Побоялся я открыться ему. Побоялся, что хуже будет. И ты пойми меня, княже, – не с простым прибыл я к тебе делом.
– Ну так передай Чермному: за спиною Рюрика на мир с ним я не пойду.
– Все передам, – пообещал митрополит.
Большой пир был перед его отъездом из города. А до того стояли торжественную службу в Богородичной церкви.
Последний раз пел Егорка во Владимире, последний раз оглядывал замутненным слезами взором украшенные коврами княжеские полати, сверкающие позолотой иконостасы, киворий и расписанный ликами святых просторный купол.
Далекий лежал перед ним путь, и все, что было с ним до сих пор, оставалось в потревоженной памяти.
Соломонида накануне испекла для Егорки последний свой пирог с грибами. Лука к пирогу почти не притронулся, пил мало, но глаза у него были соловые и печальные.