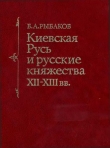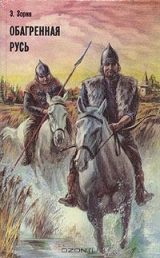
Текст книги "Обагренная Русь"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
– Всему в жизни свой срок, Егорка, – говорил он, ероша молодому распевщику волосы на затылке. – И не мучай себя напрасно, что покидаешь нас. Не сегодня, так завтра все равно это должно было случиться. И не век я буду подле тебя. А Киев – та же Русь. Оглядись, науку мою не позабудь, собери вокруг себя голосистых отроков – с них вторая жизнь твоя начнется, как моя в тебе продолжается...
Утром двинулся митрополичий обоз из детинца через Золотые ворота на Москву.
Много народу высыпало на улицы провожать Матфея. Всеволод ехал рядом с митрополитом до Поклонной горы. Здесь прощался с ним, принимал благословение. Дальше провожала обоз одна только дружина.
Сидя на санях лицом к задку, Егорка жмурил глаза от яркого света, старался подольше не потерять из виду золотую маковку надвратной церкви Положения риз бо гоматери. Но кони тащили под уклон, дорога виляла из стороны в сторону, и скоро всё вокруг заступили покрытые снегом кудрявые сосны.
3
Перед детинцем – столпотворение. Все смешалось в движении: съехались во Владимире Константин и Юрий с Ярославом, а с ними их дружины. Прибыли они по зову отца своего – великого князя Всеволода. Нечего Мстиславу на чужой пирог рот разевать, говорили в народе. Славная будет потеха – не усидеть торопецкому князю в Новгороде. Разве супротив такой-то силищи ему устоять?! Вона какие молодцы собрались: один другого приметнее. Все в доспехах и при оружии, кони кормлены отборным овсом, стяги полощутся на ветру, гудят барабаны и рожки, зычно покрикивают сотники...
Но приметливый глаз выхватил из общего скопища и другое: владимирская, суздальская и ростовская дружины старались держаться порознь, пререкались друг с другом. Дружинники ревниво оглядывали соседский строй, вели себя гордо и независимо. Неприязнь, установившаяся между княжичами, передавалась даже простым воинам. Кое-где, подальше от детинца, дело доходило до кулачного боя.
Проезжая с епископом в возке через город, Всеволод цедил сквозь зубы:
– Вона до чего докатились. Будто чужестранцев свела судьба под одной крышей.
– Ничего, княже, – успокаивал его Иоанн. – Вот пойдут на Мстислава, так свои обиды забудутся. Что ни случись, а тебя сыны не посрамят.
– Уже посрамили, – оборвал его князь.
Иоанн не сразу нашелся что ответить – тревога Всеволода была обоснована. Так и промолчал епископ, только глухо кашлянул и прильнул лицом к оконцу возка.
Всеволод тоже притих – казалось, задремал. Но епископ знал, что это обман: просто забылся князь, ушел в свою неотступную думу – и так все чаще и чаще случалось с ним в последние дни.
Когда-то казалось Иоанну, что знает он все помыслы князя, гордился этим и даже решался советовать Всеволоду: это-де во благо, а это во зло. Ныне же душа ста рого князя была темна и смятенна. И епископ, страшась недалекого будущего, самого себя уже вопрошал, и не раз: что вызревало во Всеволодовом сердце? Какое решение взрастало в темнице его мыслей?
Что разрывалось его сердце между сынами – об этом епископ знал. Не проходило и дня, чтобы не вспомнил Всеволод о Константине или Юрии. Однако же, будучи в других своих делах дальновиден и мудр, миря между собою кровно ненавидевших друг друга князей, не мог он помирить единоутробных братьев, плоть от плоти его, продолжателей мечты его и ратных дел.
Никто не знал, как тяжело думалось Всеволоду: неужто не разум, а рок стоит за деяниями нашими?.. С младенчества внушал Всеволод сынам свои мысли, да и сами они видели всю пагубность усобиц и раздоров. Но прошли годы, и новая усобица зарождается не где-нибудь, а в самом Всеволодовом терему!.. И порою, измученный, во мрак пустой ложницы шептал князь: почто не вечен он, почто? И не малодушие это было пред неизбежным – все мы смертны, – а бессилие перед незнаемым.
Жить бы да жить ему: собирать землю, крепить рубежи, ставить храмы и города. Так нет же – все сгинет во прахе, как было и до него, все возвратится на вечные круги своя... Неужто в этом и скрыта вся мудрость человеческой жизни?
– Господи, просветли, – украдкой молился Всеволод, – за что наказуешь мя?..
Смятенность эта была непонятна Иоанну. Был он человеком от земли (далеко ему было до Микулицы, наставлявшего Всеволода в юные годы!) и знал нехитрую истину: всё, что вокруг, – всё от бога. Нынче Всеволод сверху, а завтра, глядишь, возвысится кто иной. Нынче Владимир главный город, завтра – Ростов. На том стояла Русь, на том и будет стоять вовеки. Собирал вокруг себя лоскутные уделы Ярослав Мудрый, собирал Мономах, а после сколько перебывало в Киеве разных князей! Все летописание, уходящее во тьму веков, – все та же усобица и раздоры... Лишь временами щемило и жгло Иоанна смутное беспокойство, но объяснить его он не мог и Всеволода так до конца и не понял.
Возок подъехал к детинцу, стражники бросились отворять ворота, вокруг засуетились люди, послышались голоса; князь встряхнулся, вышел из возка, поднялся на всход, епископ проследовал за ним через весь терем в покои, где их уже ждали молодые князья.
Сошлись бояре, расселись по своим местам, ждали, что скажет Всеволод.
Опередив отца, первым нарушил молчание Юрий.
– Благослови, батюшка, – нетерпеливо сказал он. – Прибыли мы все по твоему зову. Когда повелишь выступать?
Всеволод ответил не сразу, долго глядел на сына, потом задержал свой взгляд на старшем, Константине.
– Ты почто молчишь? – обратился он к нему.
Константин открыл было рот, чтобы ответить отцу, но тут снова опередил его Юрий:
– И еще тако мыслю я, батюшка, – сказал он, – пущай всяк останется со своей дружиной. Поглядим, кому большая выпадет удача...
Константин укоризненно взглянул на брата. Всеволод напрягся. Сидевший рядом с ним епископ покачал головой. Бояре выжидали.
– Что же ты, Юрий, – неожиданно тихим голосом заговорил князь, – что же ты, Юрий, предлагаешь неразумно? От тебя ли выслушивать мне такое?.. Нешто не пошла тебе впрок моя наука? Или хочешь повторить Игорев великий позор, когда замыслил он один присвоить себе всю славу, а вместо этого угодил половцам в сети?..
– Не против половцев идем мы, отец, – попытался возразить ему Юрий.
– Молчи! – вскипел старый князь. – Молчи и слушай, покуда жив я. Мстислава торопецкого шапками не закидать. На поле брани равного ему нет. Побив тебя, побьет он и Константина. А ежели выступите вместе, не решится он на неравный бой, без крови уступит Новгород...
– Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его, – тихо произнес епископ.
– Вот-вот, – быстро взглянул на него Всеволод и снова обратился к Юрию. – Начав делить с братом общую славу из гордости, из гордости же поделите и всю нашу землю.
Бесполезно было спорить с отцом, да и правым себя в этом споре молодой князь все равно не чувствовал. Просто обидно ему вдруг сделалось: что, так и быть всю жизнь у Константина на побегушках, так и глядеть, что достанется ему из его руки? Лучше бы родиться ему молодшим и неразумным, как Иван...
Была трещина между братьями – разрасталась она в бездонную пропасть. И не задумывался Юрий, кто в этом виноват, – во всем винил одного только Константина.
«Пущай, – подумал он, бросая на брата хмурые взгляды, – еще поглядим, каково управится он со Мстиславом. Это ему не книги читать да вести умные беседы с монахами. Поглядим».
Глаза братьев встретились. Юрий поклонился отцу и вышел, придерживая рукою меч, на крыльцо.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Ни вон, ни в избу живут Константин с Агафьей. То тепло и солнышко светит, а то снова нагрянет зимняя стужа.
С тех пор, как появилась во Владимире молодая Всеволодова жена Любаша, с каждым днем все больше менялся Константин.
Уж так ли старалась Агафья, щечки румянила, лучшие надевала сарафаны, а редко когда заметит ее Константин, редко когда одарит ласковым взглядом – будто и не прожили они с ним вместе столько лет, будто и не она народила ему здоровеньких сынов-крепышей.
После отъезда в Ростов вроде бы оттаял он чуть-чуть, а возвратились во Владимир – снова принялся за старое.
Пробовала выговаривать ему Агафья:
– Куды глаза пялишь, Костя? Чай, не одни мы. Чай, не слепые вокруг нас. Стыдно.
– А ты бы помолчала, – огрызался Константин. – Эко в твой бабий ум втемяшилось – куды как мало у тебя иных забот, только что за мною приглядывать.
– Да что за тобою приглядывать, – всхлипывала Агафья. – За тобою и пряглядывать не нужно – весь ты и так на виду. Вон и батюшка, поди, серчает – ему-то каково?
Зря старалась она – падали слова ее в пустоту. Константин с досадой отмахивался:
– Нишкни.
Молчала Агафья, терпеливо ждала: ладно, мужики все одинаково скроены. Пройдет время – образумится Константин.
Да не тут-то было.
Как-то Юрий остановил ее на гульбище, пытливо заглянул в глаза:
– Что-то закручинилась ты, Агафья. Глаза печальные, похудела. Не захворала ли?
Вспыхнула Агафья, поняла: все знает и все видит Константинов брат. Заплакала, закрыла лицо руками. Но тут же спохватилась, смекнула: не из жалости посочувствовал ей Юрий, что-то выведать хочет. И, вытерев слезы со щек кулачком, отвечала с достоинством:
– И верно, неможется мне. Должно, сквознячком продуло.
Подобрав сарафан, хотела уйти, но Юрий заступил ей дорогу. Сделала вид, будто осерчала, Агафья.
– Пусти. Полно озоровать-то.
– Али я один озорую? – усмехнулся Юрий, заглянул ей в глаза:
– Не ветерком тебя продуло, Агафья.
– А кабы и не ветерком, тебе-то что за забота! – сказала она.
– Забота у нас общая, – не отставал Юрий. – Что в дому неладно, то всем попрек.
– Вона что выдумал!
– Кабы выдумал, а то и отроки шепчутся промеж собой.
– Да о чем же шепчутся-то?
– А о том и шепчутся, что неладное с Костей творится. Аль одна ты и бродишь в потемках?..
– Пусти-ко, – отстранила Агафья Юрия и, стараясь держаться прямо, вступила в терем.
У себя в ложнице дала она волю слезам. Обидно ей было. Старалась гнать от себя воспоминания о Константине и не могла. Сама себя все эти годы обманывала. Даже когда прискакал в Ростов гонец от Всеволода и екнуло у нее сердце от дурных предчувствий, даже и в тот день сказала она себе: «Пустое. Не оттого обрадовался Константин, что увидит Любашу, а оттого, что зван отцом».
Зимняя дорога во Владимир была скучна и утомительна. Утопали в снегах редко встречавшиеся деревень ки. Ночами, на привалах, лежа одна в постели, Агафья с холодеющим сердцем прислушивалась к завыванию ветра, к волчьим, исполненным неземной тоски голосам.
Все это плыло в тумане, одно вспоминалось отчетливо: как-то раз вошел в избу Константин – шуба залеплена снегом, снег на валеных сапогах и на шапке. Не раздеваясь, сел на постель, на смятое беличье одеяло, безумным взглядом обшарил лицо Агафьи, холодными ладонями обхватил ее за спину, приподнял, стал целовать в глаза, в щеки и в губы. Шептал что-то невнятное. А она не обрадовалась, испугалась, отстранилась от него, стала вырываться. Он обнимал ее все сильнее, давил ее тяжелым телом, шарил ладонью под рубашкой, впивался ртом в ее сомкнутые губы...
Радоваться бы ей тогда, обнять бы и ей мужа, но не превозмогла себя Агафья, мимолетное счастье упустила, а может быть, с того бы и началась у них новая жизнь?
Скоро Константин отрезвел, отстранился, опустил руки, сидел молча, и снег, тая, осыпался с шапки и с воротника на пол.
Агафья только тут спохватилась, стала ластиться к нему, шапку с него сняла, взъерошила кудри, и жалость забилась в ней, и слезы на руку его – кап-кап.
– Глаза у тебя, Агафья, на мокром месте, – сказал забирая руку из ее ладоней, Константин, встал, стряхнул с шубы остатки снега, вышел, хлопнул дверью.
Вскочила, бросилась за ним Агафья, босая, выбежала в сени, но и вторая дверь закрылась перед самым ее носом, а когда приотворила она ее, колючий ветер метнул в лицо, ожег ей щеки; только и услышала, как за метелью похрустывают, удалаяясь, тяжелые шаги мужа.
Да полно: одна ли Любаша – не сама ли она виновата в том, что после, до самого Владимира, ни разу больше не наведался в ложницу ее Константин?..
Кабы заглянула она в смятенное сердце мужа, кабы на ласку лаской отозвалась, остался бы тогда с нею Константин – верно почуяла она его тревогу, а до конца не поняла: не то обида старая, не то женская гордость переборола в ней разум. Только ума и хватило, что слезу пустить, а ведь не ее утешать приходил он – приходил за ее утешением.
Сроду такого раньше не бывало, чтобы пирами тешился Константин, а тут будто бес в него вселился: в
Суздале три дня упивались дружинники во главе с молодым князем медами и бесовскими играми. Даже Всеволод про то проведал и, когда прибыл во Владимир, осыпал сына попреками.
Не оправдывался, молча слушал отца Константин. И самому-то ему было тошно, голова раскалывалась с похмелья. А когда принялся Всеволод по привычке вспоминать поучения Мономаха, восстававшего за трезвую и праведную жизнь, не утерпел, зевнул, чем еще больше рассердил отца.
– Ступай, проспись, – нахмурился Всеволод, – а нынче говорить с тобой – все равно что с колодой.
Константин облегченно вздохнул, поклонился отцу и вышел. Весь день до позднего вечера провалялся он в отведенных для него покоях. Во время ужина сидел тихо, опустив глаза, ел мало, пил и того меньше, в беседу почти не вступал, даже с Юрием не поссорился, хотя тот и петушился и задирал его, как всегда. Только раз взглянул на сидящую рядом с отцом Любашу, а после уже не глядел и заговаривать с нею не решался.
...Поздний месяц посеребрил сгребенные к частоколу снега. У въезда в детинец горбилась озябшая фигура воротника, поблескивало стальным жалом прислоненное к плечу копье. Константин постоял у оконца и вышел в переход, ведущий мимо харатейной на полати придворной церкви. Сердце замирало от сладкого ожидания, стесненное дыхание с трудом вырывалось из груди. Что это? Предчувствие? Почему он крадется по отцовскому терему, словно гнусный вор? Почему оглядывается и старается ступать осторожно, боясь, как бы не скрипнула половица?..
Тихо в хоромах, все спят, в переходе густой мрак, рука скользит по деревянным навощенным стенам. Вот и знакомые ступени (их три), вот и дверь с массивным кольцом – Константин приоткрыл ее.
Но что это? Он остановился, провел рукою по лицу: не на полатях, а внизу, у самого иконостаса, смутно виднелась фигура коленопреклонной женщины. Князь сразу узнал ее, не мог не узнать, потому что и шел он в церковь вот с этой неясной надеждой, будто кто-то подсказал ему, будто кто-то шепнул, что именно так все и будет.
И дальше все было предсказано – ноги сами понесли его по лестнице вниз. Холодом повеяло от каменно го пола, холодом потянуло от расписанных фресками каменных стен, но липкий пот заливал лицо Константина, и руки его дрожали, когда он встал рядом с женщиной на колени и, не глядя на нее, принялся так же, как и она, жарко и истово молиться.
И, словно издалека, совсем из другого мира, долетело до него:
– Господи, выслушай и помилуй мя!.. Господи, почто послал ты мне сие испытание?..
– Любаша, – сказал Константин, не глядя на мачеху и продолжая страстно креститься и кланяться. – Не гони меня, Любаша. Дай помолиться с тобою рядом, дай взглянуть на тебя, а после будь что будет.
– В божьем-то храме, – затрепетала Васильковна, – пред налоем, где были мы с отцом твоим венчаны... Уйди, Костя, не вводи меня во грех. То, что было, давно прошло, и вины моей пред тобою нет.
– Нечто так все и забылось?
– Забылось, Костя. Да и было ли что?..
Иконы поплыли перед глазами Константина, впервые он повернулся, пристально посмотрел в глаза Васильковны. И не смогла она отвести от него свой взгляд, сил у нее не стало снова обратиться к богу.
– Не верю я тебе, Любаша, – сказал молодой князь, – не верю, что мил тебе мой отец. И хоть много лет минуло с той поры, как виделись мы с тобой, а забыть меня ты не могла...
– Забыла, Костя, многое я позабыла. Не гляди на меня так и себя понапрасну не терзай.
– Да как же не терзать, коли не идешь ты у меня из ума! – воскликнул Константин и взял ее за руку.
Любаша затрепетала, потупилась еще больше, но руки не отняла, и тогда смелее стал Константин, придвинулся, обнял ее за покорные плечи.
– Господи, грех-то какой! – вдруг отстранилась от него Любаша. И снова стала молиться, и снова клала земные поклоны. И рядом с нею молился и клал земные поклоны Константин.
Но молились они о разном и разное просили у бога. Любаша просила о твердости и вызывала в сердце своем образ старого Всеволода («Дай силы мне, боже!») – Константин же просил милосердия («Помоги ей, боже, просвети – неужто не видит она моих страданий?!»).
Долго ли, коротко ли пребывали они в церкви – первой поднялась с колен Любаша. И, взглянув ей в лицо, Константин понял: не его услышал бог. Яркий румянец окрасил щеки молодой княгини (пылал он даже в полумраке), губы ее были твердо сжаты.
– Прощай, Костя, – сказала Васильковна. – Укрепил меня господь, в другой раз не ищи больше встречи, – и, повернувшись, быстрыми шагами поднялась на полати.
Дверь скрипнула почти перед самым ее лицом – кто-то быстро удалялся по переходу. Но не страшно ей стало, не задержалась она, не затаила дыхание – не было на ней вины, и в ложницу к мужу вошла она прямо и не таясь.
Всеволод сидел на ложе, свесив ноги. Любаша опустилась перед ним на пол, сунулась лицом в колени, зарыдала громко, по-бабьи...
Помолчав, Всеволод спросил:
– Никак, в церкви была? Никак, молилась?
Подслушал он ее разговор с сыном, обмирал, стоя за преградою на полатях, – теперь Любаша была ему милее во сто крат. Но горечь осталась, и досада была на сына и жалость к самому себе: ушли годы, смерть стоит у порога – и вот на ж тебе: запоздало познал он не только любовь, но и ревность...
2
Шумно и многолюдно, как никогда, было в эти дни во Владимире. В молодечных тесно, избы по всему посаду забиты воями. На улицах шум и гам, по вечерам костры горят на Клязьме, слышатся девичий смех и разухабистые песни.
Молодо – весело: Мистиша тоже пристрастился прыгать через огонь и кататься с девчатами на салазках. Сидеть по вечерам с Кривом ему наскучило, а у Веселицы в гостях только и всего, что мудреные разговоры. Пухла от них у Мистиши голова – на Клязьме же он себе уж и ладу приглядел: румяную да белую, стрекотунью и хохотушку – мостникову дочь Ксеньицу.
Как в кремне огня не видать, так до поры и сам Мистиша думал, что все это забава да и только: протрубит труба, уйдет он с Юрьевой дружиной на Новгород, а там другая начнется жизнь. Плохо знал он себя, успел позабыть, что так же все начиналось и с Аринкой.
Зато Ксеньица, хоть с виду и простушка, а девка была хваткая. Да и отец ее, мостник Вавила, цепким оказался мужичком. Мало что знал про него Мистиша, раз всего и видел на валу, когда ставили новые городницы. Ничем не походил он на свою дочь: черный, как грач, горбатенький, хмурый. Вроде бы и по сторонам не поглядывает, вроде бы ничего не замечает и до Ксеньицы ему дела нет, а сам когда еще смекнул, что лучшего для дочери жениха ему не сыскать.
Время быстро бежит – сегодня здесь молодой дружинник, а завтра его и след простыл: прикидывать, что да как, было Вавиле недосуг. И с дочерью разговоры заводить, кроме как ему самому, было больше некому: мостникова жена, Ксеньицына мать, вот уже пять лет как богу душу отдала.
Раз вечерком, выбрав удобный случай, стал Вавила исподволь выспрашивать дочь: не скучает ли, не случилось ли чего – вон и подружки в их избу с некоторых пор почти не заглядывают. А после сказал напрямик:
– Шила в мешке не утаишь. Ну-ка, сказывай, с кем на Клязьме бываешь и почему отцу про то – ни полслова?
Ксеньица повела плечиком, отшутиться надумала – чего это ты, батюшка? – но не тут-то было.
– Не вертись, яко сорока на плетне, а отвечай мне все по порядку, – нахмурился мостник.
Смекнула Ксеньица, что не отмахнуться ей на сей раз от отца: давненько готовился он к этому разговору. Но еще упрямилась, еще прикидывалась, что не понимает.
Тут отец кулаком ударил по столу да так на нее глянул, что сердце у дочери укатилось в пятки.
– Мистишей его зовут, – призналась она.
– Эко удивила, – усмехнулся отец, – про то всяк в посаде давно уже знает.
– Чего ж тебе еще-то надобно, батюшка?
– Будто и не смекнула? Будто и впрямь тебе невдомек? – прищурился Вавила.
– Может, и вдомек, – оправилась Ксеньица и прямо посмотрела отцу в глаза. – Како отвечать велишь, батюшка?
– Экая ты ловкая да изворотливая, – успокаиваясь, сказал Вавила. – Вся в меня, а не в матушку – матушка-то у тебя совестливая была... Мир же в су етах, а человек во грехах. Да бог простит. Говори-ко, Ксеньица, по душе ли тебе Мистиша?
– Ой как по душе-то!
– А не бражник ли он?
– Что ты, батюшка?!
– А не бабник ли?
– И про то не спрашивай.
– Так за чем же дело стало, доченька? – совсем воспрял Вавила и с нежностью погладил Ксеньицу по голове.
– Боюся я – не простец он, а в дружине...
– Чего ж бояться? Чай, и сам не из бояр?
– Про то не ведаю.
– Зато я смекаю, – кивнул Вавила. – И ежели мил он тебе, так дело мое совсем простое.
И другим утром, принарядившись в новое, мостник отправился в гости. Мистиша не удивился его приходу, даже порадовался:
– Заходи, Вавила, видеть я тебя рад.
Мостник бочком присел на скамью, помял в руках шапку.
– Не богатое у меня угощение, – сказал Мистиша, – ну да что бог послал. Ты уж не обессудь: избы я пока во Владимире своей не поставил и жены в моем доме нет.
– Изба и жена – дело наживное, – отвечал Вавила, скромно потупляя взгляд. – А живешь ты не хуже других: не где-нибудь – на княжом дворе.
Хорошо начинался у них разговор – прямо с самой сердцевины. Хорошо сказал Мистиша про избу и хозяйку в той избе. За тем и шел к нему Вавила. Куда ни поведет Мистиша в сторону, о чем ни заговорит, а мостник снова возвратит его незаметно на старую стезю:
– Гляжу я на тебя: и кафтан новый, и сапоги, и чести у тебя в избытке, а всё ровно не то... Про избу-то ты да про хозяйку в самый раз молвил.
Это он только простачком прикидывался, а сам уж давно сообразил Мистиша, с чем пожаловал к нему мостник. Допрежь того они не встречались, а Ксеньица про отца своего ему не раз рассказывала. Вот и выходит, что пришел к нему Вавила вроде бы свататься. И то: не пора ли и впрямь обзаводиться Мистише своим надежным углом?
– Да вот, – сказал он мостнику, избу ставить покуда не на что, а жену – ту и вовсе не сыскать. Чай, красный товар у вас не залеживается. Чай, добрых молодцев во Владимире не счесть?
– Молодцев не счесть, да всяк ли девице по душе? – сказал Вавила, настораживаясь. Не понравилось ему, что закивал вдруг Мистиша на других. Не побаловаться ли надумал, а сам в кусты?
И решил он действовать наверняка: благослови бог почин, а там само покатится.
– Не я ли на думу твою ответ припас? – сказал мостник и придвинулся к Мистише. – Не от себя токмо, но и от Ксеньицы пришел я к тебе. И не квас твой пить, а с ласковым словом. Коли по душе тебе дочь моя, так за чем дело? Шли сватов на мой двор, а я за Ксеньицей ничего не пожалею.
Вона как – сразу все и высказал Вавила. Хоть и был готов к такому обороту, но от мостниковой прямоты Мистиша растерялся. Да и не слыхивал он до сего, чтобы невесту так-то вот прямо навяливали: что, как окручивает его мостник, что, как девке подеваться некуда?
Даже холодный пот выступил у Мистиши на спине, даже озноб прошел по всему телу.
Глядя, как засмущался дружинник, еще больше насторожился Вавила, еще нажимистее стал:
– Аль не по нраву она тебе? – сверлил он Мистишу взглядом. – Аль со скуки повадился с нею на Клязьму? А то тебе невдомек, что едва ли не весь город видел вас на реке, как прыгали вы через огонь и веселились, а после провожал ты ее до моей избы?
Мистиша растерянно молчал. Вот ведь как получилось: и Крива нет рядом (когда нужно, он всегда в отлучке), и посоветоваться не с кем.
А мостник совсем распоясался:
– Почто молчишь?
Кто бы посмел так на княжом дворе в иное время разговаривать с дружинником? Ясное дело – некуда подеваться девке, носит она под сердцем чужое дитё. Совсем утвердился Мистиша в своей догадке и теперь отступиться от нее никак не мог. И все больше смущался под Вавилиным пронзительным взглядом, и язык его будто к нёбу прирос.
– Ладно, – сказал мостник, вставая. – Вижу, зря потерял время, а надо было сразу ступать ко князю. Много вас съехалось сюда, кобелей, да коли я Ксеньицы своей не уберегу, то кто за нее заступится?
– Постой, мостник, не спеши, – с трудом разлепил сомкнутый рот Мистиша. – Куды как скор ты. Облил меня ровно из ушата холодной водой, а туды же – ко князю. Да разве нынче князю досуг в твоих делах разбираться? Разве хощешь ты выставить Ксеньицу на всеобщее осмеяние?
– Вона како запел, – ухмыльнулся, снова опускаясь на лавку, Вавила, – и про ушат помянул, а мне-то каково?
– Не баловал я с твоей дочерью, мостник, – все больше обретая уверенность в голосе, хрипло заговорил Мистиша, – да вот сам ты меня смутил. И подумал я (не гневайся, Вавила!), уж не тяжела ли Ксеньица, – оттого и пришел ты ко мне?
Мостник так и подскочил на лавке:
– Да в уме ли ты, Мистиша? Да что ты такое про Ксеньицу мою выдумал!
И принялся смеяться и хлопать себя по ляжкам:
– Вот уж и впрямь насмешил ты меня!.. А я-то тоже, старый, – как же сразу не смекнул?! Вот те крест, не тяжела моя дочь, и до тебя сидела она в избе моей под крепкими запорами. Бери ее, Мистиша, после не раскаешься.
На том, как на торгу, били по рукам. «Ровно кобылицу купил», – с грустью подумал Мистиша и стал дожидаться Крива.
Горбун пришел, когда уже совсем стемнело. Удивился:
– Почто сидишь, как на похоронах?
– Небось, пригорюнишься, – отвечал Мистиша. – Нынче думы моей и вдвоем не раздумать.
– Эк тебя угораздило, – сел рядом с ним Крив. – Что случилось, сказывай все толком. Не с Ксеньицей ли поссорился? Не другого ли привела она молодца?
– Кабы так, а то только что пред тобою вышел от меня мостник Вавила...
– Погоди-ко, погоди, – заулыбался Крив, – да не Ксеньицын ли это батюшка?
– Он и есть, – обреченно откликнулся Мистиша и тяжело вздохнул. – Велит сватов засылать, дочь свою за меня отдает...
Крив заулыбался:
– Вот оно что!.. А сам-то, поди, рад?
– Чего радоваться-то?
– Усумнился я в Ксеньице, – сказал Мистиша, – уж больно жал меня мостник. – И, помолчав, добавил: – Били мы с ним по рукам...
– Как так?
– А вот так. Не позже, как на неделе, отправишься к нему сватать своего дружка.
Тут уж не до смеха стало Криву, тут и он озаботился.
– А не выдумал ли ты все, Мистиша? – придвинулся он к товарищу, обнял его за плечо. – А не наговорил ли сам себе на Ксеньицу? Ведь недавно, вчера еще, не мог ты ей нарадоваться?
– Да вот как обернулось...
– Время у тебя есть, – сказал Крив, – и кручиниться – только сердце разрывать. А там отправимся мы на Новгород, пущай тогда сыщет нас мостник.
– Ко князю грозился пойти...
– А хотя бы и ко князю.
Мистиша с лавки вскочил:
– Тебе легко говорить!
– Ишь ты, – понял его Крив. – Вона как: и хочется, и жжется... Так в чем меня винишь? Почто кидаешься? Коли по нраву тебе Ксеньица, так и бери ее, ни о чем не думай. Не то спохватишься, как с Аринкой, а ее, глядь, за другого просватали.
Не пожалел его Крив – сказал твердо и то, о чем сам Мистиша подумал, а признаться себе не смел. Уж больно напугал его мостник, а то бы и сам заслал он к нему сватов.
3
Уже давно пришла пора выступать на Новгород, уже были снаряжены обозы, и все истомились от безделья, но погода неожиданно испортилась – сначала пошел обильный снег, так что счищать его не успевали, а потом подули северные безостановочные ветра, дороги перемело, и нужно было ждать, потому что и в ясные-то дни не пробьешься на север через леса, а в такую непогодь и думать было нечего.
Город опустел, улицы словно вымерли – редко встретишь пробирающегося через снежную замять случайного прохожего. Затворились люди в своих дворах, нос боятся высунуть, опустел всегда шумный и оживленный торг.
Гостей не ждали, городские ворота стояли крепко запертыми, воротники отдыхали в избах, пили меды (не во всякий день себе такое позволишь), играли в зернь.
И немало удивлен был страж у Серебряных ворот, когда однажды ночью в самую злую круговерть кто-то застучал железякой в дубовые створы.
Сначала воротнику, не очухавшемуся со сна, почудилось, что это озорует ветер, но, отворив дверь избы и прислушавшись, он понял, что в ворота и впрямь стучали громко и требовательно.
Поздних гостей было двое. Оба озябшие и залепленные снегом, едва проскользнув в ворота, они тут же кинулись в избу к жарко натопленной печи.
– И отколь только вас принесло? – ворчал воротник. – Нешто переждать не могли в Боголюбове?
Не слушая его, ночные странники все ближе прижимались к огню, посапывали и покряхтывали от удовольствия. Снег с них быстро стаял, и только тут воротник увидел, что одеты они беднее бедного – даже нищие, вечно ютящиеся под сводами ворот, сроду не нашивали на себе таких лохмотьев. На ноги у странников не нашлось и худой обувки: были они обернуты грязными лоскутками, кое-как перевитыми обрывками лыка.
«Экие оборванцы!» – подумал воротник. А еще подняли его со сна. Ничего бы им не сделалось – небось и под воротами бы переночевали. Все равно деться некуда, а теперь их не выставишь из избы.
Обогревшись, странники сели на лавку, и теперь воротник мог спокойно разглядеть их лица.
Один, тот, что повыше и пошире в плечах, весь до самых бровей оброс нечесаной бородищей – сквозь шерсть глаза блестели затравленно, как у пойманного зверя. Другой, поменьше ростом, был еще страшнее: желтолиц, широкоскул, глазки узенькие, лисьи, бороденка редкая (волосок от волоска – как на худом поле колос от колоса), под приподнятой верхней губой – белые хищные зубы. Ясное дело – пришлый. А вот от кого? Ни среди булгар, ни среди половцев таких-то вот воротник не встречал. «И откуда только не бредет нынче народ ко Владимиру», – повздыхал он и, кряхтя, полез в печь – там в горшке оставалось с ужина еще немного горячего варева: как-никак, а и эти страннички тоже небось люди, тоже баба, а не волчица их родила.
Под пристальными взглядями незваных гостей он вывалил варево из горшка в глиняную миску, развернул холстину, нарезал на ней хлеба, бросил две ложки на стол – вечеряйте, мол.
Переглянулись страннички, кинулись к столу, застучали по краю миски ложками. Ели жадно, под ложки подставляли то корочки хлеба, то обмороженные ладони. Мигом управились с варевом. И тогда тот, что с бородищей, низко поклонился воротнику и к великому изумлению его по-русски сказал простуженным голосом:
– Благодарствую за угощенье, Кукша. А меня, как вижу я, так ты и не признал.
Еще больше удивился воротник: