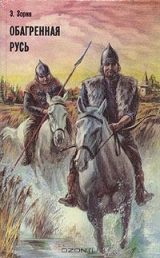
Текст книги "Обагренная Русь"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Войдя, владыка обвел присутствующих неприязненным взором, повернулся к Димитрию Якуновичу:
– Почто, посадник, правишь Боярский совет без главы его и духовного пастыря?
Лицо Димитрия Якуновича было темно и неприступно. Владыка ударил в пол зазвеневшим посохом – иные бояре вздрогнули, опустили глаза долу.
– Ответствуй же! – прорычал Митрофан и шагнул на середину горницы.
– Боярский совет заседает в твоих палатах, владыко, – отвечал Димитрий Якунович с достоинством и не сгибая спины, – а у меня собрались гости.
– Гости? – усмехнулся Митрофан. – А почто ни медов, ни яств не вижу я на столах? Почто песен не слышу, а тихую беседу? Почто сокалчие притушили на кухне огни? И на скорбных поминках больше веселия, нежели на вашем пиру...
Что было сказать на это посаднику?
– А! – воскликнул Митрофан. – Вот и нечего тебе молвить, вот неправда твоя вся наружу и вылезла. Вотще! На словах печетесь вы о мире со Всеволодом, а за моею спиною плетете паучью липкую сеть. Так вот воссяду я по чину во главу стола и погляжу, куды дальше потечет беседа.
И с этими словами он продвинул свое грузное тело под образа, отпихнул замешкавшегося долговязого Репиха и опустился на лавку:
– О чем судить-рядить будем, бояре?
Димитрий Якунович поморщился, как от зубной боли, – всю задумку испортил владыка, а ведь кто-то ему сболтнул из своих. Кто? По глазам не прочтешь, в душу каждому не влезешь. И как знать, кто замыслил гнусное предательство?
Оно бы еще ничего, как-нибудь выкрутились бы, еже
ли бы с минуты на минуту не должен был заявиться Мстислав. А уж тогда и вовсе объяснять нечего.
Перестук копыт послышался во дворе.
– А вот и самый главный гость, – улыбнулся Митрофан, потянувшись к окошку.
В терем вошел Мстислав, крикнул с порога:
– Здорово, бояре!
Повернулся в красный угол, перекрестился и вдруг увидел Митрофана. Глаза их встретились.
– Ай-яй-яй, – покачал владыка головой. – Весь совет в сборе, а ты ждать себя заставляешь, княже. Нехорошо.
Мстислав в изумлении покосился на посадника. Димитрий Якунович только рукой махнул. Митрофан уже освоился, чувствовал себя за столом старшим, хоть и не в своих палатах, хоть и тоже в гостях.
Бояре сопели, кой-кто прятал в ладошку ехидную ухмылку. Вот этих-то, с ехидцей, посадник сразу взял на заметку. Не иначе как от них и полетела весточка на владычный двор.
Мстислав был человеком сметливым, но осторожничать не умел. Да и не в его правилах было отступаться от однажды начатого. Все равно узнал бы Митрофан про боярский сговор. А уж коли решится Мстислав идти на Всеволода, то поперек дороги ему не становись: проломится он, как медведь через чащу, руки-ноги переломает, а от своего не отступится.
С легкой улыбкой, нарочито медленно прошел он на другой конец стола и сел против мечущего глазами молнии Митрофана.
– Вот и ладно, вот и хорошо, что владыко с нами, – сказал он и, устроившись поудобнее, поставил меч между колен. – Так почто звали меня, бояре?
Никто ответить ему не решился, все выжидающе смотрели на посадника. Димитрий Якунович тоже молчал. Тогда Мстислав сам подтолкнул осторожничающих думцев:
– Ежели правду говорил мне гонец, то собрал Всеволод изрядное войско, и со дня на день ждать нам его в Торжке.
– Вот! – торжествующе встрепенулся владыка. – Вот почто гости у тебя на дворе, посадник!
– Зря обличаешь меня, отче, – сказал наконец Димитрий Якунович. – Сам ты во всем виноват. Поса дили тебя блюсти права Великого Новгорода, а ты Всеволодов подпевала. Как верить тебе?
– Грядет, грядет отмщение, – с торжественностью в голосе возгласил Митрофан, не слушая посадника. – за слезы молодшего князя, за поруганную дружину воздастся вам всем с лихвой. Ай, Димитрий-Димитрий, недолго тебе уж осталось – скоро и тебя поволокут на правёж. А тебе, Ждан, и тебе, Домажир, и тебе, Фома, и тебе, Репих, за деяния ваши, за злобу и коварство – самая лютая казнь.
Как перед скончанием века делил и судил думцев Митрофан. И сам себя все больше распалял своими речьми. Сперва Мстислав забавлялся, но скоро надоело ему его слушать. Он ударил ножнами меча в пол, и владыка смолк на полуслове.
– Что бояр ты обличал, то и я с тобою, – сказал в наступившей тишине Мстислав. – Но всему свое время. А нынче зван я на совет по иной причине.
– По иной, княже, по иной, – облегченно закивали думцы.
– Призывает тебя Новгород, княже, и со всею твоею дружиною выйти встречь супостату и не пустить его в наши пределы, – обратился к нему Димитрий Якунович. – А коней мы тебе дадим, и оружия, и одежи, и пешцов...
Митрофан снова перебил посадника:
– Слепцы вы все. Выпустите Святослава – и ссоре вашей конец. Поклонитесь Всеволоду.
– Всеволоду кланяться не станем, – сказал, как отрезал, Димитрий Якунович. Владыка даже вздрогнул. Бояре, соглашаясь с посадником, одобрительно загудели.
Мстислав снова ударил ножнами в пол, прерывая излишние разговоры.
– Дале говори, посадник.
– А дале и говорить нечего. Всё, княже, в твоих руках.
Димитрий Якунович сел и провел ладонью по вспотевшему лбу. Все, повернувшись, смотрели на Мстислава. Владыка даже напряженно приподнялся с лавки, даже ладонь приставил к уху.
Мстислав резко встал – Димитрий Якунович вскинул на него испуганные глаза.
князь и вышел из терема: дальше забавлять себя пустыми разговорами он не хотел.
Яснее не выразишься. Димитрий Якунович даже побледнел от облегчения, бояре обмякли. Зато владыка так и взвился, загрохотал посохом, едва не в щепки разбил половицы:
– Еще раскаетесь, бояре, что меня не послушались. Еще умоетесь кровавой слезой!
И тоже вышел вслед за князем. Бояре, скинув с себя степенность, снова прильнули к окнам. На крыльце служка все так же почтительно подставил Митрофану плечо, проводил до возка.
Димитрий Якунович истово перекрестился.
3
Прежде чем вернуться к себе в детинец, владыка объехал город и вынужден был отметить, что Боярский совет на этот раз времени зря не терял: весть о готовящемся походе пробудила ото сна ремесленные посады. Особенно много дел было у оружейников, щитников, тульников и бронников: повсюду дымились кузни, вздувались горны, стучали молотки.
Хотя и готов был Митрофан ко всему, хотя и знал, что думцы сговариваются за его спиной, но все-таки покоробило его, что впервые не спрашивали они у него совета, впервые обходились без его благословения. Порушив давний порядок вещей, не открыто пока, но явственно намекали они, что в случае удачи не потерпят присутствия Митрофана на владычном дворе. Да и каков он владыка, ежели не избран, а поставлен силой. Когда же на силу противная поднялась сила, то что удержит бояр в безумстве, что помешает им и его бросить в узилище, как они уже бросили молодого князя и всю владимирскую дружину?..
И все-таки не зря доверился ему Всеволод – не сдастся Митрофан без борьбы Боярскому совету. А ежели что, то и ударит в колокол: не все же в Новгороде погрязли во грехах и безумстве, нешто не сыщется светлой головы?.. А начинать нужно с зачинщиков: не Димитрий Якунович всему голова. Боярин Ждан – вот начало всех начал. Из его терема ползут зловредные слухи, а Репих, Домажир и Фома разносят их по всему городу.
Словиша ждал владыку с нетерпением. Святослав —
тот еще грядущей бедой не проникся, до сих пор живет только старой обидой, бестолково суетится, грозит кому-то, стращает батюшкой.
Выбравшись из возка, разговаривать со Словишей на крыльце Митрофан не стал: боялся посторонних ушей.
Вошли в палаты, владыка прямо на пол скинул у порога шубу, шумно дыша, опустился на пристенную лавку, посох небрежно прислонил к углу.
Словиша не донимал его лишними расспросами, стоял рядом, сложив руки на груди.
– Святослав далече ли? – оглядываясь по сторонам, по-домашнему просто спросил Митрофан.
– Почивает княже. Шибко устал, тебя ожидаючи.
Владыка кивнул, улыбнулся растерянно.
– С худыми прибыл я вестями, – сказал глухо.
Словиша молчал.
– Верно нам донесли – сбирал у себя Митька Боярский совет. На Всеволода подымает Новгород. Мстислав был зван. А еще проехал я по ремесленным посадам – все о походе только и говорят.
– А мы здесь будто погребены, – сказал Словиша. Ни самим не выбраться, ни весточки Всеволоду не подать. Крепко нас стерегут.
– Но все ж таки весточку бы подать не худо.
– Да как?
– Человечка верного сыщем. Не в том беда.
– А в чем же?
– С чем вестуна пошлем?
А ведь и верно – отсюда им многое виднее. А Всеволоду задумку не трудно разгадать: станет он требовать Новгорода для Святослава. Нынешний же князь горяч. Что, как столкнутся они, а одолеть Мстислава будет невмочь?
– Это Всеволоду невмочь? – удивился Словиша. Что-то смутное говорил владыка. Уж не припугнули ли его на Митькином дворе?
– Вижу, усумнился ты, – искоса поглядел на него Митрофан.
– Не обессудь, усумнился, владыко...
– А зря. За Новгород не ты один – и я тако же в ответе. И потому предвижу: не будет битвы, а будет ряд. И мнится мне, что на том ряду постарается немалую пользу для себя выговорить Мстислав.
– Польза ему одна – остаться в Новгороде.
– Верно. И Святослава он отцу возвернет. И дружину возвернет. А дале? То-то же: еще крепче сядет он на берегах Волхова. Бояре же и слова ему поперек не скажут. Им бы только свое за собою удержать, а лучшего князя где сыщешь? Единством Боярского совета силен Мстислав.
– Хитер ты. Вона куды клонишь...
– Еще не все высказал, – оборвал Словишу Митрофан. – А слать нам гонца нужно вот с какою вестью. Ежели-де, княже, рядиться станешь, то и еще одного не позабудь: проси, дабы наказаны были Святославовы унизители. Брать-де в оковы я их не хощу, а ежели сам с ними справишься, то вот тебе их имена: бояре Ждан, Домажир, Репих да Фома. Из-за них, мол, я и гневаюсь на Великий Новгород, а то, что на вече тебя к себе звали, это их дело. А не накажешь сих бояр, то нас бог рассудит. Пущай знают новгородцы, кто им враг, а кто друг истинный. За тех бояр все спинами своими со мною рассчитаются... Нам же зевать нечего: дабы не скрыл уговора Мстислав, пустить слушок об этом на торгу. Искорку зароним – большой разгорится пожар. А как не станет Ждана и всех, кто с ним, то и посадник поубавит прыти. Тут и о новом посаднике подумать придет пора. От посадника же ниточка ко многим тянется – глядишь, и повернем на свою сторону новгородское вече, бояр припугнем.
– Ну, владыко, золотая у тебя голова! – восхищенно воскликнул Словиша. – Не зря ставил тебя Всеволод. А я уж подумал, не смирился ли ты.
– С чем мириться-то? – горько усмехнулся Митрофан. – Вона какая выпала мне честь – не то владыко, не то узник. Но приметил я, что не все у Митьки в тереме были за него, на то и уповаю. Ратное-то счастье зыбкое, а теми боярами откупиться куды как просто. Заманчиво сие: ей-ей, сглотнут они нашу наживку.
– Добро бы сглотнули...
– Сглотнут, – уверенно кивнул Митрофан. – Но, главное обговорив, пора помыслить и о малом: кого пошлем ко Всеволоду вестуном?
– Может, из наших дружинников?
– Наши в узилище все наперечет.
– А на тутошних я не положусь.
– Тутошний-то как раз и сгодится. Подозрение на него не падет, выпустят из города свободно.
Стали всех, кого знали, перебирать: один хорош, да бражник, другой не бражник, так болтун, а третий и вовсе драчун – человек приметный, его сразу хватятся. Выбор свой остановили на Якимушке-гусляре.
Во владычные палаты звать Якимушку не стали, хотя с песнями ему повсюду свободный вход.
– Пошлем к нему сокалчего Лемира, – сказал владыка. – За ним одним догляда нет.
И верно, ходил Лемир через ворота без княжеского дозволения: то травок на торгу купить, то сговориться о доставке хлеба. Одному ему из всех владимирских и было такое послабленье. Но мужик он догадливый, и голова у него на плечах: через Лемира и узнал владыка, что собираются бояре у посадника на Ярославовом дворе.
Кликнули сокалчего. Митрофан ему сказал:
– Славно сослужил ты мне, Лемир, единожды. Сослужи-ко еще раз.
– Чего ж не сослужить, – сказал сокалчий. – Осетринки али стерляди подать к столу?
– Осетринкой да стерлядью попотчуешь нас в другой раз. А вот сходить на торг да сыскать Якимушку только тебе и вмочь.
– Чего ж не сыскать, – сказал Лемир, поскучнев, но только для виду – небось сразу он смекнул, что разводить с ним по-пустому разговоры владыка не станет: для разговоров у него и Святослав, и Словиша под боком...
– Сыщи Якимушку и грамотку нашу ему передай. А еще, – сказал владыка, – передай ему вот этот перстень.
– Якимушке-то перстень за что? – невольно вырвалось у Лемира.
Митрофан по-своему расценил его вопрос. Не думая, он тут же снял с пальца и протянул ему другой перстень с голубеньким камушком.
– А ентот кому? – удивился Лемир. – Нешто сызнова гусляру?
– Перстень сей твой, – проворчал владыка. – Но дарю я его тебе не за яства, а за услугу. Ясно ли?
– Кажись, ясно! – обрадованно схватил и примерил перстень сокалчий.
– А на словах Якимушке вот что передай: донеси, мол, гусляр, сию грамотку до Всеволода али до сынов его – кто впереди окажется, и никому боле ее не показывай. А как вернешься, владыка тебя и в другой раз отметит. Все ли уразумел?
– Все, – сказал сокалчий, прикинув, что коли так уж расщедрился Митрофан, то и его опять же не обойдет, что и ему хоть что-нибудь достанется.
– Ну так ступай.
И Лемир кинулся со всех ног выполнять поручение.
– Теперь об одном молись, – сказал владыка Словише, – только бы не попало писанное в чужие руки.
О том же думал, отправляясь на торг, и проворный сокалчий.
В воротах его не задержали, как и всегда. На торгу тоже никто не обратил на него внимания. Якимушку сыскал он скоро. И не на площади, и не в боярском терему, а в питейной избе.
Не то что учитель его старый Ивор, живший в строгости и воздержании, – до медов и сладких баб шибко охоч был молодой гусляр.
– Гляди, мужики, – заметив входящего Лемира, приподнялся на лавке охмелевший гусляр, – кого бог на нашу беседу прислал!
Все закричали и застучали чарами. Сокалчий же подошел спокойно, не обращая на бражников внимания, и потянул Якимушку из-за стола.
– Эй, мужики, куды ж это тянет меня Лемир! – вдруг воспротивился гусляр.
Но бражники только засмеялись на это, и никто из них не поднялся, не остановил сокалчего.
Делать нечего, пришлось Якимушке выбираться на вольный воздух.
– Эх ты, – сказал ему Лемир, – все знали мы старого Ивора. Ты же вовсе по другим пошел стопам.
Упрек сокалчего не понравился гусляру.
– Нашелся кто мне упреки выговаривать, – сказал он. – Каждая пичужка знай свое место. Нешто я нос сую в твой котел?
– В котел мой носа ты не суешь. Но и медов ты не сытивал, а вона как направо и налево льешь.
Были они квиты и друг на друга не серчали.
– Почто из избы выволок? – спросил Якимушка. – Не владыко ли послал тебя, чтобы выслушать мои песни?
ну, – сказал Лемир, – а вот подарок он тебе прислал.
И с этими словами сокалчий сунул под нос гусляру тяжелый перстень.
– Ай да владыко! – вскричал Якимушка, хватая подарок и рассматривая камушек на свет. – А ты говоришь, что я не достоин Ивора: учитель мой сроду таких перстеньков не нашивал.
– Зато в порубах посидел всласть – за то ему и великая честь.
– Нынче, слава богу, в поруб гусляров не бросают...
Лемир ничего не сказал ему на это, Но издали намекнул: мол, подарок и отработать надо.
– За песнями тебя ко мне владыко не посылал, сам только что сказывал, – изумился гусляр, – так что ему от меня надобно?
– А надобно ему всего пустяк, – сказал находчивый сокалчий, – чтобы по дороге на Тверь, как будешь ты во Владимирских пределах, нашел бы князя Всеволода али сынов его и передал им грамотку.
– Это почто же мне идти на Тверь, – сказал, все более изумляясь, Якимушка, – коли дорога моя самая ближняя лежит на Белоозеро?
– А ты на Тверь пойди, – вкрадчиво перебил его сокалчий, – вот и твой перстенек, а возвернешься, так и еще одарит владыко. На Белоозере же живут одни убогие. Там тебе за песни твои и хлебушка не подадут.
Гусляр наморщил лоб. Сказанное Лемиром поколебало прежние его задумки. А ведь и верно: почто брести ему на Белоозеро? Это страннички его соблазняли, а странничкам, поди ж ты, не подносят с камушками перстеньки.
– Уговорил ты меня, Лемир, – сказал он наконец сокалчему. – Давай свою грамотку, все исполню, как просит меня владыко.
– Да не потеряй, смотри, – предупредил Лемир. – Потеряешь – снимут с тебя лихую головушку. Никто после не помянет – не то что Ивора. Никто и знать про тебя не будет.
– Экий же ты въедливый, Лемир, – обиделся Якимушка. – Панихиду по мне рановато справлять. А помянут ли – не помянут, не нам с тобою судить. Песни-то мои тож люди, а не скоты слушают, бабы слезы льют, молодицы радуются... Придет срок, еще похваляться будешь, что был ты моим дружком.
Все, как велено было, исполнил Лемир и вечером сообщил об этом владыке.
Митрофан обласкал его взглядом и похвалил чесночный соус, чем вверг сокалчего в великое смущение: чесночного соуса доднесь владыка и на дух не переносил.
4
С бабой нелегко, но и без бабы мужик – все равно что на плодовом дереве корявый дичок.
На что Якимушка бродяга, бесприютный человек, но и у него была молодица на Чудинцевой улице в Неревском конце, толстушка и хохотушка Панька, вдова помершего богомаза Секлетея.
К ней и направился гусляр после беседы с Лемиром, оставив в питейной избе своих обескураженных дружков-бражничков.
Панька встречала его не улыбками и не медовыми пряниками.
– Явился, чертово бороздило! Ковш тебе, знать, души дороже.
Но против своего обычая подразнить разговорчивую Паньку на сей раз Якимушка выслушивал ее со вниманием и даже с ласковой улыбкой на лице.
Смиренность гусляра скоро сбила молодицу с толку. Выговорилась она, а Якимушка – ни слова в ответ. Встревожилась Панька:
– Уж не обидел ли кто? Уж не захворал ли ты?
А гусляр и на этот ее вопрос – молчок. Тихохонько прошел мимо бабы в избу, сел к столу, поглядывает загадочно.
– Ты почто же молчишь-то? Ты почто же язык-то проглотил? – подсела к нему Панька. Даже по голове погладила, даже плечиком притулилась к его плечу.
– У пьяного семь коров доится, – сказал наконец Якимушка, с достоинством отстраняясь от вдовицы. – Про то с упреком говорят, а мне и впрямь подвалило счастье.
– Да что за счастье, коли на той неделе пропил ты гудок, а нынче, поди, и гусли уже не твои? – сказала Панька.
На что Якимушка ей отвечал:
– Гусли вот они – у тебя в избе за печью, а принес я от самого владыки подарок.
– Это с каких же пор стал одаривать владыко гусляров да скоморохов? – не поверила ему Панька, подумав, что и впрямь тронулся он умом. И еще ласковее прижалась к Якимушке. Был он ей мил, а ворчала она на него по привычке: не поворчишь, так и вовсе отобьется от рук гусляр, мужики нынче вздорные пошли.
– Вот, гляди-ко, – Якимушка выбросил из кулака на стол засверкавший камушком золотой перстенек.
Но вместо радости еще больше огорчил Паньку. Сперва-то было и у нее осветились глаза при виде дорогой вещицы, но едва только коснулась перстенька пальцами, как тут же отдернула их, будто дотронулась до раскаленного железа.
– Ой, лишенько мне! – завопила молодица. – Ой беда-то какая! Так и знала я, что не доведут тебя до добра меды. Спутался ты с шатучими татями, и теперь нам обоим великий позор. А тебя, нечестивец, как есть, упрячут в поруб и невзвидешь ты больше ясного солнышка. Почто на чужую вещь позарился?
– Да сколь толковать тебе, – рассердился гусляр, – сколь толковать, что не крал я, а перстенек сей – подарок от владыки, и можешь брать его в руки, не таясь...
И Якимушка поведал вдовице, как разыскал его в питейной избе Митрофанов сокалчий, и что говорил, и куда велел ехать. А чтобы окончательно успокоить Паньку, достал из шапки и показал ей вверенную ему Лемиром грамотку.
Панька пощупала свернутый в трубку пергамент, понюхала его для верности и только тогда взяла и надела на палец владычный перстенек. Велик он ей оказался, но камушек сверкал и радовал сердце.
Однако же недолгой была ее радость. Смущение снова изобразилось на ее лице.
– За просто так владыки перстеньки не раздаривают – сказала она в задумчивости. – На опасное дело подвигнул тебя Лемир. Почто сам не отправился он с грамоткой ко Всеволоду?
– Да как отправиться ему, ежели за всеми, что в детинце, крепкий надзор? – сказал гусляр. – Через день хватились бы сокалчего да пустились вдогон, а мне все пути-дорожки открыты. Все равно собирался я на Белоозеро, так нынче пойду на Тверь.
– И гусли возьмешь с собой?
– Ежели что, поломают тебе гусли...
– Вот баба! – воскликнул Якимушка. – Гусли пожалела, а о том не подумала, что, прежде чем гусли ломать, мне самому переломают ребра!..
Тут же прикусил Якимушка язык – понял, что лишнее по простоте своей выболтал, но Панька уже снова принялась вздыхать и охать:
– Вернул бы ты лучше перстенек и никуды не ехал.
– Я от слова даденного не отступаюсь, – сказал гусляр, – и чем попусту причитать, лучше бы вшила ты мне грамотку в зипун, чтобы незаметнее было.
На сей раз Панька перечить ему не стала, – проливая слезу, быстро вшила грамотку, перстенек спрятала в ларец, собрала в суму съестного и, перекрестив гусляра, прильнула к его груди:
– Ступай с богом.
И утром Якимушка через Ильину улицу, миновав Великий мост, вышел на зимнюю дорогу, оставив справа Рюриково городище, – берегом Волхова идти он опасался: уж больно много шастало в тех местах Мстиславовых дружинников. Еще поволокут на княж двор, еще заставят петь, а времени у него в обрез. Грамотка должна быть доставлена к сроку – тогда лишь и наградит его во второй раз владыка, тогда лишь и приблизит к себе, а о Иворовой славе Якимушка и не мечтал.
В пути на морозце и на ярком солнышке думалось легко. Но чем дальше отходил гусляр от Новгорода, чем безлюднее становились места, тем все больше и больше охватывала его тревога, и мысли, обращаясь к прошлому, все меньше радовали его.
Вспомнил он Ивора, каким впервые встретил его на пути из Поозерья. Тогда уж великая шла по Руси слава о новгородском певце, тогда уж стекались послушать его огромные толпы народа, тогда уж ходил он у князей не в чести, но ничуть не печаловался от этого.
Сказывали, будто долго сидел он во владимирском порубе, будто и от песен своих отрекался, будто и вовсе зарекался петь. Но ненадолго хватило зарока. Только выбрался из смрадного узилища – и снова зазвенели на торгу его звончатые гусли.
И снова сажали его в поруб, а иной раз богато одаривали. Но Ивор не присваивал себе богатых даров, избы себе не ставил, двора не обносил высоким тыном: как жил бесприютно, так и продолжал жить и славою своей не кичился.
Не за то ли любили его простцы и смерды, не за то ли и выносили с торга на руках и не давали приблизиться к нему княжеским дружинникам? Оберегали Ивора, прятали в своих избах, на свадьбах и на поминках сажали в красном углу, чару ему подносили, и выпивал он всякую чару до дна.
Всякую чару выпивал до дна и Якимушка, да были эти чары совсем не те. Горький был в тех чарах осадок.
Когда возвращался Ивор из Поозерья и на ночлег останавливался в их избе, утром увязался за ним, очарованный песнями его, Якимушка – от мамки с батькой сбежал: ему, вишь ли, тоже захотелось Иворовой сладкой славы.
Но не сразу разгадал его старый певец: лестно ему было, что не умрут, перейдут его песни в молодые уста. Так и остался Якимушка при Иворе, так и ходил с ним по Руси, ловя и запоминая каждое его слово. От Иворовых праздников и ему кое-что перепадало, перепадало ему кое-что и из Иворовых тумаков.
Полюбились Якимушке Иворовы праздники (за ними и бежал он из родной избы), но Иворовы тумаки озлобили молодого гусляра.
– Почто обходишь ты боярские терема? – удивлялся он старику. – Почто не берешь подарки, а спишь на дырявой сукманице?
– Экая же ты простота, – отвечал ему на это Ивор. – Нешто и до сей поры не смекнул: боярские дары – все равно что клетка для соловья. Сгинет в клетке той вольная птица, а ежели и принудят ее петь, то совсем другие это будут песни. Я же хочу петь то, что поется, а не по боярскому замышлению.
И смотрел на Якимушку со снисхождением, как на несмышленое дитя. Верно, думал Ивор, что когда подрастет молодой гусляр, когда оглядится вокруг приметливым оком, то и сам все поймет: не тем славен певец, что на ногах сафьяновые сапожки, а на шее золотая гривна (таких-то сколь развелось в богатых теремах!), а тем, что сирым помогает в их неисчислимых бедах, а павшим помогает встать. Не для услады пресыщенного боярина, не для славы его, что развеется как туман, слагается песнь (иначе и она легче легкой дымки), не для пиров, на коих один пред другим похваляется, не для жен и дочерей боярских. Перед трудной битвой поможет песнь уставшему ратнику, и пахарю послужит она, и кузнецу, и иному умельцу, когда уж иссякнут силы и нет впереди ни светлого проблеска, ни манящей надежды...
Нет, не такого ответа ожидал Якимушка от старого Ивора. И с годами не стали очи его зорчее, и сердце не открылось добру.
Осерчал Ивор, прогнал его от себя:
– Сломал бы я твои гусли, да, может, еще образумишься. Но со мною пути тебе нет.
– Ну и оставайся один, – не выдержал, высказал ему молодой гусляр, – авось кто другой закроет твои очи.
И ушел от старца, и пошел по боярским дворам. И добился бы он в жизни своей многого, во многом бы преуспел, но сгубила его любовь к хмельному зелью.
К тому времени Ивор скончался – бог весть, может, Якимушка и ускорил приход его смертного часа: очень переживал старец, что ошибся в своем ученике. Говорят, хотел он перед самым концом податься в монастырь, но по неспокойности нрава своего повздорил с игуменом и пострига принимать не стал. Схоронили его в Новгороде, много стеклось народу прощаться с любимым певцом. Но отслужить панихиду по нем едва сыскали захудалого попика. И Якимушка был на погребении, и слезу обронил, но слеза та была больше от хмеля, чем от горя. А ежели и горевал о чем молодой гусляр, то о том только, что прав оказался в своем предсказании Ивор: славы вечной Якимушка не заслужил, а из боярских усадеб его гнали. Никому не нужен был вечно хмельной и распутный гусляр.
И стал Якимушка забавлять людей, где придется, но от песен его не было никому ни тепло ни холодно. Все слова растерял он по питейным избам, а брань его слушать никто не хотел. Одни только бражники и привечали молодого гусляра, и то только покуда выставлял он им меды. А без медов в свой круг и они его не принимали.
Злобился Якимушка, шагая по морозцу. «Вот ужо приветит меня владыко, – говорил он себе, – так не то что медов вам не выставлю, а буду гнать от своего порога».
Веселым и беззаботным рисовалось ему его будущее, и сам себя в вере своей он укреплял, будто что и впрямь изменится в его жизни.
А того и не знал, что вернется и пропьет владычный перстенек, и другого ему дарено не будет.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Ясная зимняя погода и умеренная стужа способствовали быстрому продвижению объединенного войска Всеволодовых сыновей. Почти в ту же саму пору, когда они приближались к Твери, с противоположной стороны, от Новгорода, к Вышнему Волочку подходил со своим войском Мстислав Удалой. И, всего лишь на день опережая его, ехал в обозе соляников с зашитой в зипун Митрофановой грамотой Якимушка.
За песни взяли его с собой обозники, дозволили ехать на переднем возу, даже шубу подложили, а другою накрыли гусляра. Первую песню на привале спел он им не свою, а Иворову. Понравилась мужикам смелая песня, хвалили они Якимушку, наваристой угощали ухой, даже сунули ему под голову сулею с крепким медом, чтобы не скучал в пути.
Но с сулеею гусляр управился быстро, стал выпрашивать для себя вторую.
Чего не отдашь за хорошую песню! Дали ему и вторую сулею обозники. Радовались они:
– Повезло нам, что едет с нами гусляр. Не помрем в дороге от скуки.
Спел им Якимушка и еще одну Иворову песню. А больше он не знал – позабыл за временем. Дальше песни пошли свои. И уже не радовались, а только хмурились и дивились обозники:
– Будто подменили тебя, гусляр. Али лучшие песни бережешь для иного случая? Хоть мы люди и простые, а ты нас не обижай. Нешто худо тебе с нами? Нешто уха наша не по тебе, нешто меды не сладки?
Сладки были у них меды, и уха была навариста, а других песен у Якимушки в запасе не оказалось. И когда однажды, присев у костра, снова забренчал он на гуслях и пропел свой обычный зачин, мужики сказали ему:
– Ладно, повезем тебя ко Твери и без песен. А про бояр да воевод слушать твои былины мы не хотим.
К вечеру другого дня обозники забрали у него шубу, потом забрали и другую шубу – ту, что служила ему подстилкой. Тогда обиженный Якимушка зарылся в сено. Но и тут его побеспокоили.
– Ступай-ко на последние сани, – сказали гусляру мужики.
На последних санях и сена не оказалось. А мороз крепчал. Особенно холодно было по ночам. Совсем коченел в своем ветхом зипунишке гусляр.
Уже на самом подъезде к Твери стало Якимушке вовсе невмоготу. В другое время он и не подвигнулся бы на такое. А тут еще злость взяла на обозников.
Знал он, где хранятся у них меды. Пробрался тихо, напился и, возвратясь, заснул на своих санях. Утром его едва добудились. Стали браниться, а после пожалели: сам бог наказал строптивого гусляра – обморозил он себе ноги. Сколько ни терли снегом, а оттереть так и не смогли.
Прибыв в Тверь, забитую дружинниками и пешцами, первым делом стали искать лекаря. А Якимушка плакал да все про какой-то перстенек поминал. Наконец вспомнил и про грамотку.
– Несите меня ко князьям, – требовал он у обозников.
– Глупая твоя голова, – увещевали его мужики, которые уж раскаивались, что так жестоко обернулась гусляру их наука. – Да на что тебе князья, ежели обезножел? Не станут они слушать твоих песен.
– Одну песню выслушают, – стеная и охая, заверил их Якимушка.
Делать нечего, приволокли гусляра к избе посадника, где стоял Константин. Вышедший на крыльцо постельничий князя рассердился:
– Почто, мужики, выставили пред княжеские окна калеку?
Обозники смутились, стали оправдываться:
– Не калека это, а гусляр.
– Ну так почто гусляра приволокли? Пиры князь правит вечером, а по утрам у него боярская дума.
– Из Новгорода я, – еще не отошедший с похмелья, пробормотал Якимушка.
На шум возле крыльца вышел сам Константин в накинутой на плечи волчьей шубе. Обозники, словно подкошенная трава, попадали на колени. Якимушка же как лежал на возу, так и продолжал лежать, только шею вытянул.
– Вот, княже, – сказал постельничий, – хощет видеть тебя гусляр. Я уж толковал ему, что час неурочный, а мужик – всё свое. Из Новгорода он. – И тихо добавил: – Видать, бражник. И так смекаю я, не помутился ли у него рассудок?
Константин, придерживая рукой спадающую с плеча шубу, сошел с крыльца, приблизился к саням.








