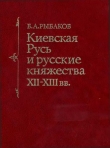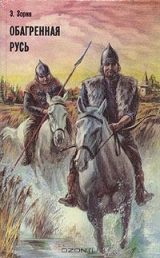
Текст книги "Обагренная Русь"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
Нелегко выговаривал слова эти князь.
– А ты как же? – удивился игумен.
– Кузьму Ратьшича в Киев снаряжать буду – Роман своевольничает.
– Сызнова за свое?
Князь не ответил, встал.
– Благослови, отче.
– Господь с тобой, – перекрестил его Симон. Глядя вслед уходящему князю, вздохнул: «Тяжела ноша твоя, Всеволоде» – и стал собираться в дорогу.
4
Нелегко, ох как нелегко ужиться двум взрослым княжичам в одном тереме!
У себя-то во Владимире в крепкой узде держал своих сынов Всеволод. А едва только выехали они из Марьиных ворот на Юрьевецкую дорогу, тут все и началось. Слово за слово – начинали с пустяков, а когда показался над Шедакшей материн терем, глядели друг на друга волками.
Жена Константина Агафья встречала княжичей на красном крыльце. Кланялась обоим, на мужа глядела счастливыми глазами. Юрий хмуро протопал мимо, Константин обнял жену.
– Что это братец неласковый? – спросила Агафья.
– Пчела в ино место ужалила, – беззлобно отвечал муж.
Юрий задержался на гульбище, палючим взглядом ожег брата.
– Ты, Агафья, ступай покуда, – сказал он, – мне с Константином договорить надобно...
Агафья посмотрела на него с мольбой:
– О чем договорить-то, Юрьюшка? Чай, за дорогу наговорились...
– Не твово ума дело, – оборвал ее Юрий. – Ступай!
– Погоди, – остановил жену Константин. Брату спокойно сказал:
– Уймись, брате.
Лицо Юрия ожесточилось.
– Ступай! – дернул он Агафью за руку. – Кому велено?
– Останься, – сказал Константин. На брата смотрел твердо, но не враждебно. Юрий двинулся на него, сжав кулаки.
Константин легонько отстранил его, натянуто рассмеялся:
– Будя, будя дурить-то.
Агафья втиснулась между ними, тоненько заголосила. Юрий был с ней почти одногодок. И роста они были почти одного. Не испытывал к ней почтения юный княжич. Таких-то девчонок еще таскивал он за косы.
Подхватил Юрий взбрыкивающую ногами Агафью под мышки, отставил в сторону. Константин и глазом моргнуть не успел.
Сцепились друг с другом княжичи, покатились по ступеням вниз со всхода. Константин покрепче был, подмял под себя братца, сел на него верхом.
Бог знает, чем бы все кончилось, ежели бы Юриев дядька не подоспел. Был он неохватист, как старый дуб, ручищи – кузнечные клещи. Сгреб правой рукой Константина, поставил на ноги, левой приподнял Юрия.
– И не стыдно вам, княжичи, – сказал с усмешкой. – Весь двор на вас глядит, княгиня-матушка сидит у окошка... Каково ей, недужной?
Развозя по щекам ладонью грязь, Юрий смотрел на Константина с ненавистью:
– Зря встрял ты промеж нас, Тишило. Не всяк тот прав, кто поначалу сверху оказался...
– Братья вы, – укорял дядька, – единая кровь. Гоже ли этак-то?
Константин вел себя достойно, вступать в разговоры с Тишилой не стал, повернулся, медленно взошел на всход. Агафья повела его в свою светелку, почистила платно, полила из ковша воды, чтобы умылся, приговаривала:
– Не кручинься, Костя. Молод еще Юрий, оттого и неразумен...
– Образумиться пора, – стряхивая воду с рук, сказал Константин.
Агафья потупилась:
– Обнял бы ты меня. Сколь ден не виделись – чай, соскучилась.
Бася по-взрослому, Константин упрекнул ее:
– У баб все одно на уме... Матушка-то как?
Агафья растерялась от неожиданности, слезы вот-вот готовы были брызнуть у нее из глаз. Но ответила покорно:
– Нынче спала княгиня хорошо.
– Ждет ли? – смягчаясь, улыбнулся Константин.
– С утра велела новое платье принесть. Девки опочивальню прибрали, по углам разложили душистых травок.
– Ждет, – удовлетворенно кивнул Константин и привлек к себе жену. Не родная она ему была, ничего не испытывал он к ней, кроме жалости. И Агафья чувствовала это, однако верила – всему свой срок. Обманывала себя и тем успокаивала...
В опочивальне у княгини и впрямь было все чинно и чисто, и пахло свежей зеленью, хотя окна были затворены от случайного ветра и сквозняков.
Юрий уже сидел возле матери. Мария возлежала на высоком просторном ложе под шелковым одеялом. Голова ее, причесанная и маленькая, покоилась на пыш но взбитых подушках, глаза были устремлены на дверь в ожидании старшего сына.
Константин опустился на колени и поцеловав матери руку, сел поодаль от Юрия.
Мария заметила это, легкая тень пробежала по ее бескровному лицу, но она тут же взяла себя в руки, улыбнулась и стала расспрашивать их и рассказывать о себе, и голос ее был тих, словно шелест опадающих с деревьев осенних листьев.
Время близилось к обеду. Княгиня устала, речь ее сделалась бессвязной. Скоро она задремала. Княжичи переглянулись и на цыпочках тихо вышли из опочивальни.
В сенях уже все было готово к трапезе. Константин, как старший, сел во главе стола, по правую руку от него села Агафья, по левую – Юрий, рядом с Юрием – меньшой брат Владимир, пятилетний Иван уже отобедал и спал в своей светелке.
Ели молча, лишь Константин перебрасывался редким словом с Агафьей. Когда подавали кисели, в сенях неожидано появился Всеволод. Из-за спины князя выглядывал Юриев дядька Тишило, это было дурным предзнаменованием.
Константин вскочил, уступая отцу место во главе стола, все встали и кланялись поясно, ожидая, когда князь сядет.
Всеволод сел, сели все. Не притрагиваясь к еде, отец долгим взглядом окинул своих чад, нехорошо усмехнулся.
– Что нынче – сызнова потешали челядь? – спросил с упреком.
Константин с Юрием молчали. Агафья смотрела на свекра с трепетом, вся подобравшись, ждала грозы.
– Кого вопрошаю? – возвысил голос Всеволод. – Почто ты, Агафья, молчишь?
Князь любил невестку, относился к ней с нежностью и, видя, как она засмущалась, всем телом повернулся к Константину:
– Ну, али язык проглотил?
– Виноваты мы, батюшка, – через силу выдавил из себя старший, – А что да как было, знаешь ты и без нас. Тишило тебе все рассказал.
– Тишило-то рассказал – вашего слова разумного не слышал... Небось обеспокоили княгиню, в ночь снова не сомкнет глаз. Доколь котороваться будете, в чем причина?..
Так говорил князь, но сам уверен был, что не дождется ответа. Ссориться-то братья ссорились, но друг друга не выдавали. В беде держались вместе, любое наказание делили поровну. И это в них нравилось Всеволоду, но раздоров с своем доме потерпеть он не мог.
– Изыдите, – сказал князь, так и не дождавшись от сыновей ответа.
Те с явным облегчением поднялись из-за стола и степенно вышли за дверь.
Всеволод одним глотком опростал стоявшую перед ним чару, поморщился: квас.
– Эй, кто там! – кликнул зычным голосом.
Вбежала испуганная девка, на князя глазами – морг-морг.
– Что уставилась? – рассердился Всеволод. – Никак, меды в княгинином тереме перевелись?
– Сейчас, батюшка, – выкрикнула девка и с готовностью кинулась из сеней.
Всеволод раздраженно грыз лебединое крылышко. Было неспокойно и муторно. Поездки к больной Марии и так-то не доставляли ему особой радости, сегодня же принесенная Тишилой жалоба на княжичей надолго испортила ему настроение.
Девка, убежавшая в ледник за медом, не возвращалась, князь морщился и теребил ус – тут дверь неожиданно широко отворилась, и на пороге вместо давешней челядницы появилась монашка, присматривавшая за Марией.
– Княгине худо! – выдохнула она и схватилась в беспамятстве обеими руками за косяк.
В переходе суетились какие-то люди, кто-то бежал с водой, с примочками, бабы плакали в голос. Всеволод растолкал всех, вошел в опочивальню – по сторонам зашикали, благообразные бабки в темных платках, черницы и дворовые попятились к выходу. «Ишь, сколь набилось их, а помочь, некому», – неприязненно подумал князь и склонился над метавшейся в жару княгиней.
Лицо Марии было бледнее обычного, в горле клокотало стесненное дыханье, грудь то вздымалась, то опадала, и по изборожденному морщинками лбу стекали к уголкам глаз и на щеки торопливые струйки пота.
Княгиня бормотала что-то, и, только приблизившись почти к самым ее губам, Всеволод разобрал несколько слов, из которых понял, что говорила она о княжичах, поминала Константина и Юрия, заклинала их помириться...
– Душа, душа горит...
Князя охватило бешенство. Он оторвался от ложа и, громко топая сапогами, кинулся сначала к Юрию, обругал его, потом стал колотить кулаками в ложницу, где отдыхал с Агафьей Константин.
Сын откинул щеколду, стоя в исподнем, слушал отцову брань смиренно, склонив взъерошенную голову, Слова, которые бросал в лицо ему Всеволод, были несправедливы и оскорбительны. На щеках Константина перекатывались желваки, губы дергались, и это ещё больше злило князя. Он замахнулся, хотел ударить сына, но вдруг резко повернулся и так, не оборачиваясь, вышел из терема, спустился со всхода и сел на коня.
Все бока искровянил он боднями своему чалому, скакал до Владимира без остановки – один, без дружинников, ворвался в монастырь, разыскал Симона и вот возвращался в детинец тихий, опустошенный, понурый.
Далекие зарницы освещали отяжелевшее небо, душно было. Город словно вымер: ни голоса, ни скрипа калитки. Безлюдно. Тишина.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Большое одолжение сделал Чурыня для князя Романа. Без его решительных слов не одержать бы Роману верх над Рюриком ни в Триполе, ни в Киеве – тем паче.
Покорно пили кияне выставленные Романом на площади меды, радовались, что обошлась ссора их с галицким князем без потерь.
Ехал Чурыня по городу на своей любимой покладистой кобыле (горячий-то конь-чистокровок, чего доброго, выбросит из седла), поглядывая на пьяных земляков, посмеивался: пейте, дурни, пейте, а я вот трезв, хоть и тоже мог напиться, – зато трезвого меня на мякине не проведешь. У трезвого у меня золотые мысли на уме: видать по всему, благоволит ко мне нынешний князь, в Галич с собой возьмет, приблизит, обласкает – сноровистые люди где попало не валяются. Со
служил я службу князю, а то ли еще смогу!.. Глядишь, и потеснятся иные передние мужи. Глядишь, и Авксентию придется посторониться. Заживу я в высоком тереме, есть буду на злате-серебре – не то что при Рюрике: возле прижимистого князя многим не разживешься, а Роман, хоть и крут, а щедр – вон и золотую гривну с груди снял, дарил с улыбкой, и табун, что взяли у половцев, велел клеймить Чурыниной метою...
Ехал Чурыня по городу не спеша, правил кобылу к своему терему.
– Тпру, окаянная! – натянул он поводья. Взбрыкнула кобыла, едва не свалился с нее боярин – вот тебе и тихая: чего доброго, свернешь себе шею накануне самого счастья.
Выскочили отроки из терема, засуетились, помогая Чурыне вынуть ногу из стремени. Прибежал конюший, в три погибели согнулся, бородою пыль подмел у заправленных в дорогой сафьян кривых стоп боярина.
– Куды за кобылой глядишь? – в сердцах попрекнул его Чурыня, – Аль не приметил, как едва не повергла меня смиренница твоя наземь!
– Да что ты, боярин, – сказал с недоверчивою улыбкой конюший. – Должно, пощекотал ты ее ненароком плетью, вот и взбрыкнула.
– Поговори еще! Что, как тебя ожгу плетью, тоже взбрыкнешь?!
– Не, я не взбрыкну. Куды уж мне брыкаться – весь в твоей воле.
– Так и ходи. А кобылу сыщи мне новую.
– Все исполню, боярин, – поклонился конюший.
А в тереме, в светлой повалушке, все глаза выглядела, поджидала Чурыню сестрица его, худая и длинная, словно высохшая кривая осина.
– Здрава будь, Миланушка, – приветствовал её, входя, боярин. – Что глядишь, будто видишь впервой? Уж не соскучилась ли?
– По тебе соскучишься, как же, – сказала Милана. – Весь город только что про Чурыню и говорит.
– Где же говорят-то, – самодовольно выпятил грудь боярин. – Ехал я – весь народ во хмелю.
– То дурни всё, – охладила его сестра. – Умные люди даров тех поганых и на язык не берут...
Рот открыл Чурыня, выпучил белесые глаза, чуть не задохнулся от негодования:
– Это чьи ж ты дары погаными обзываешь?
– Романовы, вестимо, – спокойно отвечала Милана, подперев кулаками бока.
Боярин обеспокоенно оглянулся: не слышал ли кто?
– Нишкни, – прошипел он и замахал перед собою руками. – Белены ты, никак, объелась?
Но, будто не слыша брата, Милана смело наступала на него:
– Стыдно людям в глаза глядеть. Только и слов: Иуда.
– Это кто ж Иуда, ну-ка, сказывай, – отодвинулся от нее боярин.
– Ты и есть Иуда, кому ж еще быть!.. Как одаривал тебя Рюрик, так от него ни на шаг, а как Роман объявился да наобещал чего, так ты князя свово и предал. А ведь верил в тебя Рюрик, посылал ко Всеволоду сватом. Нынче ж и Всеволодову дочь Верхославу отдал на посрамление...
– Да отколь тебе такое ведомо?!
– Отколь ведомо, не тебе знать. А только вот что скажу: объяви киянам, что все наговоренное на Рюрика напраслина и князь по коварству твоему несет свой крест, а не за вины сущие...
– Ишшо чего выдумаешь!
– А не скажешь, так я скажу! Чего глаза пялишь?
– Ей-ей, объелась ты белены, – определенно решил боярин и отстранил Милану с пути своего твердой рукой. – Наговаривают на меня, а кой-кто уши развесил. Знаю я, отколе ветер подул.
– А знаешь, так почто молчишь?
– Славновы это людишки разблаговестили.
– Почто Славновы-то?
– А по то, что в обиде на меня Славн: как же – мене моего привел он табуна.
Убедительно говорил Чурыня, знал он доверчивый нрав своей сестры.
Заколебалась Милана, устыдилась своих прежних слов. Тут, боярин, не зевай!
– То-то, гляжу я, зачастила ты к Славновой женке. С чего бы это? Ладно. Славн – лютый мой враг, но я тебе – ни-ни. Теперь вижу, зря тогда еще не предостерег.
Любил похваляться Чурыня, что видит он в землю на три сажени. Милану же его догадка сразила напрочь. Схватилась она за голову, закричала со слезою в голосе:
– Прости меня, братушка, грешную. Винюсь пред тобою – и верно: от Славновой женки слышала я все, что по неразумению своему тебе сказывала...
Боярин улыбнулся, про себя подумав: «Когти у Славна в рукавицах. Молчал он на думе, а черный слушок пустил. Да кабы знала Милана, что все в ее словах – чистая правда...» Ничто в жизни не делается зря. Вот и еще за одну ниточку ухватился Чурыня: потянет ее – глядишь, и со Славном расквитается. Шибко высоко взлетел Славн, шибко рьяно оттирал Чурыню от Рюрика. Каково завтра запоет, как станет известно Роману про его козни?
Как постригли Рюрика в монахи, так и у Славна гордости поубавилось, от дородства его следа не осталось, обвисли щеки, живот обмяк, глаза потухли, одни только брови и торчат, а ведь раньше страх наводил на думцев, одергивал бессовестно посередь чинной беседы...
Так ходил боярин, радуясь своему везению и прозорливости, посередь повалуши, в мыслях стройно выстраивал грядущие дни: много набегало еще ему всякой радости. Но, покуда не поднялся он на самую вершину своей удачи, осторожность была ему верной спутницей.
– Ты, Милана, гляди – лишнего не наболтай: у бабы язык что помело. Ни к чему знать ни Славну, ни женке его про наш сегодняшний разговор.
– Ни словечка не выпорхнет, – пообещала сестра, чувствуя облегчение, – и не сумлевайся.
– Да как же не сумлеваться мне, коли такое сказывала. Случись новый наговор – опять побежишь Иудой меня честить.
– Да коли еще что у Славна про тебя напоют, отсеку: ложь сие.
– Вона что выдумала! – засмеялся Чурыня.
– Что выдумала? – заморгала глазами сестрица.
– А вот это самое, про ложь-то...
– Ишь, куды поворотил, – покачала головой Милана. – Как же быть?
– Слушай да запоминай. Славнова женка болтлива, нам же сие на руку. Прикинься, будто и впрямь поверила ей.
– Ой, братик, не умею я прикидываться, – слабо защищалась Милана.
Чувствуя, что теперь окончательно взял верх, Чурыня невозмутимо продолжал:
– Прикинься, а ежели понадобится, то и меня не жалей: за Иуду тебе простится. У Славна, поди, и покруче братца твоего потчуют?
– Такое ли говорят...
– Вот-вот, а ты мне всё – как на исповеди. И чтобы слово в слово...
Вечером на новой кобыле, смирной, как телушка, въехал Чурыня на Гору. Глазам своим не поверил: долго ли не был он здесь, только утром отсюда, а Романовы людишки всё приготовили к отъезду князя: впрягли лошадей в возы, погрузили нужные вещи и теперь только дожидались знака, чтобы тронуться в путь.
Не по себе стало боярину: как же так? Выходит, вчера еще знали об отъезде, а Чурыне никто и не обмолвился. Авксентий вешал ему на шею княжескую гривну, похлопывал по плечу и улыбался, все кланялись боярину и заискивали...
Что-то нарушилось в размеренном течении времени. Что?..
Напрягая расползающиеся мысли, аж вспотел от неожиданной загадки боярин. Опираясь о плечо подбежавшего отрока, почувствовал Чурыня в руке неприятную дрожь.
Но пока подымался он по всходу на крыльцо, пока, кряхтя, вытирал ладонью пот со лба, пришло успокоение: да как же сразу не додумался, как же княжеского подарка по достоинству не оценил! Неспроста вешал ему Авксентий на шею гривну, никак, оставляет его князь на время своего отсутствия в Киеве воеводою...
И запело сердце Чурыни петухом, расправил он грудь, поправил на чреслах пояс и смело сунулся в сени, где в расшитых золотыми нитями платнах восседали благообразные бояре, слушали глухо говорившего Романа:
– И тако, покидая вас, оставляю я в Киеве именем моим вершить дела боярина вашего Славна...
Покачнулся пол под Чурыней, потеряв себя, вдруг закричал он подраненным зверем:
– Почто не меня, княже?!
Бояре, зароптав, повернулись в его сторону. Роман вскочил со стольца.
Замерли все. Совсем обнаглел Чурыня: явился на думу не зван, да еще такое посмел говорить князю!
Но, вспыхнув, сдержал себя Роман.
– Где веру на тебя взять?.. – сказал он, опустившись на столец и пронзая Чурыню прямым взглядом.
Мелким ознобом передернуло боярина.
– Как же оставляешь ты Славна, княже, – беспомощно пролепетал он, – коли верен он и поныне Рюрику, а я весь твой?
– Ступай прочь! – сурово сдвинул брови Роман.
Испугался Чурыня, со всех ног кинулся из сеней – подальше от греха.
Вот и кончилось его недолгое время, вот и истекло. Покорно трусила под ним смиренная кобылка, покорно влекла на себе грузное тело боярина.
Когда добрался он до своего терема, княжеский обоз уже тронулся с Горы...
2
Не думал, не гадал старый Славн, что остановит на нем выбор свой Роман.
Чего удостоился он – чести или позора?
Когда приехал к нему Авксентий и стал уговаривать его от имени князя остаться в Киеве воеводою, растерялся Славн. Нешто не жаль Роману его почтенных седин?
– Жаль? – удивился печатник. – О чем говоришь ты, боярин? Разве ты виноват в том, что Рюрик пострижен в монахи?
– Моей вины в этом нет.
– Вот видишь. Так кому сохраняешь ты верность – безвестному черноризцу?
– Не по своей воле, а силою пострижен мой князь.
– Разве сие меняет дело?
Авксентий знал, что старый боярин – крепкий орешек. И Роман это знал. Но в Киеве должен был остаться человек, понятный и близкий киянам. О Чурыне князь и слышать не хотел. Тот, кто преступил черту и предал единожды, не устыдится нового предательства.
Так остановили они свой выбор на Славне, и печатник взялся уговорить боярина.
Не легкое и не простое обязательство взвалил он себе на плечи. И понял это Авксентий сразу, едва только зашел разговор. Но печатник был не из тех людей, которые останавливаются перед первыми трудностями.
Чем сложнее было препятствие, тем только упорнее шел он к своей цели.
Теперь-то Авксентий определенно знал, что они не ошиблись с князем и что, если только заручатся согласием Славна, за Киев могут быть спокойны.
Славна нельзя было запугать или подкупить дарами и грубой лестью. И потому не стал печатник ни хитрить, ни льстить боярину, а говорил ясно и прямо, и ясность и прямота его не отпугнули, а, наоборот, расположили к нему Славна.
– Подумай, боярин, хорошенько, отказаться всегда успеешь. И не Роману служить склоняю я тебя, и не на гнусный толкаю обман. Посуди сам, кому, как не тебе, лучше всего знать своих киян, – говорил Авксентий.
– Почто же не хочет Роман посадить в городе своего боярина?
– Чужой он. Вотчина его отселе далека. А ежели и будет о чем пещись боярин, так разве что только о своей выгоде. И посеет вражду, и предаст Киев разорению. Тебе ли не будет больно, Славн? А ведь и Роман не пришлый тут человек. Помнишь ты его отца, да и самого князя, когда мал он еще был, не раз пестовал на своих руках. Не желает Роман киянам зла...
Слушал печатника Славн, сидел молча, думал. Уже не злобясь, внимательно вглядывался в замкнутое лицо Авксентия.
– Складно говоришь ты, да в словах твоих две правды. И ни от одной из них не уйти. Вот и прикидываю я, за которую встать. Ежели проклянут меня кияне за то, что пошел служить Роману, осужу ли их? Ежели и впрямь поставите вы в Киеве галицкого боярина и посеет он смуту, не стану ли сам себя упрекать до конца дней своих, хоть и заслужу от киян великую честь, и не будет ли сие еще горший обман? – неуверенно проговорил Славн.
– Умен ты, боярин, и на светлый разум твой уповаю, – сказал, вставая, Авксентий.– А покуда неволить тебя не хочу. Оставайся и помысли, как поступить. Но срок тебе до утра. Ежели к утру не решишь и знать о себе не дашь, попомни: за беды, которые обрушатся на Киев, не мы одни, но и ты в ответе.
С тем и ушел печатник. И остался Славн с собою наедине.
Горькие терзали его раздумья, всю ночь не сомкнул он глаз. Всю ночь просидел на лавке, положив перед
собою на стол тяжелые старческие руки.
Не хотелось ему пятнать своей совести, боялся он людского и божьего суда. А как быть? Нешто не суждено ему дожить остатки дней своих в спокойствии и почете? Разве он этого не заслужил?
За спиною у Славна – большая и разная жизнь. Позади – безрассудства молодости, честная служба в зрелости, мудрая неторопливость в старости. Прослыл он человеком мужественным и справедливым. Шли к нему за советом, искали под рукою его защиты обездоленные, говорил он князьям, не таясь, горькие слова истины. Не изворачивался, душою не кривил.
Так не покривит ли нынче? Не совершит ли роковое, не запятнает ли рода своего? Не отрекутся ли от имени его сыновья и внуки – других судил по справедливости, а себя с собою же рассудить не посмел?..
Трудно думал боярин, утром предстал перед князем...
Вот и остался он в Киеве, в опустевшем терему на Горе. Допивали кияне Романовы меды, скоро приниматься за дело. Допевали срамные песни свои скоморохи, скоро и им в путь. Скоро, скоро задымят у кричников домницы, загрохочут в кузнях молоты, застучат в избах кросенные станы, пойдут под ветрилами лодии к Олешью, к просторному днепровскому устью.
И чтобы все это было в ладу, чтобы не иссякала кузнь и товар на торгу, чтобы мыто исправно шло в княжеские бретьяницы и не пустели одрины – для того и оставлен в Киеве боярин Славн.
А еще будет он судить киян, опекать сирых, приглядывать за холопами и смердами, и в том помогут ему огнищане и тиуны.
Много, много будет забот у Славна, и к ним ему не привыкать. И на первую думу соберет он бояр, и будут бояре спорить и ссориться друг с другом, а он должен будет рассудить их и встать на сторону тех, кто прав. Властью, ему данной, карать и пресекать котору, ибо от нее и пошли все беды на Руси. Присматривать, чтобы не ветшали городницы, крепить дружину, зорко следить за степью, чтобы, пронюхав об отсутствии князя, не пришли к городским валам половцы за легкою добычей...
Нет, не страшился старый Славн ни трудов премногих, ни ползучей молвы. Ибо нынче только, тогда лег на него весь груз немалых забот и повседневных дел, понял он, что и доселе не князю служил, а своей земле.
Так предал ли он ее, оставшись в трудную годину при ней?..
А над Киевом все вольнее разгорался жаркий полдень, и солнце стояло на самой макушке неба, обливая Днепр серебристым сиянием.
Вышел Славн на крыльцо, хотел крикнуть отрока, чтобы вывел для него из конюшни лучшего жеребца. Хотелось ему вернуться ко дням своей молодости, проехать по Киеву в высоком седле – есть еще в ногах и руках его сила, и ловкости достанет, чтобы удивить киян, как вдруг распахнулись на княж двор ворота, отскочил в сторону стоявший в стороже воин, и к самому крыльцу подъехал всадник со знакомыми боярину пронзительными глазами.
– Никак, Кузьма? – опешил от неожиданности Славн и раскрыл объятия. – Какой тебя ветер принес?
Были они знакомы давно. Еще когда Верхославу сватали за Ростислава, вместе гуляли на Всеволодовом пиру, и после не раз наезжал Ратьшич в Киев.
Неторопко спустился Кузьма с коня наземь, не спеша подошел к боярину, исподлобья разглядывал с головы до ног.
– Не соврали мне мужики... Тихо у вас в Киеве и благостно: Рюрик за монастырскою оградою, а верный его боярин всем верховодит с Горы...
– И ты туда же, Кузьма, – покачал головой Славн. – Слушок-то прошел, да верен ли? Негоже попреками встречу начинать у крыльца, войди в терем.
– Отчего же не войти, – усмехнулся Ратьшич. – Не случайный путник я, а Всеволодов посол. Принимай, как обычаи велит.
– Ты не путник, а я не князь, – обретая обычную свою степенность, холодно ответил Славн. – Коли со Всеволодовым ты словом к Роману, так не мешкай – еще успеешь нагнать его обоз: недалеко ушел.
И, постукивая посохом, стал подыматься в терем. Испортил ему Кузьма настроение – не поедет он по Киеву на горячем жеребце, снова старость вползла в него, как прилипчивая болезнь.
– Постой, боярин! – крикнул Ратьшич и через ступеньку, опередив Славна, взбежал на крыльцо.
Боярин задержался, покачал головой:
– Всегда ты был горяч, да справедлив. Нынче гордыня над тобою верх взяла. Ну-ко, отступи с дороги, не во Владимире, чай...
Отступил Ратьшич, молча пропустил Славна, двинулся за ним следом, дышал в затылок.
– Митрополит прислал ко Всеволоду отрока, – говорил он с раздражением, ткнувшись взглядом в сутулую боярскую спину.
Славн не отвечал, гневно стуча посохом, вошел в секи, опустился на лавку, Ратьшич – за ним следом. Боярин снял шапку, положил рядом с собой, провел ладонью по влажной лысине. Избегая взгляда Кузьмы, смотрел в сторону, дышал тяжело.
– Постарел ты, Славн, – стоя перед ним, сказал Ратьшич.
– Давно не виделись...
– И я уж не молод.
– Куды там! – усмехнулся боярин. – Вона как взбежал на крыльцо.
– Не обижайся на меня, Славн, – примирительно сказал Кузьма. – С дороги я, устал...
– Христианин я, в крове тебе не откажу. Отдыхай.
Кузьма улыбнулся, сел рядом:
– Ей-ей, на перевозе говорили мне мужики, что отдался ты Роману. Шибко осерчал я, а тут гляжу – ты сам на княжом крыльце.
– На княжом крыльце, эко... А ты, никак, хотел Романова боярина на Горе увидать?
– Чудно мне, почто оставил тебя Роман за киянами приглядывать?
– А вот пораскинь-ко умом, – может, и поймешь.
– Кажись, теперь в догадку мне...
– Не прост Роман.
– То-то наказывал Всеволод, допрежь того как встречусь с Романом, тебя разыскать, с митрополитом побеседовать.
– Матфей на Романову лесть неподкупен был, благословения ему не дал, —освобождаясь от гнева, ровно заговорил Славн. – А меня оставил Роман, потому как другого выбора у него не было. Смекнул? Нешто охота князю возвращаться на пожарище?..
– А кабы и так! – снова взорвался Кузьма.
– И не стыдно тебе, – упрекнул боярин. – Чтобы, как во Владимире твоем, назревала смута, а ты ее пресечь смог, да отказался? Вчера под Рюриком Киев, завтра под Романом, а там еще под кем... Почто жизни прерываться? Ехал, сам небось видел – торг шумит, кузни дымятся, народ поспешает к обедне. Роман клят вы с меня не брал, что буду я ему служить и никому боле. А Рюрик в несчастьях своих сам виноват, бог ему судья.
– Не сидеть Роману в Киеве, – сказал Кузьма.
– То не твои, то Всеволодовы слова, – ответил Славн. – Но и Рюрик – худой князь, грешен зело и нынче поделом грехи свои отмаливает...
Не зная, продолжать ли, помолчал боярин.
– Ты дале-то договаривай, – подстрекнул его Кузьма.
– Да что договаривать? Как сидел Всеволодов дед Мономах на великом столе, благоденствовали и в покое жили кияне.
– Мономахов внук нынче несет вам мир и благоденствие...
– Дай-то бог, – загадочно улыбнулся Славн.
3
Неторопко ехал со своею дружиной Роман. Отойдя на десять верст от Киева, велел он становиться на привал.
– В чем дело, княже? – удивился Авксентий. – Почто медлишь? Погляди на небо – солнышко еще высоко, а до Галича не близко. Уж не надумал ли поворотить назад?
– Что-то неладно у меня на душе, – признался Роман. – С чего бы это?
– Как сказать тебе повелишь, княже? В Славне я уверен, а вот то, что не урядился ты с остальными князьями, тревожит и меня...
Не в первый раз испытывал Роман свое зыбкое счастье. И многое из того, что делал он то ли в приступе гнева, то ли из упрямства, после сам же решительно отвергал. Потому-то и жилось неспокойно подле него боярам: с утра веленное князем к вечеру вызывало его же недовольство: в непостоянстве своем Роман винил тех, кто был к нему ближе и только что помогал в свершении им задуманного.
Авксентий до сих пор удачно избегал незавидной участи своих предшественников – и в том помощниками ему были его притворство и изворотливость.
Однако на сей раз и он пребывал в растерянности. Пока шли от половцев, пока плели вокруг Рюрика сети в Триполе, пока судили да рядили в Киеве, был печат ник как рыба в воде: тут равных себе он не видел и в успехе затеянного не сомневался. Правда, и тогда уже шевельнулась в нем догадка, что дело до конца не доведено, —однако гонцы из Галича, которых принимал он на Горе, везли тревожные вести о смуте, созревавшей на границе с уграми. Быстро смирившись с Романом кияне усыпили Авксентиеву осторожность. Славн взялся пасти неспокойное стадо, а князь торопил его, не очень-то доверяя вступившему после смерти Мечислава на польский престол Лешке, который хоть и был его родичем и союзником, но целиком находился во власти можновладцев и церкви. К тому же держался он у себя непрочно: еще сильна была сторона, мечтавшая посадить в Кракове сына давнего Романова врага Мечислава – Владислава Ласконогого.
Все это знал Авксентий, знал это не хуже его князь, но у Романа было давнее предубеждение против своих и галицких бояр: натерпевшись от них однажды, теперь не верил он ни единому их слову. Ему так и казалось, что стоит только ляхам приблизиться к порубежью, как тут же объявятся у них союзники, только и мечтающие о том, как бы скинуть Романа и посадить на галицкий и волынский стол кого угодно, лишь бы помягче и посговорчивее...
Не сам ли печатник еще недавно раздувал закравшиеся в сердце Романово подозрения? Не он ли оклеветал боярина Рагуила, верного княжеского воеводу, и не на его ли глазах казнили того лютой смертью?..
Везде печать Авксентиева, всюду след его кровавой десницы. Но свою ли волю вершил он, не князево ли предупреждал желание? Разве и без него, и до него еще, мало пролилось вдовьих горьких слез, разве по его только наущению закопано живьем, сожжено и повешено столько бояр?
Не хотел разделить их участи Авксентий, только и всего. Жить хотел, топтать эту траву, дышать этим воздухом, пить эти меды, ласкать наложниц... Так ежели не отдал бы он в руки палачей Рагуила, нешто не покарал бы его Роман?! За прямоту и непокорный нрав – покарал бы. И семью бы его пустил по миру, и жену бы обесчестил. И никакой пользы не было бы от этого Авксентию.