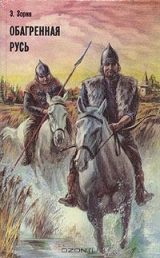
Текст книги "Обагренная Русь"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
Слушок мал, а разрастается в большую молву. Каждый, кто умен, смекает: нет дыма без огня. А в крепостце своей Чурыне все равно не отсидеться. Велел отворять он ворота, велел собирать возы.
Сдержали свое обещание гридни: не бесчинствовали, боярина везли в Киев хоть и под стражей, но с почтением.
И нынче, отсиживаясь в своем терему, так подумал боярин: не тревожат его, потому как был старшой человеком дела и слов своих на ветер не бросал – донес до князя сказанное Чурыней.
Не первую волку зиму зимовать. Мозоли у Чурыни на зубах, знал он что говорит. И ежели подслушал бы беседу Ростислава со Славном, совсем перестал бы бояться.
– Бог был милостив и нам милостивыми быть велел, – сказал князь своему переднему мужу. – Старые долги платить надо, но сдается мне, что и слух прошел неспроста. Сколь помню я Чурыню, никогда не восставал он супротив отца. А то, что соглашался он с Романом, так кто не грешен?
Намек Ростислава, принятый боярином на свой счет, оскорбил Славна.
– Али мне что ставишь в вину?
– Не горячись, Славн. Тебе я верю, но и иным отцовым мужам верить хощу... На кого обопрусь тогда, ежели всех брошу в темницу?
– Не всех, а врагов отцовых и своих. А смилуешься, так сам в поруб угодишь. Такое уж не раз бывало...
Неуверенно чувствовал себя в присутствии Славна князь. Взял боярин в привычку поучать и опекать его... Оборвать бы переднего мужа, поставить на место, но язык у Ростислава на такую дерзость не поворачивался: помнил он, как носил его боярин на руках, сажал впервые на коня. Не до сына было Рюрику – сколько знает Ростислав отца, никогда не приласкал он его, добрым словом не приветил. Либо пировал, либо охотился, либо ссорился со своими соседями.
Славн знал или чувствовал это. Не давая Ростиславу опомниться, говорил по-отечески ласково:
– Ты на меня положись, княже. Худому я тебя не учил, на дурное не подталкивал. Все слова мои с делами сходились. За Рюрика в беде один я восстал. Другие-то голоса своего возвысить на Романа побоялись...
– За мною не пропадет, – сказал Ростислав. – Добрые дела твои я помню, оттого и возвысил тебя. Но возомнил ты, боярин, – продолжал он изменившимся голосом, – возомнил ты, что и шагу мне не ступить без твоих советов. И так говорят в Киеве, что не князь, а Славн, боярин его, всему голова. Князь-де у него едва ли не на побегушках...
– Снова злой наговор! – вскинулся Славн. – Мало ли что болтают на торгу? Не пристало тебе слушать простолюдинов.
Бывало, говорила Верхослава своему мужу:
– Ты на отца моего погляди. Ты с него пример бери. Он и думу с боярами думает, и выслушает каждого, не перебьет. А после свое скажет, и все ему вторят, никто не посмеет перечить. В Киеве же бояре наперед тебя вылезть норовят...
Может, и не ко времени, может, и не по тому случаю вспомнились Ростиславу слова жены? Может, и прав был боярин Славн – не стоило прощать Чурыне всем видимое его предательство?
Но вдруг закусил удила Ростислав, понес, как необъезженный жеребец:
– Будя, будя учить меня!.. Зело предерзок ты, боярин, – язык-то попридержи. Дался тебе Чурыня, что встал супротив него горой. Аль других забот у тебя нет?!
Вот так всегда молодой князь: верных людей отдалял от себя, приближал льстецов и стяжателей. А ведь уверен был, что поступает правильно, что пресекает своеволие бояр. Самим Чурыней брошенный слушок принял на веру.
«Остановись, княже! – хотелось крикнуть Славну. – Опомнись: пропасть перед тобою. Не твердость, но упрямство взяло тебя в полон. Простив Чурыне, развяжешь ты руки не ему одному. Все ринутся к тебе, ища незаслуженных милостей. А после сами же с криками ликования дружно свергнут тебя с Горы!»
Но воздержался, не стал перечить Ростиславу боярин. Поклонился ему и вышел.
Пожалел он о слабости своей, садясь на коня. Хотел вернуться, хотел броситься к ногам князя, попытаться еще раз отговорить его, но представил себе окаменевшее лицо Ростислава, его твердо сжатые губы – и не вернулся, печально понурил голову и медленно съехал со двора...
Если бы знал обо всем этом Чурыня, возликовал бы, лучшую рубаху бы надел, серебром расшитые сапоги, вышел бы на залитые солнцем улицы Киева – вот он я!
Но еще не день и не два пришлось ему ждать, прежде чем принес в его терем гридень приятную весть. И странно: хоть и новую рубаху он надел, хоть и сапоги натянул, расшитые серебром, хоть и возликовал, но порадовался не солнышку, не тому, что князем прощен, а тому порадовался, что волен он теперь исподволь сводить давние счеты.
На лучшем своем коне отправился боярин к Ростиславу, унижался, лебезил, низко кланялся и просил князя:
– Дозволь, княже, взглянуть на трипольского воеводу.
Вторым на примете был у него старый Славн, но это после, доберется он еще и до Славна – лишь бы в самом начале не оплошать. И еще были у боярина задумки, но покуда хранил он их за семью печатями.
Ростислав добродушно посмеялся над боярином:
– Ну на что тебе Стонег? Пущай возвращается в свой Триполь.
– Не все знаешь ты, княже, – заученную речь свою
высказал Чурыня. – Сеть хитро сплетена, и Стонег в ней не самая последняя ниточка.
Не столь красноречив был Славн, а у хитровцев язык поворотлив – кого хошь убедит Чурыня. И глаза у него ясные, и улыбка светла, и голова легко опускается в поклоне.
Насторожился Ростислав, как и рассчитывал боярин, самую суть схватил:
– Про какую обмолвился ты сеть, почто Стонег в ней не последняя ниточка?
И снова заученно (все продумал боярин) стал мяться и увиливать от прямого ответа Чурыня.
От нетерпения Ростислав даже топнул ногой:
– Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Покуда всего не скажешь мне, я тебя отсюдова не отпущу.
– Дозволь, княже, прежде как скажу, проведать Стонега, – взмолился Чурыня. – Догадка у меня есть, а хорошего человека долго ли оклеветать? Чай, на себе испытал.
«Хорошо, что не послушался я Славна, – подумал Ростислав. – Чурыня-то мне еще как сгодится!» И еще понравилось ему, что не ссылался боярин на прежние свои заслуги, а ведь он, как и Славн, стоял когда-то у Ростиславовой колыбели, сватом ездил ко Всеволоду, когда брал молодой князь в жены себе Верхославу.
– Что ж, – сказал князь милостиво, – ступай ко Стонегу. Но не закончен наш разговор, помни.
– Уж и как только благодарить тебя, княже! – воскликнул обрадованный Чурыня. – Не пожалеешь ты, что положился на меня. А я для тебя тако ли расстараюсь!..
«Что это с князем стряслось? – удивился боярин, шагая вслед за стражником через двор к порубу. – Ежели так и дале пойдет, то и вторая моя задумка нынче же осуществится».
– Вниз сойдешь, боярин, – спросил стражник, – али сюды вызволить узника?
Из дыры, где сидел Стонег, густо тянуло затхлостью и зловонием.
– Сюды, сюды, – морщась от отвращения, нетерпеливо сказал Чурыня.
Стражник привычно откинул дверцу в полу и спустил деревянную лестницу.
– Эй, Стонег! – крикнул он в темноту. – Подымайся-ко – гости к тебе пожаловали.
Из дыры послышалось ворчание, лестница дрогнула, показалась взъерошенная голова воеводы.
Не сразу узнал его Чурыня: в яме изменился Стонег – борода не чесана, глаза на почерневшем лице ввалились и потухли.
– Батюшки! – всплеснул боярин руками. Это от сердца вырвалось, этого не предусмотрел Чурыня заранее. – Будь здрав, воевода, – сказал он Стонегу и взглядом велел стражнику выйти за дверь.
Стонег обессиленно опустился на лавку. Дурно пахло от него, но Чурыня, помня свое, виду не подал, не отодвинулся от него, заговорил с сочувствием:
– Чай, не у бабы на перине в порубе-то?
– Куды уж там! – угрюмо отвечал Стонег, шевеля напряженными пальцами рук.
– Чай, на волю хочется?
– Кому ж не хочется-то? Охота смертная, да участь горькая...
– Сам во всем виноват.
– Сам ли, не сам ли, а только всё на меня. Пытали меня гридни, упаси бог – света белого не взвидел.
– Я тебе наказ давал, Стонег: про меня ни-ни. За свой язык и поплатился. Я же, како видишь, здоров и цел, у князя меды пил – к тебе пришел исполнить свою угрозу. Готов ли ты, воевода?
Даже сквозь грязь, покрывавшую Стонегово лицо, проступила смертельная бледность. Повалился он с лавки на пол, обнял Чурынины колени, завопил, обливаясь слезами:
– Смилуйся, боярин! И так хлебнул я лиха – век не забуду Ростиславов поруб!..
– Недолго тебе помнить-то осталось, – жестоко усмехнулся Чурыня. – Как смахнут тебе голову, так и память долой.
– Да что же это, господи! – по-собачьи поскуливал Стонег. – Сколь жил я в Триполе, горя не знал, во всем старался угодить князьям. Рюрику верой и правдой служил, Ростислава чтил, яко отца своего, Роману не перечил...
– Остановись-ко, воевода, – вдруг перебил его Чурыня. – Слово у тебя одно нечаянно вылетело, а я его и подхватил.
– Како слово? – поднял к нему мокрое от слез лицо Стонег. – Ишшо что надумал, боярин?
– А вот и не надумал, просто слово поймал. Теперь подумаю, куды его употребить.
У Стонега мелко застучали зубы.
– Боишься? – улыбнулся Чурыня.
– Боюсь, – признался Стонег.
– А как придут голову сечь, еще страшнее будет...
– Еще страшнее, – кивнул Стонег.
– Помирать-то кому охота?
– Ой, вынул ты из меня душу, боярин! – снова принялся вопить и поскуливать Стонег.
– Погоди-ко, – поморщился Чурыня. – Дай думу додумать. Шел я сюды – хотел твоей погибели, а пришел да поглядел на тебя – так сердце у меня и сжалось. И слово, что вылетело из твоих уст, меня надоумило: не желаю я боле твоей погибели, Стонег, а хощу с тобою вместе погубить моего и Ростиславова врага.
– Куды уж мне! – отшатнулся Стонег, догадываясь, что новые козни Чурыни не сулят ему облегчения. Таков уж боярин, что слова просто не вымолвит, а все с заковыкой.
– Ослобони ты меня, Чурыня. А я тебе буду вечный должник.
– Ослобоню, – уверенно кивнул боярин. – Да вот только должок нынче же платить будешь.
– Да како я тебе заплачу, коли пребываю в узилище?
– Не злато мне твое надобно и не серебро. Я слово твое услышать хощу, – задумчиво проговорил Чурыня, не спуская со Стонега пристальных глаз. – Обмолвился ты давеча, что угождал Роману, как был он у тебя в Триполе...
– Да как же князю не угодить! – вскинул голову Стонег.
– Погоди, – нетерпеливо поднял руку боярин. – И боле не перебивай меня, а слушай и запоминай. Знаешь ли ты Славна?
– Кто же его не знает? Пытал меня боярин, про тебя вызнавал.
– Вишь – боярин, а не князь. То его – не Ростислава проделки. И князь пребывает во тьме, ибо не знает истины. Белый свет застил ему боярин Славн. Сам же не во славу Киева, а себе одному на пользу вершит свои грязные дела. И тако скажу – не я, а Славн пожелал твоей смерти...
– Да на что я Славну?!
– Молчи. – Чурыня с пристрастием оглядел воеводу, остался доволен и продолжал. – Ты один был в Триполе свидетелем его предательства. Покуда пировали в твоей избе, сговаривался во дворе со Славном Романов печатник Авксентий. Тогда еще пообещал галицкий князь, что вручит ему Киев.
– Не было этого, – в испуге отшатнулся от Чурыни Стонег.
– Было, воевода, было. И ты, войдя во двор, тот разговор подслушал.
– Не слышал я разговора!
– Ой ли? – нехорошо засмеялся Чурыня и встал, – Ладно, не слышал, так не слышал. Прощай, воевода!
И он решительно шагнул к двери. Передернулся Стонег, в мольбе протянул к нему руки:
– А я как же?
– Ты не мой, а Славнов узник.
– Убьет он меня.
– Убьет, – подтвердил Чурыня и прикоснулся рукою к дверной скобе.
– Погоди, боярин! – завопил Стонег, – Не хощу я помирать, жить хощу.
– Сперва расквитайся с должком. А там и ступай, куды глаза глядят. Вольному воля, спасенному – рай.
– Страшусь я...
– Чего страшишься-то? Пойдем ко князю, я с тобою рядом буду. Поклянешься на кресте, что слышал Славна с Авксентием.
– Ой-ей-ей мне, – снова мелко затрясся всем телом Стонег. Еще немного осталось, еще чуть-чуть припугнуть его.
– Эй, стражник! – позвал, отворив дверь на улицу, Чурыня.
Переломился, упал животом наземь Стонег.
– Был я на дворе в тот день. И Авксентия слышал и Славна. Был, был, – говорил он со стоном, мотая головой.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Вынужденный Всеволодом отказаться от Киева, раздосадованный Роман возвратился в Галич, недолго побыл в нем и весною отправил гонцов в Краков сказать
Лешке и матери его Елене: «Мой и ваш враг Мечислав умер, и я за вас рад. Вы же помнить должны старый наш уговор. Я помог вам против Мечислава, ранен был и потерпел многие убытки. Отплатите мне за содеянное мною добро, а ежели нет у вас столько серебра и злата, то отдайте мне Люблин».
Все хорошо взвесил Роман, одного не учел: не тот уже был Лешка. Не слушался он матери своей, русской княжны, а больше следовал советам окружавших его алчных можновладцев.
Потешался Лешка над Романовыми гонцами:
– Вона чего вздумалось Роману! Злата и серебра захотелось, а не пора ли ему отведать нашего железа? Скачите и передайте своему князю – пусть убирается восвояси, покуда не проучил я его, чтобы впредь не зарился на чужое добро.
Разгневался Роман. В самое больное место ранили его эти слова.
– Жгите, разоряйте и берите все! – сказал он дружине. – Еще поклонится мне Лешка, так ли еще поплачется! – и, собрав войско, двинулся к Сандомиру.
Пока шли через Волынь, погода стояла сухая и ясная, но едва приблизились к польскому порубежью, как зарядили затяжные дожди.
Не часто случалась в здешних краях весною такая непогодь. Ладно бы еще грозы, ладно бы ливень, а то легла на землю вязкая пелена, дороги расползлись, обоз с оружием и доспехами застрял в пути.
Не нравилось это Роману. Сидел он, нахохлившись, в промокшем шатре, слушал, как стучат по натянутому верху дождевые капли, злился.
Пришел печатник Авксентий, отряхнулся, как кот, – стряхнул с корзна холодные брызги; отроки следом за ним вкатили бочонок меда.
– Что это, что?! – взорвался Роман. Глаза его сузились.
Не узнавал Авксентий своего князя. Бывал он буен во хмелю, а в трезвости – спокоен и сдержан. Что случилось с Романом, не может быть, чтобы причиною тому была одна лишь распутица?..
Авксентий подал знак, и перепуганные отроки мигом выскочили из шатра.
– А ты?! – сверлил его острым взглядом князь.
– Тоже гонишь, княже? – с мягкой улыбкой, словно перед капризным ребенком стоял, улыбнулся печат ник. Улыбка подействовала на Романа, он промолчал и отвернулся. Авксентий сел напротив, уперев в колени ладони, ждал.
– С обозом-то как? – не оборачиваясь, через плечо спросил Роман.
– Послал гридней, – сказал Авксентий, – пущай помогут.
Роман кивнул.
– А коней?
– И коней взяли в поводу.
– Наказать бы им, чтоб не жалели. У ляхов не один табун возьмем, а пока нам к спеху. Опасаюсь я, не идут ли впереди войска Лешкины проведчики. Как бы в другой раз не угодить в засаду...
Роман вдруг резко повернулся, склонился к Авксентию:
– Вижу, по глазам вижу – с новостью пришел. С недоброй?
– Бог весть, – сказал печатник, – иная новость и недобрая, а потом добром оборачивается.
– Сказывай.
Поднеся ко рту кулак, печатник прокашлялся:
– Шел тут кружным путем человечек к Матфею. От ромеев.
– Ну?!
– Допросил я его. Ершистый оказался, гордый. Сперва и говорить со мною не хотел: старший князь-де у вас в Киеве, а ты кто такой?
– Ишь ты, – усмехнулся Роман. – Ты, Авксентий, ловок, ты из него небось все вытряс?
– Всё не всё, а кое-что вытряс. Взяли, вишь ли, латиняне Царьград.
Ожил Роман, вскочил, забегал. Остановился над печатником, сопел тяжело.
– Не брешет?
– Куды брехать-то? Сам патриарх его снарядил на Русь. С грамотою...
– Ан жив патриарх!
– Не прежний ныне патриарх в Царьграде, Романе. Нынче все переворотилось. Патриарх и тот не нашей – латинской веры...
Думал Авксентий – сейчас взорвется князь. А тот вдруг рассмеялся. Долго смеялся Роман, вытирал пальцем выступившие на глазах слезы.
– Помнишь, как приходили ко мне легаты от Иннокентия? – спросил, все еще улыбаясь.
– Как не помнить. Настырны были зело. Выпроваживал я их, так идти прочь не хотели...
– Соблазнял меня папа...
– Ох, и соблазнял!
– Хотел королем русским меня учинить... А с дарами-то прибыли легаты скудными. Всё норовили, как бы от нас что с собою унести.
– Зато обещал тебе Иннокентий и злато, и иное богатство, и грады у ляхов для тебя добыть, – напомнил Авксентий.
– А како ответствовал я им? Вот мой меч, сказал я, им распространю и умножу я землю Русскую.
Любил, когда хвалили его, Роман. Лесть любил. Сам похвалялся. Но на сей раз похвалою не себе была исполнена его речь:
– Поучали нас ромеи, быстро забыли, как брал их на щит Олег. Темные-де мы, прячемся от света божьего в леса и болота. Вона как!.. Нынче, поди, в Киев на коленях приползли, просят убежища. А я иду на ляхов – и короля ихнего Лешку, папой венчанного, заставлю трепетать, яко зайца. А ведь тоже горд, тоже себе на уме. Вот и весь мой ответ Иннокентию. И за Царьград, и за поруганную веру нашу.
Теперь уж не смех стоял в его глазах, а застыло светилась ненависть.
Вдруг у самого шатра зачавкала грязь, сполошно заржали кони.
Вбежал отрок, зашатался, прижимая ладонью бок, медленно стал валиться на сторону. Едва успел подхватить его Авксентий, под рукою почувствовал сырое и теплое – кровь. Из спины отрока торчал расщепленный обломок стрелы.
Роман, как был, простоволосый и в одной рубахе, выскочил во тьму.
У костров шла жестокая схватка. Пешие батогами отбивались от конных. Пешие были босы и без кольчуг, на конных знакомо поблескивала дощатая броня. Опешил Роман: ляхи! Откуда?.. Живо повернулся, снова вбежал в шатер, выхватил из висевших на столбике ножен меч. Авксентий все еще склонялся над умирающим отроком, смотрел на князя со страхом.
Роман прыгнул с пригорка, огляделся: где-то рядом должен быть конь. Разглядел, обрубил поводья, вскочил прямо на мокрую от дождя, скользкую спину – вперед.
Тут же насел на него рослый в броне – с свете костра кроваво чиркнул Романов меч, тяжело ударился, вошел в мягкое. Не оглянулся, вперед поскакал князь. Хрипя и размахивая руками, рослый валился с седла, цеплялся за гриву коня, хотел жить, но не удержался, рухнул наземь, затих.
Впереди раздавались крики, удары стали о дерево, мелькали белые рубахи, над ними черно высились всадники, работали, словно лес рубили.
Роман тоже в белом, как и все свои, врезался в свалку, бил мечом, как придется, краем глаза приметил: не он один уже на коне.
Остро кольнуло в левую руку (нет щита!), потом в бок (на гвоздике в шатре висит кольчужка!) – от полученных ран еще злее сделался князь. Окрепший меч его не знал пощады: вот еще один свалился, другой ткнулся носом вперед, словно заснул.
Рядом рубились дружинники, только теперь началась настоящая потеха – попятились ляхи, думали в лесу запутать свой след. Да не тут-то было: сметливые у Романа вои – покуда рубился князь с ляхами у костров, обошли они нападавших и у самой опушки встретили их меткими стрелами.
Тут и сече конец. Попадали ляхи с коней, подняв руки, стали просить пощады. Шибко обозлились на них вои – добивали и на земле, пока Роман не заступился:
– Почто бить, их мужики? – сказал он. – Лучше вяжите да и в обоз, когда подойдет. То-то распашут они нам осенью поля под пшеничку!
– И верно говорит князь, – опомнились ратники, стали вязать ляхов, снимали с них доспехи и сапоги. А одного по знаку Романа вязать не стали, привели в шатер.
– Ну, – сказал Роман, – отколь в гости пожаловал?
Молчал побитый лях, подтекшим глазом смотрел на князя в упор.
Оправившийся от страха Авксентий прыгал вокруг пленника, дергал его за усы:
– Стань на колени, раб! Аль не видишь, князь Роман перед тобой – не простой дружинник! Стань!..
Не хотел вставать на колени лях. Авксентий сказал князю:
– Дай его мне, Романе. Я ему пятки прижгу – живо заговорит.
Лучшая забава для печатника – глядеть, как муча ются другие. Сам-то он, ежели даже и ножичком чуть себя окровянит, так и сразу в обморок.
– Слыхал, о чем просит меня печатник? – снова обратился Роман к пленнику. – Не позавидую я тебе, ежели и впрямь угодишь ему в руки. А ежели на мои вопросы отвечать станешь, то не отдам печатнику, отпущу с миром.
Чувствуя, что добыча вот-вот ускользнет из его рук, стал упрашивать князя Авксентий:
– Вишь, молчит лях. Не станет он с тобою разговаривать. Не лишай меня радости, Романе, дай потешиться. Уж больно разгорелся у меня на него глаз, с чего бы это?
– А тебе и невдомек, что меня спрашиваешь? – усмехнулся Роман. – С виду ты смиренник, а нутро у тебя хуже звериного. Ладно, не обижайся, – заметив, как нахмурился печатник, успокоил его князь, – бери, коли так. Пользы мне от него никакой.
– Будет, княже, польза. Еще кака польза будет, – расплылся Авксентий в улыбке и стал легонько подталкивать ляха к выходу. – Мне все скажет, от меня тайн ни у кого нет... Плохо еще знаешь ты своего печатника!
– Куды как знаю, – состроил брезгливую гримасу Роман. – Велел бы я тебя самого на угольях подпалить, кабы не верность твоя. Зол ты без причины, Авксентий, – так бы весь род человеческий и извел. Тебе только волю дай!..
– Для тебя стараюсь, княже, – почтительно склонился печатник. Дернул пленника за рукав, – Слышал? Подарил тебя мне Романе – радуйся.
Лицо ляха покрылось крупными каплями пота – весь разговор князя с печатником понял он. Вырвался от Авксентия, пал к ногам Романа:
– Смилуйся, не отдавай меня своему человеку, князь. Спрашивай, все тебе скажу – только смилуйся!
– Вот, – кивнул на пленника Роман. – Напугал ты его своими речьми. Придется обратно свой подарочек возворачивать. Ты уж не обессудь.
Раздосадовал он Авксентия. Лакомым куском только подразнил, а уж потекли у печатника слюнки. Проглотил Авксентий тугой комок:
– Щедрость твоя мне ведома, княже. Об чем речь? Нынче не одарил ты меня – одаришь в другой раз. Я терпелив.
– Бог терпел и нам терпеть завещал, – сказал Ро май.– Ступай, Авксентий, я и без тебя обойдусь. Хощу с пленником с глазу на глаз говорить.
– Воля твоя.
Ворча и негодуя, вышел Авксентий.
– Отколь проведали вы, что иду я на Сандомир? – спросил Роман ляха.
Тот отвечал покорно:
– Проведчиков посылал на дороги войт.
– И про обоз донесли проведчики?
– И про обоз, – улыбка тронула губы пленника. – Покуда беседу ведем мы с тобой, княже, обоз твой гонят по другой дороге в Сандомир.
Вскочил князь, побелел, замахнулся:
– Врешь ты все, подлый лях!
– Почто врать мне, Романе? И так прогневался ты, – пожал плечами пленник. – Весь я в твоих руках: захочешь – печатнику отдашь, захочешь – вздернешь на осине.
Понравился Роману спокойный ответ ляха. Сдержался он, сел, стал еще спрашивать:
– А велика ли дружина в Сандомире?
– Дружина невелика, но город на милость тебе не отдастся: страшатся гнева твоего, Романе, не верят, что пощадишь ты не то что воинов, но и малых детей. Матери младенцев именем твоим пугают, говорят: «Вот придет Романе, унесет в свой Галич, закует в железа...»
– Хороша колыбельная! – хрипло засмеялся Роман. – А что, как правду сказывают мамки?..
Помолчал князь.
– Сказки про меня сложили, – сказал он с печалью в голосе и посмотрел на ляха с укором. – Себе на уме ваш войт – один на стену не пойдешь. А как нагнал он на вас страху, так и все за рогатину. Не с бабами да младенцами я дерусь. Лешка – мой давнишний должник. Вот сквитаюсь с ним и уйду восвояси...
Велев напоить и накормить пленных, он кликнул к себе лучших своих дружинников и приказал по пути, указанному ляхом, скакать и вызволять обоз...
2
Опередили Негубку с Митяем – в Галич понаехало столько купцов, что на торгу и не протолкнуться. Через Перемышль и Дуклянские ворота уходили обоз за обозом на Угорщину.
– Нам с ими делать нечего, – сказал Негубка. – Подадимся на Волынь, а оттуда к ляхам. Там народу помене будет.
На Волынь прибыли ко времени: князь Роман, сказали купцам, только-только ушел с войском к Сандомиру, следом за ними идет обоз.
– Дело это верное, – быстро смекнул Негубка, – с князевыми людьми нам по пути.
Старший обоза, высоченный дядька с усами до плеч, басистый и расторопный, сначала брать их с собою не хотел.
– Вы, купцы, народ смирной, – говорил он, – толком и меча взять в руку не умеете. Куды вам с нами? Не в гости идет Роман к ляхам.
– Знамо, не в гости, – отвечал Негубка. – А про купцов ты зря худо подумал. Дай-ко мне меч свой, погляди, как я с ним управляюсь.
– Не смеши меня, старче, – благодушно отмахнулся старшой. – Может, когда и управлялся, а днесь перетянет тебя боевая сталь... Ну да ладно. Вон отрок у тебя – глядишь, и сгодится. Крепкий парень.
Отслужив на ранней зорьке молебен, тронулись с богом. Ехали ходко, с дружиной, ушедшей вперед, пересылались вестунами, радовались ясной погоде, об опасности не думали. В галицко-волынских пределах земля была своя, гостеприимная и добрая.
Хоть и посмеялся над Негубкой старшой (Яном его звали), а в дороге льнул к бывалому человеку.
– Приметил я, не впервой ты, купец, в наших местах, – говорил он, подгоняя коня к Негубкиному жеребцу, – едва ли не лучше меня знаешь здешний путь.
– Лучше, не лучше, а ходить случалось, – с охотой отвечал общительный Негубка. – Ты бы меня поспрашивал, где только быть мне не довелось! Я ведь лишь зимую во Владимире, а летовать, сколь помню себя, ни разу не летовал. Чуть стает снег, чуть стронутся реки – и нет меня. То здесь, то там. Подбивали и нынешней весною дружки идти с ними вместе в Булгар – зря не согласился. А оттуда, глядишь, подался бы и еще дале – в Хорезм. Чудная, сказывают, земля, но добираться до нее не просто – Волгою плыть, Хвалисским морем да через степи, слышь-ко, через безводье и сушь...
– Да-а, – удивлялся Ян. – Одного не пойму: отколь в тебе, купец, этакая прыть?
– Отколь? А вот отколь: нас ноги кормят. А еще разбирает меня охота на другие страны взглянуть. Вот ты небось всю жизнь провел на Волыни?
– А то где?!
– Вот. Ратаи и воины прочно на земле сидят. Ремесленники тож. А я – что твое перекати-поле...
– Хорошо ли это? Землю любить надо.
– Бог весть. И я землю свою люблю: как вернусь ко Владимиру – на колени паду, каждое деревце обнимаю, как ладу. Да только сдается мне, что без нашего брата ни то ни се... Едем мы, к примеру, с тобой, я тебе разные байки сказываю. Ты мои байки после другим передашь, другие – еще кому. Вот и смекает народ: не мы одни землю пашем, не на нас свет клином сошелся. Где-то за порубежьем тоже не звери – люди пашут, ставят соборы, дороги мостят, бабы такие же, как у нас, детишек рожают. Каждый жить хощет, и каждому жизнь дорога... Вчерась пошел, убил ты ляха – вроде и нелюдь он. Нынче лях пришел, убил нашего – вроде и наш для него нелюдь. А почто так?.. От незнанья, от слепоты. Возьми меня – иду я с тобою к Сандомиру, рядом мы, только руку протянуть, а мысли у нас врозь. Тебе все на чужой земле враги (так Роман тебе сказал), а у меня в Сандомире знакомый лях – тож, как и я, купец, гостем у меня во Владимире был, мед пил за моим столом, песни пел. Так отчего стану я дом его предавать огню, жену и детей угонять в рабство?.. Торгуем мы не год и не два – и оба с прибытком, и обоим нам хорошо...
– Вона куды повернулась задушевная беседа, – усмехнулся Ян. – Послушал бы тебя наш князь... Только думаешь, купец, мне охота тащиться за Романом с обозом?.. Но опять же – куды себя подевать? С детских лет я у князей наших обозником. Тем и кормлюсь, тому и рад, что вернусь не с пустыми руками. Каждому господь свое на роду написал: одному торговать, другому водить обозы, третьему железо варить. А уж после все между собой сочтемся.
Так ехали себе они, плохого не думали, о том, что будет, не гадали. Солнце жарко пригревало поля, от сочных зеленей подымались испарения. Казалось, надолго установилось ведро. Но, прислушавшись с вечера к тревожному треньканью и стрекотанью зяблика, Ян покачал головой и предрек к утру дождь...
Сбылось его предсказание. Ночью прохладный ве тер подул, еще до рассвета небо обволокло тучами, заморосило. Солнце едва-едва пробилось, вселило надежду, но спряталось снова, и к полудню дождь припустил с такой силой, что хоть рубахи выжимай.
Развалило дороги, желтая грязь наматывалась на колеса, лошади скользили, падали, рвали постромки, обозники чертыхались, щелкали кнутами – все зря.
К вечеру, когда совсем темнеть стало, прискакали взволнованные гридни:
– Почто, яко на волах, тащитесь?
– А куды шибче? – отвечал за всех Ян. – И без того кони выбились из сил.
– Ты, старшой, обозников погоняй, – сказал один из гридней. – Жаль им лошаденок, а князь серчает.
– Своя, небось, животина...
– То-то, что своя. Гляди, после не раскайся. А ну, обознички! – бодро прикрикнул гридень. – Поднатужьтесь, до ночлега близко – всего за версту отсюдова поджидает вас Роман.
– Нешто в ночь будем гнать? – ворчали в ответ обозники. – Версту-то по такой грязи и до утра не одолеть.
– Это кто там голос подает? – привстал на стременах гридень. – Кому неможется?
Молчали. Стояли с непокрытыми головами вокруг гридней, переминались, вздыхали.
– Ну что, – выручил их Ян, – расстараемся для Романа? Небось наградит нас на ночлеге князь, а?
– Наградит, наградит, – охотно пообещал гридень.
Расходились с тяжелым сердцем, а куда деться? Криками помогали лошадям, подталкивали засевшие в лужах возы. Двинулись нога за ногу.
Совсем стемнело. Во мраке приблизились к лесу, глядели по сторонам с опаской.
Кто-то показался на дороге, за дождем не разобрать – кто. Не один и не двое. Остановились. Чуть не доехав до встречных, попридержали коней и обозники. Ждали.
– Почто стоите? – наехал на передних нетерпеливый гридень.
– Да вон, людишки впереди незнакомые, – отвечая хриплым шепотом, ткнул во тьму кнутом один из обозников.
– Каки еще людишки? – рассердился гридень. Что-то добавить хотел, но махнул рукой, поскакал безрассудно вперед.
– Куды, куды ты! – рванулся за ним Ян.
За пеленой дождя послышалась возня, чужая настороженная речь. Гридень как сквозь землю провалился.
Знакомо фыркнула опереньем стрела, кто-то вскрикнул:
– Ляхи!
Бросив коней, обозники кинулись в чащу. Дышали тяжело, чавкали шкуряками по вязкой грязи.
– Стой! Стой! – поскакал наперерез им Ян.
Впереди на дороге звенели мечи – это гридни вступили в схватку. Но чувствовалось, что ляхов им не одолеть – все ближе подходили они к обозу, все реже звенели мечи, потом и вовсе стихли. Негубка с Митяем не стали ждать беды – тоже порскнули за деревья. Один только Ян остался на дороге. Некуда было ему подеваться – он за всех в ответе. Окружили его вершники, кричали, перебивали друг друга. Потом Ян стал звать обозников:
– Выходите, вас они не тронут.
В лесу надежно – попробуй, сыщи за стволами. Обозники не отвечали.
– Худо Яну, – шепнул купцу Митяй. – Ой, как худо!
– Чего уж Яна-то жалеть, – отвечал Негубка. – Он им нужен, его они не посекут. А вот мы сызнова без товару...








