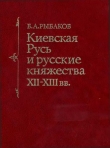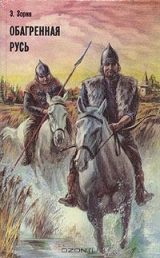
Текст книги "Обагренная Русь"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
– Как ты и просил, княже, сей ларь с книгами присылает тебе епископ наш Арсений, – сказал высокий.
– Как зовут тебя? – спросил Всеволод.
– Меня зовут Герасимом, а друга моего Евстратием.
– Дозволь, княже, показать тебе наши сокровища, – сказал Евстратий.
Всеволод кивнул, и книжники проворно подняли крышку ларя. Жадный взгляд князя скользнул по окованным серебром и каменьями выложенным доскам. Прикинул на глаз содержимое: «Богат, богат Арсениев дар!»
Рука Герасима между тем проникла в самую глубину ларя, пошарила там и торжественно извлекла нечто, бережно обернутое в бархатный лоскут.
– Сие книга, княже, которую ты просил, – сказал книжник и откинул тряпицу. – «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли», им собственноручно писанное...
Глаза Всеволода радостно блеснули. Сто лет рукописи, побывала она у разных хозяев, прежде чем попала к Арсению, но еще свежо смотрится нанесенная на заглавные буквицы киноварь, еще хранят листы тепло Данилова дыхания.
По многим спискам знали на Руси «Хождение», читал его ранее и Всеволод и многие страницы даже выучил наизусть, но что может сравниться с первозданностью этих листов, которые странствовали вместе с игуменом и лежали в его торбице, когда он, подавая проводникам все, что было, из бедного своего добыточка, взбирался на Сионскую гору или осматривал келыо Иоанна Богослова.
Знакомился Всеволод с Зевульфом, Иоанном Вирцбургским и Фомой, писавшими, как и Даниил, о Святой земле, но разве сравниться их писаниям с книгой юрьевского чернеца!.. Ай да Арсений, вот так порадовал!
– Как же попали к епископу сии бесценные листы? – спросил князь у книжников.
– Точно и нам неизвестно, – ответил Евстратий, – но, по слухам, были они перед тем в Чернигове, а до того в Юрьеве южном, где и почил бесподобный старец.
– Как только и благодарить мне Арсения, – растерянно проговорил Всеволод, поглаживая ладонью прижатый к груди пергамент.
– Епископ прислал его тебе в подарок, ибо кому не ведомо о твоей учености!.. Прими его и зря не беспокой себя, княже, – сказал Герасим.
Тронутый словами его, Всеволод тут же кликнул слуг и велел накрывать в палате столы, чтобы щедро угостить книжников, принесших столько радости в его терем.
Меньше книжников пил Всеволод, а быстрее хмелел.
– Любо нам, Евстратий, во княжеском терему! – раскрывал объятия другу своему Герасим. – Ешь – не хочу; пей – не надо!.. Спасибо тебе, княже, за любовь твою да за ласку.
Экие веселые люди у него в гостях, и с чего бы вдруг загрустилось Всеволоду? С чего вдруг показалось ему, что под лицами книжников, как под скоморошьими личинами, скрыты отвратительные и страшные лики.
Тяжело поднялся князь с лавки, каменно уставился на гостей.
– Пейте, пейте, псы, алкайте от моих медуш, – говорил он, поводя перед собою рукой. – Ешьте, ненасытные, набивайте утробу свою салом. Вернувшись к Арсению, снова сядете на воду да хлеб, снова будете юродствовать и жаждать воздаяния. Каково вам?!
Сразу смолкло веселье. Побледнели книжники, отшатнулись от стола, поперхнулись непрожеванными кусками. Жалостливую гримасу скорчил Герасим, покривился и обмяк Евстратий. Опомнившись, упали оба на колени, забормотали невнятно:
– Прости нас, грешных, княже...
– Больно сладки у тебя меды – забылись мы...
– Прости...
– Ступайте, ступайте.
Сел князь в углу под образами, руками обхватил голову – что с ним? Откуда немота во всех членах? Почему собственный голос слышит издалека?..
Скрипнула дверь, чья-то тень выросла на пороге. С трудом поднял Всеволод взгляд.
– Ты, Константин?
– Я, батюшка...
В голосе сына тревога. Или это почудилось князю?
– Худо мне, сыне...
– Да что за беда? – приблизился, сел рядом с ним Константин. Ласковое, родное тепло исходило от него, тонкие руки крепко сжали колени, пальцы как у Марии, длинны и трепетны.
– Пройдет, все пройдет, – поддаваясь нежности, слабо отозвался Всеволод.
Константин мотнул головой.
– Никак, гости у тебя были? Уж не Кузьма ли вернулся из Киева?
– Кузьме еще скакать да скакать... То книжники от рязанского епископа явились с дарами.
Константин оживился, вскочил с лавки, обрадованно воскликнул:
– А дары-то где?
– Ишь ты, – чувствуя, как отпускает его внезапный недуг, улыбнулся князь. – Дары в ларе. Да вот глянь-ко...
– Неужто Даниила сыскал?! – так весь и преобразился Константин, высмотрел с краю стола пергамент, схватил, жадно впился в неровные строки.
Таким любил и понимал сына своего Всеволод, таким хотел видеть его всегда – это было свое, кровное. Но было и другое, и тогда холодел князь: а что, как порвется тоненькая ниточка, связующая его с будущим?!
Вот он сидит перед ним, сгорбившись, наморщив лоб, забыв обо всем на свете, – нервными пальцами листает страницы, шевелит совсем по-детски губами, улыбается своим мыслям, хмурится.
По-немецки и по-ромейски говорит с ним отец – Константин все схватывает на лету. Юрий – тугодум, ему труднее дается грамота. Но вот ведь что: разве только в шалостях он порезвее Константина и впереди – в ратном деле старший тоже превзошел Юрия, на коне держится молодцом, тяжелый меч порывист и послушен в его руке и перёная стрела, пущенная им из лука, всегда идет точно к цели... Но не хочет Константин быть просто исполнителем отцовской воли.
И впервые почувствовал это князь в тот день, когда привез сыну дочь Мстислава Романовича. Не спросил, даже для виду не посоветовался. Сосватал. Обручил. Уложил в постель.
– Так-то, сыне, в молодости все нам кажется ясным: это – хорошо, а то – плохо... Но жизнь обременяет нас опытом, и годы родят вопросы, на которые нет ответа.
– На все должен быть ответ, батюшка...
– Так ли, сыне?
– Так, – сказал Константин и вдруг замолчал.
– Вот видишь, – слабо улыбнулся Всеволод. – Ты ищешь ответа и боишься его.
– Смущен я, батюшка.
– Что же смущает тебя, сыне?
– Правда.
– А знаешь ли ты, что такое правда, сыне?
Вопрос застает Константина врасплох. Что ж, пусть это случится сегодня: Всеволод должен открыть глаза тому, кто наследует Русь. Но Константин молчит. Он вдруг устало откидывается на лавке. Руки его свисают, пальцы неподвижны, дыхание прерывисто.
– Что с тобой, сыне?!
Тишина. В палате смрадно и душно. На столе, шипя, медленно догорают свечи...
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
В году 6711(1203 год по новому летоисчислению) великий киевский князь Рюрик, зять его Роман Мстиславич галицкий, двенадцатилетний сын Всеволода Ярослав, княживший в ту пору в Переяславле южном, и иные князья, собравшись вместе в Трипо-ле, пошли на половцев, взяли станы их и со множеством пленных возвратились на Русь.
По случаю счастливого конца похода был пир велик, и после пира всяк поехал по своим уделам: Ярослав отправился с дружиною в Переяславль, а Рюрик с Романом – в Киев...
Стояло начало необычайно жаркого лета. Над увядающей зеленью трав висело горячее марево. Уже высохла и потрескалась почва, и войско двигалось в клубах желтой пыли. Плелись понуро кони, всадники дремали, покачиваясь в седлах. Однотонно звенела степь, поскрипывали повозки, лишь изредка раздавался ленивый окрик или слабое пощелкивание бича.
Впереди войска, стремя в стремя, ехали князья – Роман и Рюрик, Роман на сером жеребце, Рюрик на гнедой кобыле. Ехали, как и все, молчали, мечтали о тенистом месте, о прохладном родничке, о спокойном отдыхе.
Лишь к вечеру, совсем изнемогая, с трудом добрались до одной из неприметных донских стариц.
Люди радостно бросились к воде, ныряли, с упоением пили; напившись, расседлывали коней, разводили костры, и скоро по всему берегу занялось бесшабашное веселье, словно и не было позади утомительного многодневного пути. Пленных половцев тоже великодушно кормили и поили, и злобы против них не было, потому что поход был удачным и завершился даже без самой малой крови...
Роману и Рюрику разбили шатры на холме в середине стана, у ног князей полыхал костер, на вертелах шипело мясо, и гусляры развлекали их складными песнями, но не заладилось ожидаемое веселье. Не пил Роман, задумчиво глядел на огонь, хмурился.
Грузный Рюрик сидел с ним рядом, тоже был невесел, но пил чашу за чашей, и проворный меченоша Олекса едва успевал доливать ему из кувшина вино. У ног старого князя лежала молодая половчанка, присланная ему в подарок тысяцким его боярином Чурыней. И, лаская пленницу, касаясь пальцами ее смуглой щеки, со злорадством думал Рюрик: «Нет, не прокисла еще в жилах моих кровь, и зря надеется Роман, что скоро приспеет ему время сменить меня на высоком столе в Киеве. Сыну своему Ростиславу оставлю я мое наследство, пусть володеет тем, что принадлежит ему по праву, а уж Ростислава спихнуть с Горы ни за что не посмеет Роман. И так-то гневался на него Всеволод за то, что вздумал пойти он супротив племянника его, галицкого князя Владимира, а за сыном моим как-никак – сама Всеволодова любимая дочь Верхослава!.. Хмурься, хмурься. Романе. Но как ни поверни, а все возвращаться тебе на твою Волынь...»
Гордые мысли, подогретые коварным вином, посетили Рюрика у костра, и уж забыл он про свою полонянку и, обернувшись к Роману, вдруг заговорил с ним заплетающимся языком:
– Что приумолк, Романе? Что не пьешь, не радуешься со всеми вместе? Али мала твоя доля в добыче? Али зло какое замыслил?..
Роман встрепенулся, оторвал свой взгляд от огня:
– Добычу мы делили поровну, и зла я не таю...
– Не притворствуй, Романе, – покачал головой Рюрик.– Вижу я тебя насквозь и вот что скажу: нынче в походе не первой была твоя дружина – моими рука
– Эко разобрал тебя хмель, – отмахнулся от тестя Роман. – Шел бы ты спать, не время делить нам с тобою ратную славу.
Но киевский князь продолжал, будто не слыша его:
– Встретят тебя на Волыни с почетом, слух разнесут, что побил ты поганых...
– Чай, вместе, бок о бок, дрались, – все еще без охоты и вяло возражал Роман. Не хотелось ему начинать ненужной ссоры, что с пьяного Рюрика взять?
Но не так-то просто было отвязаться от захмелевшего князя. Тот себе на уме. И потаенное выдавало предательское вино:
– Храбро дралась моя дружина. Так что нынче, Романе, праздник не твой. Эй, Олекса! – крикнул он внезапно во тьму.
– Здесь я, княже, – откликнулся стоявший за спиной его отрок.
– Приглянулся ты мне, – оказал Рюрик. – Дарую тебе половчанку, вези ее на Русь, пользуйся да князя своего благодари.
– Сто лет тебе, княже, – повалился на колени меченоша. – За что же такая честь?
– За верность твою.
Рывком поднял пленницу старый князь, подтолкнул в спину.
– Бери!
А Роману так сказал с пьяной ухмылкой:
– Что, щедро одарил я отрока?
– Куды уж щедрей...
– Оттого и сижу я на старшем столе, а ты на худой Волыни. Оттого и обломал ты о Киев зубы, что любят меня кияне и почитают за родного отца.
– Вино тебя расщедрило, а не широкая душа, – разозлился Роман. – Да и то: как пришло к тебе, так и ушло. Гляди, тестюшко, как бы не раскаяться...
– Сроду такого не бывало! – засмеялся Рюрик. – А про тебя, знать, не зря говорят: гнилое у отца твоего, Мстислава, было семя...
Кто знает, за какою невидимой глазу чертой начинается мир? А вражда?..
Пройдет не так уж и много времени – и пожалеет Рюрик о своих словах, пожалеет, что поддался не голосу разума, но мимолетному чувству и за минуту при зрачного торжества отдал на поругание остатки своих недолгих лет. Но в ту ночь у степного костра сладкую пожинал он жатву.
Набычился галицкий князь, вскочил, шагнул к сотрясающемуся от смеха Рюрику, едва сдержал себя от соблазна ударить кулаком в его жирный, свисающий через пояс живот.
– Речи, твои, князь, поспешают наперед ума, – сказал он. – Да и ум твой короток, а памяти и вовсе не стало. Забыл, как заступался я за тебя и вот этой рукою, – он поднял кулак. – сажал тебя в Киеве?!
– Не было такого. Все-то врешь ты, Романе. – сквозь смех отвечал ему Рюрик. – А злишься, потому что правду услышал... Нет, не орел ты, а коршун. Всю жизнь питался ты падалью – вот и днесь ведешь на Волынь не свой полон, а добытое мною... Изыди!
– Утром выветрит хмель, – покачал головою Роман, – покаешься ты, да как бы поздно не было. И ране думал я, что отплатишь ты мне черной неблагодарностью, а теперь воочию вижу – вот она!..
Был Роман терпелив до поры, во гневе ужасен. Вдруг, будто споткнувшись о невидимое, перестал смеяться Рюрик, откинулся, замер. Защемило в правом боку, будто кат вонзил в печень раскаленное жало...
Роман шагнул через него, взглядом не удостоил, ушел в темнеющую степь —негнущийся, прямой...
2
Хмельное это было дело. И не стал бы ссориться с Рюриком из-за такого пустяка Роман. И остыл бы он скоро, и утром посмеялся бы над собою и тестем, да так и поехали бы они дальше, касаясь друг друга стременами, к Триполю, и там расстались бы или вместе отправились в Киев, где ждали их жены, пировали бы с дружиной, слушая гусляров. Так бы и было, ежели бы не всколыхнула случайная размолвка темной памяти, не потянула бы за собою давней неприязни, не возродила бы в помыслах Романа честолюбивой мечты отомстить Рюрику за содеянное, вернуть себе отчий стол и на сей раз уже навсегда объединить под собою и киевскую, и волынскую, и галицкую Русь...
Кто и когда смог до конца пройти по извилистому пути человеческих поступков? И всегда ли способны мы увидеть за явным скрытое, всегда ли верно судим о деяниях людей, не зная и не понимая того, что скрыто за явным и доступным для праздного взора? И только ли обида и только ли месть были поводырями умного и решительного Романа?
Еще когда боролся он, сидевший в ту пору на Волыни, за галицкий стол, встал Рюрик на его пути. Даже те что были к нему ближе всех, по простоте своей думали: безудержная алчность и великая гордыня обуяли Романа. Со всеми ссорится он, не может жить в мире с соседями, буйный нрав у князя, дурной характер. Было и это, все было. И мстителен был Роман, и корыстен. И сам порою не мог отделить зерна от плевелов, корысть от любви и боли за многострадальную землю, погрязшую в усобицах и слепой вражде. И не под звонкие трубы, и не под радостные крики приверженцев творил он свои дела – творил при свете дня мечом на поле брани, в ночи – коварством и хитроумием. Побеждая, радовался, теряя все – не унывал...
Ведь было же: сидел он уже на Горе. С тех пор и года еще не прошло. Опираясь на Ольговичей, вступил Рюрик в сговор с черниговским князем Всеволодом Чермным, призвал его в Киев, чего уже давно не бывало, чтобы вместе идти против Романа. Но ничего путного из этого не вышло: опередил Рюрика галицко-волынский князь, вошел со своим войском в его пределы, и кияне, помня отца и деда Романова, вдруг встали на его сторону, отворили ворота и впустили его на Подол. Перепугался тогда засевший за стенами детинца Рюрик, отказался от Киева, бежал в Овруч, Ольговичи отправились за Днепр в свой Чернигов... Хорошо помнил Роман (такого не забыть!), как въезжал он на Гору, как придержал коня, чтобы окинуть взором неоглядные заднепровские дали, как радостно звенело от счастья в ушах, как шел он потом по притихшему терему, заглядывал в палаты, в сени, в ложницу, как сидел, вытянув занемевшие от долгой езды ноги на бархатном стольце с накладными серебряными и золотыми пластинами, как принимал бояр и правил пир и как ночью не мог уснуть, ворочаясь под собольим одеялом, и как угасла потом его недолгая радость, потому что скоро явился гонец из Владимира от великого князя Всеволода и, развязно стоя перед ним, говорил витиевато и длинно, что уже ждет у ворот Киева двоюродный брат Романа Ингварь Ярославич, коего шлет его господин на место Рюрика. Как, удивился Роман, не токмо пред Рюриком, но и пред ним не имеет Ингварь права садиться на великий стол! На что улыбнулся гонец и только пожал плечами... Горячая кровь прилила к щекам Романа, едва сдержал он внезапно вскипевший в нем гнев и, борясь с собою, глухо ответил, что у него и в неустроенном Галиче еще много дел. Исполнив свое поручение, гонец удалился в молодечную, где ему было отведено место для ночлега, а Роман не спал, ходил разъяренно по ложнице, мял в кулаке бороду, кусал в бессилии губы, прижимаясь внезапно охладевшей спиной к муравленой печи, то решался ослушаться Всеволода, то малодушно сникал, то снова ходил, бормоча, что кому-кому, а Ингварю уступать великого стола он не намерен. Но забрезжил рассвет, и гонец снова явился, и Роман, уже успокоившись, снова заверил его, что, как решил Всеволод, так тому и быть. В полдень отбыл он с изумленной дружиной из Киева, оглянулся в последний раз на Гору и чуть не заплакал. Лицо князя сморщилось, он отчаянно вонзил шпоры в бока своего коня...
Было, все было. Уже в Галиче узнал Роман, что Рюрик не мог стерпеть унижения: снова соединившись с Ольговичами и наняв половцев, взял Киев и изгнал из него Ингваря. Ничего подобного не помнил город с той поры, как взят был на щит Андреем Боголюбским. Рюрик не пожалел киян, недавно изменивших ему и открывших ворота Роману; ворвавшиеся в Кнев половцы сожгли Подол и Гору, ограбили Софийский собор, Десятинную церковь и все монастыри, побили много народу, еще больше увели в полон. «Неужто совсем ослеп Рюрик от ненависти, – думал Роман, – неужто и вправду бросил вызов Всеволоду и не страшится жестокого похмелья?» Но свои люди доносили ему из Рюрикова стана, что, оставив сожженный и разграбленный город, вернулся князь снова в свой Овруч.
Все складывалось в пользу Романа. Недолго думал он, как ему быть. Собрав войско, двинулся галицко-волынскнй князь – и не к стоявшему беззащитно Киеву, а в Овруч, стремясь опередить Всеволода, добровольно став карающим мечом в его безжалостной руке. Дивились бояре и дружина, в толк взять не могли: что Роману до Рюрика, когда уж и так стоит тот на краю пропасти? Помочь ему пасть с крутизны и тем заслужить доверие владимирского князя? Кабы дано им было узнать об истинных Романовых намерениях!..
Осадил Роман Овруч, обложил со всех сторон и слал ко Всеволоду гонцов. И говорили гонцы владимирскому князю, что он отец Романов и что не мечтает сын его о старшинстве на Руси, а думает только о мире. И что не повергнуть обезумевшего Рюрика хочет он, а образумить заблудшего, чтобы не лилась понапрасну братняя кровь. Сам же тем временем, явившись в Овруч с малой дружиной, стал уговаривать Рюрика идти ко Всеволоду с поклоном, целовать крест владимирскому князю и детям его.
Все точно рассчитал Роман: Всеволоду угодил и Рюрика выручил, когда и надежды у того не было никакой. Оба князя благодарили Романа, и летописцы возвестили миру о его благородстве и миролюбии: век живи, Романе, пресветлый галицко-волынский князь!..
И еще просил он, чтобы не серчал на Рюрика Всеволод, вернул ему киевское княженье.
И, получив из Владимира благословение, лобызались Рюрик с Романом, пировали три дня и три ночи, щедро угощали дружину и обрадованных бескровным исходом осады овручан. Рюрик плакал от счастья, дарил Роману драгоценные паволоки, жемчуг и меха. И еще три дня пировали они в Киеве. И радовались кияне, возвратясь на родные пепелища, что кончилась усобица и теперь могут они, не страшась Рюрикова гнева, обновлять и устраивать свой город.
Наконец-то спокойно зажила измученная давнишней враждой Рюриковна, жена Романа и дочь великого князя, у матери своей Анны. Мужья их пропадали на охоте, а они ходили в церковь, одаривали нищих, вечеряли, слушая песенниц, катались на лодие по Днепру.
Хорошее это было время, спокойное и бездумное. Все верили в мир, и только Роман знал, что будет он недолог. Не из великодушия вернул он Рюрику киевский стол, а по коварному замышлению. Не дружбы искал он, а своей выгоды. Зря ликовали кияне. Знал Роман: укрепившись в Галиче, еще бурлившем после смерти Владимира, вернется он в Киев за своим наследственным правом. И сделать это ему теперь будет легко. Хоть и уступил Рюрику Всеволод, а веры ему все равно нет. Достаточно обвинить Роману тестя своего в неблагодарности – и вот уж у него развязаны руки. Кияне примут его, Всеволод не сразу разгадает Романово коварство: его ведь именем принес он в Киев мир, его же именем свершит правосудие. Поклонится Всеволоду Роман, поклянется во всем ходить по его воле. С Ингварем-то труднее было: сам владимирский князь сажал его в Киев. А у Рюрика опоры нет.
Так рассудил Роман, но не знал еще, когда пробьет eгo час. И нынче винить некого – сам Рюрик подтолкнул его: чего же еще ждать?
Но причина для большой ссоры была невесома, она лишь укрепила Романа в его решении.
И тогда велел звать он к себе в шатер печатника своего Авксентия и так сказал ему:
– Садись, Авксентий, и думай, и всю правду говори мне, ничего не скрывая. Что сказывал тебе боярин Чурыня о замыслах своего князя?
Сметлив был Авксентий, все понимал с полуслова.
– Что молвить повелишь, княже?
– Не поносил ли Рюрик в безрассудстве своем великого князя Всеволода?
– Истинно так, княже.
– И сказывал тебе о том Чурыня?
– Сказывал, княже.
– А еще говорил ли он о Ярославе Всеволодовиче: молод-де он и неразумен, да и умом слаб – заберу себе половину его полона и иной добычи?
– И это сказывал Чурыня.
– А не говорил ли он боярину своему Славну, преисполнясь гордыни: не стану я ни с Романом, ни с кем иным распределять грады и веси, как было сговорено в Овруче?
– Как же не сказывал, княже? Вестимо, сказывал!
– А подтвердит ли это Чурыня в Триполе, где сойдясь, будем мы делить землю?
– Чего ж не подтвердить, коли так все и было?
– А не сробеет?
– Ты ж ему, княже, пол табуна свово половецкого подарил!..
– Ну так гляди, Авксентий, до Триполя недалеко, два дня пути всего-то осталось.
– Мне и одного хватит. Не волнуй себя, княже, спи спокойно.
Хорошо иметь при себе понятливого и преданного человека. Не из больших бояр поднял к своему столу Авксентия Роман. На большого боярина он бы не положился. Много бед принесли ему бояре и на Волыни и в Галиче. Еще не со всеми посчитался Роман, с иных спрос впереди. Авксентий же служил ему верой и правдой, в корыстных помыслах замечен не был, в книжной премудрости разумел, в бою за чужие спины не прятался, от любой работы не отлынивал. Ходил Авксентий в молодости в Царьград и к святым местам, набожен был, но лба перед иконами не расшибал, пил много и не хмелел, прислушивался на пирах к боярам, князю исправно обо всем доносил.
– Никому ни полслова, Авксентий. А пуще всего опасайся Славна, – предупредил печатника Роман. – Ну, ступай с богом.
Оставшись один, князь хотел было уснуть, но сна не было, и снова думал Роман, беспокоился, не допустил ли оплошки. Нет, упрекнуть себя было ему не в чем. Ежели Чурыня не подведет и скажет все, как сговаривались (а сговаривались они за немалую мзду, что будет боярин-воевода кричать на совете в Триполе слова, которые подскажет ему Авксентий, – еще до ссоры с Рюриком готовил Роман своих людей к тому, чтобы вырвать для себя в южной Руси кусок полакомее; нынче же подскажет ему печатник кричать и еще кое-что), то худо придется киевскому князю.
3
А Рюрик тем временем сидел перед затухающим костром и, вспоминая ссору с Романом и свою слабость, жадно пил принесенный меченошей мед.
Олекса стоял перед князем и со страхом наблюдал, как наливалось кровью опухшее лицо Рюрика, как стекал на жирную грудь его густой мед и дрожали обнимавшие чару руки.
Ко многому привык Олекса (чего только видеть ему не доводилось!), а все не мог он привыкнуть к переменчивому нраву своего князя: то веселился Рюрик безудержно, а то вдруг мрачнел без всяких причин и гневался по пустякам.
Но теперь не веселье и не гнев заливал он обманчивым хмелем – тушил в себе злую тревогу, хотя, если помыслить, была ли на то причина?
Ежели и повздорил он с Романом, ежели наговорил ему чего лишнего, то с кем не бывает. И Роман был не ангел, дурил и того покруче, да вот нет же: пьет Рюрик, себя успокаивает, но недобрые предчувствия разбирают его пуще прежнего.
То раскаивался он, что затеял ненужный разговор у костра, то, вспылив, на чем свет стоит ругал своего зятя, принимая за него безмолвного Олексу, таращил выпуклые бесцветные глаза, то плакал и, беспомощно хлюпая, вытирал широким рукавом платна мокрые от слез щеки.
Только под утро отвел Олекса князя своего в шатер, уложил его на ковры, подоткнул под голову подушку, вышел, лег у входа и тоже задремал. Но сон меченоши был чуток, он просыпался, прислушивался к неясному бормотанью, доносившемуся из-за полога, снова засыпал и снова просыпался...
В сереющих предрассветных сумерках кто-то растормошил Олексу за плечо, сказал насмешливо:
– Эй, малый, князя свово не проспи!..
Вскочил Олекса, схватился за лежавший под головой клевец, узнал боярина Чурыню, протирая кулаком глаза, виновато улыбнулся.
– Славный у князя страж, – похвалил боярин отрока и рукою отстранил его от полога:
– Пусти-ко...
– Почивать лег княже, устал он. Ты бы, боярин, его не тревожил.
– Сиди себе да помалкивай, – сказал Чурыня, – и никого в шатер не пущай. Вести у меня ко князю неотложные.
Боярин оглянулся, откинул полог и вошел вовнутрь. В шатре было душно, воняло чесноком и перегаром. «Эк разобрало его», – поморщился Чурыня и, присев на корточки, стал будить разметавшегося на ложе Рюрика:
– Вставай, княже, проснись.
Ни звука в ответ, даже не шелохнулся князь. Но Чурыня не для того заявился в столь ранний час, чтобы возвращаться к себе ни с чем. Еще раз, покрепче, толкнул он Рюрика.
– А? Что? – всколыхнулось на ложе грузное тело. Сел Рюрик, вытянув ноги, непонимающе уставился на боярина, не узнал его:
– Кто таков?
– Боярин твой Чурыня.
– Пошто тряс?
– Выслушан меня, княже...
– Нешто другого времени не сыскал? – недовольно проворчал Рюрик и, запустив за сорочку руку, почесал грудь. Сладко зевнул.
– Ну-ко, боярин, коли пришел, пошарь да подай мне жбан с медом. Горит все внутри, силушки нет...
– Не пил бы ты, княже, – робко присоветовал Чурыня. – Скоро встанет солнышко и – снова в путь. Жарко в степи, разморит тебя.
– Экой советчик нашелся, – рассердился князь. – Шевелись, боярин, не то не будет у нас никакой беседы.
Подал жбан меда Рюрику Чурыня, с опаской глядел, как опрастывал его князь большими, жадными глотками. Долго пил, разом, без передыха. Кинул наземь пустую посудину, крякнул, провел ладонью по усам, подмигнул боярину:
– Выпей и ты, коли смел.
– О чем говоришь, княже, – с отчаянием выкрикнул Чурыня, – не меды пить я к тебе пришел в столь ранний час!
– А ты не ярись, боярин, – посуровев, пригрозил Рюрик. – Чай, не у себя в терему, чай, не со смердом глаголишь. Князь я!
– То мне ведомо, – сник Чурыня.
Пьянел ка глазах его Рюрик, обмякал, клонился к подушке.
– Не спи, княже. Не спи, не то Киев проспишь!..
Улыбнулся сквозь липкую дрему Рюрик, широко зевнул:
– Ступай, боярин, не до тебя мне.
– Не спи, княже, – просил Чурыня. – Не гони меня, выслушай.
Нарушил нудный боярин князев утренний сон. Разъярился Рюрик, ногой толкнул Чурыню в живот, опрокинул навзничь, заорал неистово: – Ступай прочь, коли велено!.. Эй, стража!
И тотчас же у входа появился насмерть перепуганный Олекса.
Не стал ждать Чурыня, покуда выпроводят его взашей, сам выскочил из шатра. Поистине дурной и бешеный у него князь, прости господи, – перекрестился
боярин и пустился с холма наутек. Долго маялся он совестью, пока сюда пришел упредить Рюрика, да, видно, бог не захотел принять его раскаяния. «Возьму дары у Романа, а там будь что будет», – решил Чурыня и уж не маялся больше, а шел с легкой душой.
Тем же днем на первом переходе нагнал его на своем коне Авксентий, поехал рядом, будто бы невзначай. Спрашивал шепотом:
– Не раздумал, боярин?
– А твой князь не раздумал ли?
– Как сговорено: только сядет он в Киеве, так и возьмет тебя к себе.
– Мое слово тоже верно. Ничего не утаю. Нынче гнал меня Рюрик, как последнюю собаку...
Насторожился Авксентий, даже коня придержал:
– Это пошто гнал?
Едва не выдал себя Чурыня, ненароком обмолвился, но нашелся быстро:
– Пил он с вечера и с утра пьян был – шибко гневался. Едва меченошу свово не пришиб. Толкнулся я образумить его, да куды там – сам угодил под горячую руку.
Кажись, клюнул Авксентий, кивнул, повел коня в сторону, поскакал догонять своего князя.
Глядя ему вслед, Чурыня облегченно вздохнул и вытер со лба тылом ладони внезапно выступивший пот: никак, пронесло. Сам о себе подумал с горькой улыбкой: «Как ног у змеи, так и у плута концов не найдешь».
Продал Иуда Христа за тридцать сребреников, Чурынина же цена подороже будет...
4
Триполь – крепость не велика, но рвы, окружающие ее, глубоки, городницы срублены из добротных свежих лесин, плотно забиты землей, по верху тянется крепкий частокол со скважнями, на вежах денно и нощно стоят зоркие воины: рядом степь, спать недосуг, в любой час может показаться половецкая конница.
Но люди и на порубежье живут по-людски: попривыкнув к опасности, пашут, сеют, рожают детей, пасут скот, торгуют, ссорятся с соседями, водят хороводы, умирают.
Трипольский воевода Стонег, только что отобедав, сидел на скамье и осоловелыми глазами смотрел на неприбранный стол с остатками еды, почесывал пузо и, усиленно морща темный от загара лоб, думал, куда бы после обеда направить свои стопы: к вдове Оксиньице или на реку, поближе к прохладе, где еще с вечера рыбари по его указке ставили заколы. Но прежде, как исстари заведено, ждала его мягкая постель, разобранная проворной Настеной, сестрой в запрошлом году умершей Стонеговой жены.
Воевода потянулся, кинул в рот, зачерпнув ладоныо из туеска, пригоршню спелой земляники, поморщился и, покряхтывая от удовольствия, отправился спать.
Привыкший к порядку, Стонег присел на край просторного ложа, недоуменно, будто впервые увидел, уставился на сапоги.
– Мистиша! – позвал он зычно в приоткрытую дверь.
– Тута я, – вскочил на порог растрепанный паробок в длинной, до пят, рубахе. В одной руке его был голичок, в другой бадейка.
– Что повелишь, боярин-батюшка?
– Аль забыл? – зыркнул на него плутоватым взглядом Стонег.
Мистиша бросил бадейку и голичок, кинулся на колени – сдирать с распухших ног воеводы тесные сапоги. Дернул – освободил одну ногу, боярин чуть не свалился с ложа, предупредил:
– Полегче. Это тебе не липову кору на лапти драть...
Мистиша натужился, осторожно потянул второй сапог – Стонег уперся ему свободной ногой в грудь.
– Вот беда, – сказал он, озабоченно глядя на тесную обувку. – Ты бы, Мистиша, поразносил сапоги-то. Эвона, всю пятку стер...
Паробок, улыбаясь, поклонился и сунул сапоги под мышку.
Жарко было. Выпроводив Мистишу, Стонег лег на спину, не укрываясь, почмокал мокрыми губами и громко захрапел.
Приятные сны виделись ему – будто не спать он лег, а, как думал вначале, отправился через огороды к Оксиньице. Встречала его вдова в своей чисто прибранной горенке, стол и лавку обмахивала вышитым убрусцам, сажала в красный угол, с поклоном подно