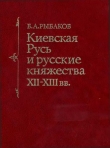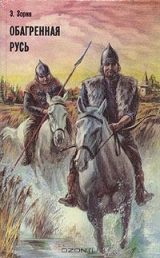
Текст книги "Обагренная Русь"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Трудно шел к своей цели Авксентий и нынче верной собакой был при князе на самом гребне его славы. Шумно жил Роман, не всегда праведно, опасным сосе дом был, несговорчивым – карал, буйствовал, ссорился и других ссорил, терял все и все обретал вновь. А для чего?
Зачем ему Киев? Не спокойнее ли было бы ему сидеть в своем Галиче и на Волыни – одному, прочно, навсегда? Не было там у него соперников, и все говорили бы: вот мудрый князь.
Узкою мерой мерил Романа Авксентий – своей мерой. Думал, Киев ему нужен лишь для еще большей славы. Думал, из корысти тянет руки Роман к соседям...
А зачем Роману чужие бретьяницы, когда и свои полны? Нешто земли ему не хватает? Нешто пахать-сеять негде? Нешто свои сады не родят плодов? Нешто на своих лугах не тучнеют стада?
Да ежели бы Авксентию такое богатство, разве стал бы он снова и снова испытывать свое счастье?! Жил бы, поживал Авксентий на своей земле да солнышку радовался. И руки кровью чужой не багрил. Вот как.
– Вот как, – словно подслушав его мысли, сказал Роман и грузно спрыгнул с седла наземь. – Зови в шатер думцев, печатник.
И, ведя коня в поводу, поднялся на высокий холм, окинул взглядом просторные дали. Легкий ветерок шевелил за его плечами корзно.
Смотрел князь перед собой и с грустью думал: даже близкие люди, даже те, кому верил, не понимали его забот. Вон и Авксентий обрадовался, побежал собирать бояр – лишь бы подальше от князя. По глазам его прочел Роман: ведут они за собою большой обоз, гонят скот и пленных – чего же боле? Пущай себе дерутся за Киев другие князья, пущай злобствуют – нам-то что до того? К нам степняки не придут – крепко оградились мы засеками и лихими дозорами...
Не с кем поделиться князю своими заботами. Пробовал с боярами советоваться – не поняли, иные со страху предали его – кто ляхам, кто уграм, кто Рюрику. За добро свое держались, за право безнаказанно бесчинствовать в своих вотчинах. И то – многих побеспокоил Роман в их родовых гнездах, иных передавил, как пчел, а много ли вкусил меду?..
Пробовал с женою поговорить он, хотел подругою верной и советчицей видеть подле своего стола, любил он ее когда-то, в любви доверял слепо. Но крепче его держал Рюриковну в своих руках отец ее, киевский князь, – не любовью, а родительской властью. И стала она подле Романа страшнее злого недруга: ночыо, когда засыпал он, прислушивалась она к его сонному бормотанью, запоминала, передавала с гонцами в Киев к батюшке своему невольно вырвавшиеся на супружеском ложе признания.
Не легко расставался с Рюриковной Роман – это боярам казалось, что легко. Ждал он, что падет она к его ногам, жаждал минутной слабости, ловил в глазах ее боль, которую чувствовал сам. Случись такое – и простил бы он жену свою, не постриг в монашки. Как знать, может, оставшись одна, без отца с матерью, и стала бы она ему верной супругой?!
Ой ли? Не обманывай себя, Романе, – все, что думаешь ты, пустое. Не ждал ты ее раскаяния – боялся новых слёз (и так уж их было пролито море), спешил поскорее закончить расправу. Просто хотелось тебе еще раз унизить Рюрика, насладиться отчаянием его дочери, увидеть смертельную тоску в глазах ее матери...
Две могучие силы сшиблись в Романе: был он человек, как и все люди, и был он князь. И князь победил человека:
– Скис ты, Романе, как худое вино в корчаге. Нешто Рюриковна других женок слаще?!
И засмеялся Роман тем страшным смехом, от которого холодно делалось обреченным на немилость его боярам.
Тем часом собрались в шатре кликнутые Авксентием думцы, и Ростислав, Рюриков сын, был вместе с ними.
Дав потомиться боярам в безвестности, Роман вошел, ни на кого не глядя, и сел на застеленную ковром лавку. Авксентий с напряженным и бледным лицом встал рядом с ним, остальные расположились по чину. Ростиславу места не хватило, и он, чувствуя себя униженным, смущенно переминался с ноги на ногу у входа.
Роман выпрямился, окинул всех угрюмым взглядом:
– Почто князь стоит, бояре, а вы расселись?
Вскочили думцы, засуетились, кланялись Роману и Ростиславу, обмахивали концами всяк свое место:
– Сюды садись, княже!..
Роман улыбнулся, поманил Ростислава к себе, усадил рядом.
– Место это отныне – твое.
Ростислав смущенно опустился на полавочник.
Роман сказал:
– Звал я вас сюда, думцы, для зело важного дела. Киев отныне наш – сие вам ведомо.
Бояре согласно закивали.
– Но не для того брал я его, чтобы пустошить, как половецкие становища, – продолжал Роман, – а для того, чтобы кончить давнюю вражду и усобицу. Киев есть старейший стол во всей Русской земле, и надлежит на оном быть старейшему и мудрейшему из всех князей, чтоб мог благоразумно управлять и оборонять отовсюду Русь, а не токмо помышлять о своем прибытке...
– Все верно, княже, – заулыбались думцы.
– А в братии, князьях русских, содержать добрый порядок, дабы один другого не мог обижать и чужие земли разорять безнаказанно...
– Велишь, княже, сие занести в грамоту? – склонился к Роману Авксентий.
– Занеси. И еще припиши, что я беру на себя сей нелегкий труд, и пошли сию грамоту всем князьям, а также Всеволоду, коего чту я, как отца своего, превыше всех князей на Русской земле и прошу у него благословения...
Роман помолчал и добавил:
– А Рюрика сверг я со стола за его клятвопреступление. Сие тоже внеси в грамоту.
– Нынче же снаряжу я, княже, гонцов, – сказал Авксентий.
Роман кивнул и, облегченно вздохнув, улыбнулся.
– По правде ли рассудили мы, бояре? – спросил он притихших думцев.
– По правде, княже, по правде! – раздались голоса.
Ростислав молчал.
– А ты почто безмолвствуешь? – сдвинув брови, повернулся к нему Роман. – Аль обижен, со мной не согласен?
– Что слово мое для тебя, Романе! – прерывающимся голосом проговорил Ростислав. – Пленник я твой, а не советчик. Могу ли перечить тебе, не вызвав твоего гнева?
– Опять ты за свое, князь, – покачал головой Роман. – Не можешь простить мне отца своего, а зря. И ране и нынче слышал сам, почто велел я Рюрика постричь в монахи. Вверг он землю свою в неслыханные беды, поссорил меж собою князей. Слаб он духом и телом немощен – как ему сидеть на Горе?!
Ни слова не сказал ему на это Ростислав, склонился, охватив задрожавшее лицо руками.
– Всё. Ступайте, бояре, – сжалился над ним Роман. – И ты ступай, поразмысли. Не хотел бы я видеть в тебе своего врага.
– Княже! – вдруг ввалился в шатер растерянный отрок. Но ничего не успел сказать – за спиною его выросла могучая фигура в темном платне. Бояре замерли в изумлении.
– Кузьма Ратьшич! – вскрикнул Авксентий.
– Со словом к тебе, Романе, от великого князя Всеволода, – поклонившись с достоинством, негромко произнес Кузьма.
4
Когда Чурыня, с перепугу просидевший две недели у себя взаперти, услышал от вездесущей Миланы, что в Киев прибыл гонец от Всеволода, страху его не убавилось, но зато представился случай позлорадствовать.
– Зашевелился владимирский князь, – сказал он сестрице, подмаргивая. – Теперь жди: отольются Славну мои невинные слезки...
– Эк, погляди-ко, невинный какой! – осадила его Милана. – Как бы тебе самому еще горше не пришлось. Сказывают, прощаясь со Славном, целовал его Всеволодов гонец в уста...
– Чего мелешь, сорока! – ударил кулаком по столу Чурыня. – Аль мало тебе моих обид? Не станет Всеволодов гонец целоваться с клятвопреступником!
– Боярин Славн клятвы не преступал, – сказала, по привычке подбоченясь, Милана.
– Тебе-то отколь знать? – огрызнулся Чурыня. – Чай, баба ты, на думу звана не была.
– Да и ты не был зван. А коли говорю, то знаю...
– Уж не сызнова ли от Славновой женки? – подозрительно прищурился Чурыня.
– А кабы и от нее! Давно ли сам наставлял к ней в гости наведываться.
– Так то когда было...
– Нынче мое око в Славновом терему и того нужней, – сказала Милана и ушла, оставив братца в тяжелом размышлении.
«Вот чертова баба! – выругался про себя боярин. – А ведь и верно сказывает... Так неужто и впрямь я чего не додумал?»
Но как ни напрягался Чурыня, как ни морщил свой
низкий лоб, а ничего путного в голову не пришло. Сунув в мягкие чеботы босые ноги, он вышел на крыльцо. Туда-сюда поглядел – нигде не видно Миланы. «Должно, у ключницы», – смекнул боярин и спустился в подклет.
И верно – где же еще быть сестрице! Ей бы язык почесать, а лучшего разговора, чем с ключницей Гоноратой, в ином месте не сыскать.
Была Гонората не просто ключницей, а еще и травницей и бабкой-повитухой.
– Эй ты, баба, – сказал Чурыня, – ну-ко, выдь...
Легким ветерком порскнула из подклета Гонората, словно и не было у нее за плечами шести десятков лет.
Сел боярин на лавку против сестрицы, поскреб под рубахой живот, поморщился.
– Чего вдруг взгомонился? – улыбнулась Милана. Догадывалась она, что отыщет ее братец, – не все еще сказано было в тереме, а ему невтерпеж.
– Разбередила ты меня, – сказал боярин. – Мудрено сказывала, про гонца обратно же, про Славна...
– А что – гонец? Гонец как гонец, – нараспев отвечала Милана. – Будто Кузьму Ратьшича прислал Всеволод.
– Кузьму?! – обомлел Чурыня и быстро перекрестился. – Чуч-чур меня!..
– Вона как переменился в лице, – испугалась Милана.
– Про Кузьму-то, – проглотил боярин застрявший в горле комок, – про Кузьму-то... не ослышалась?
– Не, про Кузьму не ослышалась, – уверенно подтвердила сестра.
– С ним и лобызался Славн на крыльце?
– Должно, с ним.
– Ну, пропал я, – повесил голову Чурыня. – Ежели Кузьма от Всеволода заявился, то с вестью для меня дурной. Не допустит владимирский князь, чтобы Роман своевольничал в Киеве. Никак, возвращать будет Рюрика на стол, а Рюрик мне не простит... Славна же, видать по всему, винить не в чем, – может, он и отправил человека во Владимир: так, мол, и так – поспешать надо. Оттого и лобызался с ним Кузьма... Ай-яй-яй!
– Ну, Чурыня, – поднявшись с лавки, грозно возвысилась над ним сестра. – Ну, Чурыня, лгал ты мне все, а я тебе верила. Так, выходит, и впрямь преступил ты клятву, даденную князю. Выходит, поделом славят тебя на всех углах кияне.
– Нишкни! – подскочил к ней боярин. – Верно сказано, стели бабе вдоль, а она все поперек. Бежать надо!
– Куды бежать-то? – вытаращила на него глаза Милана. – Мне-то почто бежать?
– А по то, что не чужая ты мне.
– Чай, не я князя окручивала...
Не переговорить Чурыне своей языкастой сестры: на любое его слово у нее десять своих припасено.
Махнул боярин на Милану рукой, кинулся из подклета во двор, всполошил прислугу:
– Эй вы, люди! Все, кто есть, ко мне! Снаряжайте возы, запрягайте коней, грузите добро!.. Да пошевеливайтесь, не то у меня!
Забегали, засуетились дворовые, отмыкали бретьяницы и одрины, сволакивали во двор зерно и иную кладь, из медущ выкатывали бочонки с вином и брагой, из терема несли иконы, порты и мягкую рухлядь.
Шум и гам во дворе, люди распарены, кони храпят и пятятся, в воздухе кружится пух из перин, и над всеми – боярин на крыльце: уже в кожухе, уже при поясе и мече, в собольей шапке, надвинутой на глаза.
– Господи, да что же это деется! – заламывая руки, то туда, то сюда кидалась Милана, – Куды ехать-то? Останови их, Чурыня, иль вовсе тебе свет застило – соседям на потеху! Гляди, сколь народу собрал у ворот. И не стыдно?
– Шевелись! Шевелись! – покрикивал боярин, не обращая внимания на сестру, – Куды ларь поволок? На воз его!
Поняла Милана, что нипочем не перекричать ей взбесившегося братца, как бы самой не прогадать, кинулась в светелку, выскочила с девкой: у девки в шелковом плате – иконки, кресты и молитвенники, у самой боярыни под рукою – серебром кованный погребец...
Отшумели – тронулись: впереди отроки верхом на конях, за отроками на расписном повозе – сам боярин с Миланой, а дальше за ними длинным хвостом – весь обоз с медом, воском, пшеницей, сарацинским зерном...
Выехали из города, пугая шумом видавших виды воротников, задержались на берегу Днепра. Куда дальше путь держать?
Боярин привстал на повозе, подозвал конюшего.
– Что прикажешь, боярин-батюшка? – сдернул конюший с головы треух.
– Под Триполь пойдем, —сказал Чурыня, – И вот тебе мой наказ: собери табуны и гони их за реку. Летуй там, покуда не дам знака.
Ускакал конюший. За него Чурыня был спокоен: все исполнит, как велено. Ух ты, гора с плеч свалилась!..
Теперь можно и передохнуть. Упал боярин на подушки, перекрестился, скосил взгляд на сестру. Милана, сидя с ним рядом, все еще прижимала к животу онемевшими пальцами кованый погребец.
– Эк тебя всю скрючило-то, – проговорил он с неожиданным миролюбием. – Отпусти погребец-то...
– Ну и напугал ты меня, боярин, – сказала сестра с виноватой улыбкой. – Ровно на пожаре поспешал.
– Небось поспешишь. Почто погребец охватила?..
– Вовсе и не охватила, – сказала, смущаясь, Милана и поставила погребец у ног.
– Откинь, откинь крышку-то...
– Тебе на что? – насторожилась сестра.
– А ты откинь.
– Ключик потеряла, – быстро нашлась Милана. – На груди завсегда был рядом с крестиком...
Чурыня протянул руку, подергал погребец за крышку – не пускает.
– Хитришь ты, сестрица, – сказал боярин угрюмо. – Не по душе мне твой погребец. Что в нем?
– Не каменья, знамо. Отколь у меня каменья? Браслетики с синими глазками да девичий убрусец...
– Ну, а коли так, почто лишний груз на повозе? Кинь его в реку!
И боярин решительно потянулся к погребцу. Миланины руки были проворнее: не успел Чурыня нагнуться, как уж снова оказался погребец на коленях у сестры.
– Знамо, – сказал боярин и вытащил из-за пояса крепкий нож. – Коли нет у тебя ключика, пущай пропадет погребец.
И, подсунув лезвие в щель, рванул его на себя. Милана охнула, крышка откинулась. Сидевшая рядом дворовая девка зажмурила глаза.
– Вот он, убрусец-то, – насмешливо проговорил боярин, вытягивая из погребца жемчужное ожерелье. – Ягодка к ягодке. А это не браслетик ли с синим глазком?
И он вытянул следом за ожерельем золотые колты с вправленными в них блестящими яхонтами.
Только тут вышла Милана из оцепенения, заверещала, вцепилась в волосатую руку брата:
– Не тронь!..
– Ладно, ладно уж, – сказал боярин. – И доднесь была у меня догадка, что не бескорыстно живешь ты подле меня, пользуешься не одними только хлебами... Нынче сам зрю. Змея ты, Милана, да и только – праведности меня учишь, попрекаешь бесчестьем, а сама живешь праведно ли? – И он покачал головой.
Молча уложив драгоценности в погребец, сестра снова поставила его на колени и обеими руками прижала к животу.
Обоз тронулся.
5
Разъехались князья из Триполя, отшумела распря, и снова тихо да благостно зажил воевода Стонег. По утрам осматривал город (был он невелик), после обеда спал, вечером, ежели была охота, наведывался к вдове Оксиньице.
Первая летняя жара спала, ночи стали прохладнее; смерды по окрестным селам заготавливали сено, в садах наливались сочные яблоки, и сладкий дух витал над огородами, над сонными улочками, над крытыми черной соломою крышами прилепившихся друг подле друга изб.
– Мистиша! – позвал воевода состоявшего при нем на скорые дела проворного паробка. – Вели-ко запрягать коней, да поедем на реку.
– Гроза собирается, батюшка, – помявшись у порога, сказал Мистиша, – может, повременишь?
– Делай что сказано, – цыкнул на него Стонег.
Паробок бесшумно выскользнул за дверь, боярин вышел за ним следом.
Коней запрячь для ловких рук – дело спорое. Не успел Стонег и с крыльца спуститься, как уж подвели к нему два отрока с конюшни любимого угорского фаря.
Остался этот конь у боярина от Романа. Случилось так, что захромал он перед самым выходом князя из Триполя – вот и расщедрился Роман.
– Пользуйся моим конем, боярин, – сказал князь воеводе. – Расстаюсь я с ним не без сожаления. Добрую службу сослужил мне угорский фарь, да куды ж его с подраненным копытом. Тебе же за гостеприимство твое мой подарок – бери.
А и дел-то всего было, что перековать коня. На сле
дующий же день красовался на нем боярин перед теремом Оксиньицы.
Оглаживая шелковую гриву фаря, вздыхала и охала вдовушка:
– Да за что же тебе такой подарок, боярин?.. Знать, приглянулся ты князю.
– Вестимо, – степенно отвечал Стонег. – Чай, не отдал бы коня своего князь первому встречному.
В тот день до вечера простоял фарь на дворе у Оксиньицы. Попивая у вдовушки вино, то и дело поглядывал боярин в окошко. Даже обиделась на него вдова:
– Куды глаза пялишь, боярин?.. Уж не надумал ли променять меня на своего фаря?!
– Эк разобрало тебя, Оксиньица, – самодовольно улыбнулся Стонег.
Знатное седло изготовил в Киеве для своего любимца воевода. Приставил к коню, чтобы денно и нощно следили за ним, трех отроков.
Проезжая по Триполю, собирал боярин вокруг себя восхищенные толпы, звал к себе стариков, чтобы при нем хвалили коня, и не было для него пущей радости, как самому выехать в луга, поглядеть, как пасут его фаря на сочных травах...
Далеко видно вокруг с днепровского берега. Лихо соскочил с седла Стонег, отдал поводья подбежавшему Мистише, спустился к тихой воде и стал смотреть на реку: не проплывут ли заморские гости. Летом на Днепре людно – лодии идут косяками. Нынче, знать, тоже не без них – вон показались черные точечки. Ближе, ближе... Руку козырьком ко лбу приложил боярин, пошарил взглядом по берегу: ежели гости, то и дружина тут как тут. И верно – скакали всадники.
Тут со степи потянуло напористым ветром, взрябило воду в реке. «Верно сказывал Мистиша, – подумал боярин, – кажись, гроза».
Иной раз, в хорошую погоду, гости проплывали мимо. «Нынче не проплывут», – сказал себе боярин.
Лодии стали поворачивать к берегу.
А ветер все крепчал, и над степью вздыбилась большая туча.
– Эй, кто ты такой есть? – осадил перед Стонегом коня плечистый воин с длинными, спускающимися ниже подбородка, светлыми усами. За ним на рысях подтягивалась дружина – все в кольчугах и шлемах, при тяжелых мечах и копьях.
– Я трипольский воевода, – сказал Стонег, – а вы кто?
– Ведем гостей от Олешья ко Киеву, – спрыгнул наземь и приблизился к боярину воин. Вблизи он был еще выше ростом, и Стонег едва доставал ему до плеча.
Борясь с волнами на быстрине, лодии тем временам входили в затишек под укрытие берега. Упали первые капли дождя.
– Батюшка-боярин, – подбежал запыхавшийся Мистиша, держа Стонегова фаря и свою лошаденку под уздцы. – Не промок бы, батюшка-боярин, – эвона какая туча нависла. Поспешай!
– Подь ты! – прикрикнул на него воевода. – Глаза-то раствори, не видишь разве – гости к нам пожаловали.
– Дык промокнешь под дождем-то...
Воины засмеялись. Старший восхищенно погладил Стонегова коня по морде, пошлепал по губам.
– И отколь у тебя, воевода, этакой фарь? – удивился он.
– Князя Романа подарок, – выпячивая грудь, с готовностью отвечал Стонег.
– Эвона! – недоверчиво протянул старшой. – За что ж тебя жаловал князь?
– За что жаловал, то мне ведомо. На что тебе знать?..
На лодиях суетились люди, спускали ветрила, накрывали холстиной товар.
Сверкнула молния, гром ударил почти сразу же – боярин перекрестился и вскарабкался на коня. Дождь полил сплошными отвесными струями. У реки остались одни лодейщики – все дружно кинулись к воротам крепости.
Шум низвергшейся на землю воды был так силен, что не слышно было ни топота копыт, ни храпа коней, ни криков. Словно бичом подгоняя их, молнии полосовали небо со всех сторон с оглушительным треском.
В приезжей избе, что была срублена для случайных гостей, народу набилось видимо-невидимо. Все возбужденно посмеивались, старались протиснуться поближе к печи.
– От самого Олешья ни капельки не упало, – говорил старшой, положив рядом с собою на лавку шлем и стряхивая воду с груди и рукавов, – А тут, гляди-ко, добрым дождем встречает нас Русь.
– Сено убираем, дождь-то не шибко к добру, – заметил Стонег.
Был он доволен счастливому случаю: ежели бы не гроза, так и прошли бы лодии к Киеву. А тихая жизнь в крепости изрядно наскучила боярину.
– Ты вот что, Мистиша, – сказал он ни на шаг не отходившему от него паробку.– Беги к Настене да накажи ей: пущай сокалчих взгомонит. Буду не один, с людьми...
Паробок выскочил за дверь. Старшой улыбнулся:
– Спасибо тебе за крышу над головой, воевода. Добрый ты хозяин, да мы народ не привередливый. Переждем грозу – и снова в путь. Пировать будем дома.
– Хороший гость – хозяину в почет, – сказал Стонег. – Я вам хлеб-соль, а вы мне сказки.
– Не скоморохи мы, сказок сказывать не умеем. А вот бывальщиной не побрезгуешь ли? Жизнь наша в седле, зарубок на теле много – рассказать есть что...
Славно пировали дружинники в тереме у Стонега. Медов не жалел воевода: чего не услышишь от бывалого человека, да еще ежели дождь на дворе, а в голове – хмель.
Старшого Несмеяном звали. Но был он улыбчив и говорлив. Дружинники тоже оказались ему под стать. Но и меда выпили столько, сколько боярин и за год не выпивал.
Выманила Стонега из повалуши Настена:
– Аль совсем сдурел? Князья гостевали – ладно, нынче бог весть кого привел. До вечера они у тебя все медуши выхлещут... Опомнись, боярин!
Стонег едва на ногах стоял:
– Эт-то кого ты пужать вздумала? А ну кшить, да чтобы к нам ни ногою. Хочу – гуляю, хочу – пощу.
С ног сбились челядины – такого шумного пира давно уже не было в Триполе.
На следующее утро проснулся боярин едва живой: будто колотили его всю ночь по голове, руки-ноги выворачивали. О том, как вечеряли да прощались с дружинниками, ни зарубки на памяти не осталось. Помнится, целовался он со старшим, помнится, наваливал что-то в подарок. Вроде Настёна за него цеплялась, а он гнал ее и гневно топал ногами.
Закряхтел воевода, перевернулся на спину.
– Здрав будь, боярин-батюшка, – пропело над ухом.
– Кто это? – удивился Стонег. – Ты, Мистиша?
– Я, боярин-батюшка...
– Похмелья бы мне.
– Да вот оно, не желаешь ли отведать?
С трудом поднялся Стонег, пустыми глазами уставился на паробка. Стоит Мистиша перед ним на коленях, в руках блюдо держит с огурчиками и кислой капусткой.
– Поешь, батюшка, – ей-ей полегчает.
Стонег хрумкнул огурцом, захватил пятерней капустки. Мистиша глядел в сторону. Не понравилось это боярину.
– Почто глаза отводишь? – спросил он паробка строго. – Натворил чего?
– Не, – мотнул головой Мистиша.
– Настена гневается?
– Гневается, – сказал паробок.
– Баба она.
Мистиша молчал. Стонег еще зачерпнул пятерней капустки, пожевал, вытер мокрые пальцы о рубаху.
– Гости-то как отъехали?
– Отъехали...
– Не обидели?
– Нас-то?
– Почто нас? Мы-то гостей не обидели? – рассердился непонятливости паробка боярин.
– А что им на нас обижаться? Всё – как у христьян: ели-пили, песни показывали. Да еще и с дарами отъехали...
– Ишь ты, с дарами, – мотнул головой Стонег и снова потянулся к капусте. Но вдруг рука его замерла над блюдом. Сквозь мрак тяжелого похмелья вспомнилось боярину что-то смутное: будто стоит он во дворе рукою машет, а Настена висит у него на плече.
Стонег сердитым взглядом ожег паробка:
– Говори!
Отпрянул Мистиша, чуть не выронил блюдо:
– Увели фаря твоего, боярин-батюшка.
– Как увели?! – подскочил на ложе Стонег.
– Подарил ты его старшому, когда прощались с ним на крыльце. Уж так ли уговаривала тебя боярыня, а ты все одно: «Кшить, баба...»
Слабо сделалось воеводе в ногах, руки обвисли, как плети:
– Коня увели... коня...
Закачался Стонег на ложе, замотал головой.
– Беда-то какая, Мистиша.
– Да полно кручиниться, батюшка, – попробовал успокоить его паробок. – Другого коня пожалует тебе князь.
– И ты туды же. Вот я тебя! – вскочил с ложа Стонег. – Нет, чтобы удержать, нет, чтобы не дать коня. Ты-то куды глядел?
– Дык с тобой, батюшка, сладу не было...
– Будя, – сказал Стонег. – Подь сюды, Мистиша, не боись. Да поставь на стол блюдо и слушай мой наказ: где хошь, а достань мне фаря. В Киев иди, в Галич, в Олешье – куды следы приведут, а без коня не возвращайся.
– Дареный он, конь-то твой! – вскричал в отчаянии паробок.
– Ну и что, что дареный. А ты его обратно возьми – да в Триполь, да в мою конюшню, – ласково говорил боярин. – А не вернешь, Мистиша, вот те крест, не жить тебе на этом свете. Так и знай!
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Всю жизнь свою, все шестнадцать годков, прожил Мистиша на Стонеговой усадьбе. С малых лет только и знал он что этот двор с одринами, медушами и конюшней да крепость, которую окинешь одним взглядом из конца в конец, да Днепр, да степь за Днепром, да вьющуюся берегом дорогу, которая, как сказывали, ведет в Киев, большой и красивый город. Чудесными рассказами заезжих людей жил Мистиша, манило его за степной окоем, но не думал, не гадал он, что так вот сразу, вдруг, и не по своей воле, отправится в неведомое странствие. И сладостно, и страшно было ему, и всю ночь перед отъездом сжималось у него сердце и не давало сомкнуть глаз.
Ни свет ни заря растормошил его конюший Кирьяк, смущенно потупляясь, сунул завернутый в тряпку шматок соленого сала:
– В дороге сгодится.
Потом помолчал и добавил:
– Ты на меня не серчай, Мистиша. Видит бог, и я
противился боярину. Да где уж мне совладать, коли он и Настены не послушался.
Вместо ответа Мистиша прильнул к плечу Кирьяка.
– Кто знает, когда еще доведется встретиться, – сказал конюший, мягко отстраняя его от себя. – Вот, возьми мою оберегу.
Во дворе стоял оседланный конь, толпились молчаливые людины. Низко поклонился им всем Мистиша, и они поклонились ему низко.
– Ну, чего там – трогай, трогай, – глухим голосом поторопил Кирьяк.
Мистиша вздел ногу в стремя, еще раз окинул грустным взором знакомый ему с детства двор, вскочил в седло и выехал за ворота.
Уже за городом еще не раз оглядывался он на маячившие вдали стены с деревянными вежами, еще придерживал коня, но скоро поднялось по правую руку солнце, конь сам по себе прибавил шагу, Триполь скрылся за холмами, рядом весело поблескивал Днепр – и от грустных мыслей не осталось и следа.
Хорошего иноходца подобрал Мистише Кирьяк (еще ответит перед боярином), хорошее выбрал седло (и за это ему непоздоровится), дорога быстро бежала коню под копыта. Среди позванивающих трав трепетали ранние птахи, ласковый ветер обдувал пареньку лицо. Обгоняя бредущих на покосы мужиков и баб, Мистиша прямил спину, глядел на них с коня с гордой улыбкой.
– Далеко ли путь наладил, Мистиша? – ласково спрашивали его люди.
– В Киев боярин снарядил, – степенно отвечал паробок и поигрывал плеточкой.
«В Киев, в Киев», – постукивали в голове звонкие молоточки.
Долог путь, да изъездчив. Скоро показалось на пригорке село. В селе церковка деревянная, возле церковки – длинный обоз. Попридержал Мистиша иноходца.
– Эй, кто таков будешь? – преградил дорогу мужик с волочащимся по земле длинным кнутом. Борода у мужика пегая, в разные стороны торчит, глаза злые.
– А ты кто таков? – стараясь казаться храбрым, спросил дрогнувшим голосом Мистиша.
– Слезай с коня!
– Еще чего?
– Кому сказано!..
Не было у мужика охоты лясы точить. Разом за молкли в голове у Мистиши игривые молоточки. Спустился он наземь, мужик решительно взял коня за повод, куда-то повел. Паробок шел рядом, нудливо гнусавил:
– Боярин меня в Киев послал, почто препятствуешь?
– А кто твой боярин? – спросил мужик, не оборачиваясь.
– Стонег, знамо, – удивившись, что не знают его боярина, отвечал Мистиша.
Но на мужика это имя не произвело никакого впечатления.
Подошли к церкви.
– Жди здесь, – сказал мужик. – Да не вздумай убегнуть: всё одно догоню.
О том, чтобы бежать, у Мистиши и в мыслях не было: уж больно опасен был мужик. Долго стоял он на солнцепеке, все гадал – что за обоз. На купеческий не похож, а иному отколь тут быть?
Истомился Мистиша, ожидаючи. Мужик вернулся злее прежнего. Повелел:
– Иди за мной.
Привел в избу. В избе на лавке сидел толстяк с белесыми глазами, посвистывая носом, пил из широкого жбана квас. Рядом с ним – баба, сухая и длинная, с постным лицом и капризно поджатыми губами.
Переступив порог избы, свирепый мужик сделался угодливым, спина согнулась, голос потек елейным ручейком:
– Вот ентот, боярин, паробок и есть...
– Иди покуда, – отослал боярин мужика и с любопытством оглядел Мистишу.
– Так Стонегов, говоришь? – спросил угрюмо, – Из Триполя в Киев поспешаешь?
– Все так, – отвечал Мистиша и поклонился боярину.
– А не сбег от воеводы?
– Куды ж мне!
– И коня воевода тебе дал?
– И коня.
– За каким же делом послал тебя Стонег в Киев?
– Увел у воеводы его любимого фаря Несмеян, – осмелев, бойко отвечал Мистиша.
– Несмеян говоришь? – вытаращил глаза боярин. – Да в своем ли уме Стонег?! Ты, холоп, говори, да
не заговаривайся. Знаю я Несмеяна, зачем ему чужой фарь?..
Обрадовался Мистиша – вот и кончик ниточки объявился. Совсем осмелел:
– Услал меня боярин за Несмеяном вослед: ищи, говорит, хоть в Киеве, хоть в Галиче, хоть в Олешье, а чтобы был у меня на конюшне фарь. Пили они вечор, вот и подарил воевода Несмеяну коня, не подумавши. Теперь убивается...
– Поделом Стонегу, коли до седин ума не нажил, добродушно проворчал боярин и снова потянулся губами к жбану с квасом. – Да слыханное ли это дело, чтобы дареного коня назад возворачивать!
– А допрежь того, – сказал Мистиша, – подарил фаря боярину моему сам князь Роман.
– Как же, как же, – закивал головой толстяк, – всё помню...
– Не томи ты паробка, Чурыня, – вдруг встряла в разговор сидевшая до того тихо тощая баба и обратилась к Мистише. – Видели мы Несмеяна и фаря Стонегова видели – недалече отселе повстречали на берегу Днепра дружинников...
– Боярин-батюшка! – вскричал Мистиша и со стуком пал на колени. – Вели отпустить меня, может, еще и нонче догоню Несмеяна!
– Ишь ты, прыткий какой, – засмеялся Чурыня. – Ладно, догоняй уж. А то прибёг ко мне дворский, говорит: никак, холоп утек на хозяйском коне...
Задом, задом выкатился из избы Мистиша – и к церкви. Давешний мужик, Чурынин дворский, прохаживался между возами.
– Что, не всыпал тебе боярин? – оскалил крепкие зубы.
Вскочил Мистиша на коня, не удостоив мужика и взглядом. Снова застучали в голове веселые молоточки. Вот уж и село за спиной, вот уж и Днепр заблестел под высокой кручей.
Лихо шел иноходец, взметывал за собою клубы черной пыли. До боли в глазах вглядывался паробок в прихотливо извивающуюся перед ним дорогу. Но была она пустынна до самого окоема. Скоро выбился из сил добрый конь, и Мистиша перевел его на трусцу. Нет, не догнать ему Несмеяна, а в Киеве искать – все равно что иголку в стоге сена.
Приуныл паробок, ехал по берегу, понурившись.
Солнце перевалило за полдень, пекло немилосердно. Приспело обеденное время, да и коню пора уж было отдохнуть. Сыскав удобную тропку, Мистиша съехал к воде, дал иноходцу вволю напиться, пустил на траву. Сам достал из-за пазухи подаренное Кирьяком сало, сукрой хлеба и только принялся за трапезу, как сверху посыпались на него камешки и песок. Вздрогнул паробок – и замер от страха: из травы, на краю откоса, вылядывало чье-то лицо, похожее на скомороший скурат, – с узкими глазками и длинным сморщенным носом. Оно улыбалось сочным красным ртом и корчило гримасы.