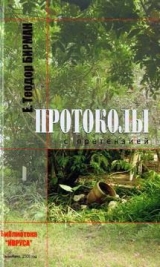
Текст книги "Протоколы с претензией"
Автор книги: Е. Теодор Бирман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц)
N++; РАЗУМ И СТРАСТЬ
Разум ведет к компромиссу, страсть ведет к победе, разум приближает старость, страсть – поражение. Страсть и разум вечно стучатся к нам в дверь и требуют выбора.
– Россия и Германия – это особая тема, но есть у нее и совершенно другой аспект, – говорит Б., – немецкие и русские евреи в Еврейском Государстве. Русский еврей (остн-юде классик) в представлении немецкого еврея – национальный позор. В лучшем случае – оборвыш, варвар и фантазер, в худшем – говно, из-за которого нас не уважают приличные дойчен. Немецкий еврей подозревает, что жизнь, в конечном счете, сколько ни пытайся привить ей порядок и смысл, сколько ни драй ее щеточками и скребками, покроется жирными пятнами рук остн-юден, устроится по прихотливой и нелепой фантазии варвара. У него с давних времен два любимых образа в сердце – дойчен как близкий образец и евреи Востока (не путать с остн-юден) как далекий сантимент самобытности. Но ведь на то он и еврей немецкий, чтобы наступать в порядке и отступать в порядке. Старая добрая... нет! Новая добрая дойче машинэ, заправившись бензином, едет прямо и держит дорогу так, что кажется – не дорога ведет машину, а машина поворачивает дорогу. Дорога, по которой катит дойче машинэ, ведет в прессу, университет и в систему правосудия. Там мы поставим наш добротный замок – Дойчюдебург.
Первый обратный взгляд остн-юден на дойч-юден мы находим в мемуарах нашего первого президента. Он был по профессии химик, и во впечатлениях его – налет его профессии. Дойч-юден кажутся ему просушенным концентратом, торфяным брикетом европейской культуры.
– Даже в том, что писал Герцль, меня задело обилие заискивающих интонаций, – подтвердил Я.
– А слышали вы о движении Гуш-Шалом (то есть Блок Мира), в основном состоявшем из бывших дойче профессорен? В годы перед Войной за Независимость они полагали, что не нужно нам Еврейского Государства, Палестина должна стать духовным очагом еврейского народа, в ней Соседи должны оставаться большинством, в своем, соседском государстве, иначе Соседи могут обидеться и вспыхнет Война.
– Так ведь вспыхнула же Война, – сказала Баронесса.
– Конечно, вспыхнула – сказал Я., – мир никогда не вспыхивает. В Еврейском Государстве уцелевших в Холокосте называли мылом. А в Германии в это время имел хождение анекдот. Что такое реабилитация евреев, спрашивал себя один остроумный немец (остроумных немцев надо ценить). Это – как из мыла сделать еврея, отвечал этот немец себе и другим немцам, не столь остроумным, но ценящим хорошую немецкую шутку. В факте хождения этого слова в Еврейском Государстве была обида. Их унизили, и они платили за унижение уже униженным. Унижение не имеет отношения к разуму. Обида за унижение – страсть чистой воды.
– Нациям, в отличие от отдельных людей, позволяется (и даже считается полезным) говорить о себе в превосходной степени. Особенно, народам не слишком удачливым, – продолжил Б., – поэтому в Еврейском Государстве день Холокоста назвали днем Катастрофы и Героизма Европейского Еврейства. Вот я хочу спросить наших дойче профессорен, где их Гуш-Шаломовская действительность? Или на языке настоящей дойче философии: “Все действительное – разумно”? Так? Так! “Все разумное – действительно”? Так? Так! С вашим Гегелем спорить не станете? Тогда я спрашиваю, почему же ваше видение ситуации не совпадает с действительностью? Где мир на Ближнем Востоке? И сам себе отвечаю – в заднице, где будет и нынешний немецкий пацифизм. Боже, благослови Америку, пока и она еще не ссучилась, – страсть накрыла Б., что находит отражение в его речи.
– Вот и наши благословенные профессора, – продолжает Б., – в своих каменных домах иногда кажутся мне похожими на черные обелиски, блестящие и холодные, как памятники европейским интеллектуальным поветриям. С провинциальным отставанием от кладбищенской моды. А в их черных мантиях я узнаю распоротый жидовский лапсердак.
Я. взглянул на Баронессу. Что она думает о разуме и страсти? Она молчит. Как обычно в таких случаях. И Я., тоже как обычно, считывает чуть заметные знаки на ее лице. Мы едем на Восток, говорил он ей перед отъездом в Еврейское Государство. На Востоке женщина должна знать свое место, говорил он, заглядывая ей в глаза. Ничего похожего на покорность никогда не ночевало в этих глазах, поэтому так легко им ответить чистым и честным взглядом: я буду образцовой женщиной Востока. Я. улыбается, она остается серьезной, но через пять секунд искоса смотрит на него, и теперь уже оба давятся от смеха.
Так как насчет разума и страсти? Этот иероглиф на ее лице ему хорошо знаком: не надо противопоставлять – любимый ответ жены.
Я. неожиданно поежился, будто холодную и мокрую рубчатую занавеску озноба порыв ветра приклеил к его спине. Позже он чихнул, еще позже – закашлялся.
О ПРЕОДОЛЕНИИ ЛЕГКОГО ГРИППА
Капли воды сбегают по свежевымытому стакану на темный кухонный мрамор. Scotch Whisky рыжевато подмигнул Я., поймав солнечный луч. Но он не так рекомендуется при легком гриппе, как сдержанный и не склонный к эксцессам чай. Потому, наверное, и затаился в изысканной, полупрозрачной темно-зеленой бутылке коньяк, скромно именующийся не содержащим титулов званием Brandy.
Я. нарезал хоть и свежих, но сереньких в силу своей обыденности помидоров и огурцов и осыпал их как праздничным конфетти – рубленой зеленью из коллекции, собранной на еврейских полях быстрыми таиландскими руками и упакованной в прозрачную плотную коробку, через которую придирчивый взгляд способен сразу разглядеть первые признаки увядания овощной фотомодели.
Оливковая ветвь с плодами изображена на другой элегантной бутылке. Правда, нарушая элегантность, пробка на нее навинчена криво и сидит на горлышке, словно кепка на голове подвыпившего фабричного в черно-белом фильме. Для тех, кто не читает на иврите, написано на этикетке по-английски Extra Virgin Premium, что делает непререкаемо понятным – речь идет об исключительно полезном и здоровом продукте. Этой амброзией, вытекающей через пластмассовое дозирующее устройство, Я. поливает овощи с неторопливым достоинством.
Теперь, когда Я. никуда не спешит, он разглядывает, что же написано на полупрозрачной упаковке, на которой вчера в супермаркете он прочел только то, что было написано крупными буквами – FRENCH STYLE BREAD. Ломти нарезанного еще в пекарне хлеба через прозрачный клин упаковки выглядят аппетитно в легкой хлебной изморози, со своими миндальными(?) включениями (french!). Эти осколки миндаля наверняка попытаются выковырять вертлявые детки. На непрозрачной части упаковки – черно-белая фотография, будто размытая временем, на которой без труда можно разглядеть заведение с надписью KAFE DE FRANCE и людей, сидящих за столиками на тротуаре. На хлебной упаковке строгий ивритский шрифт сообщает, что хлеб выпечен в артистическом стиле Буланжери вручную. Как великий Микеланджело сам выбирал глыбу мрамора, из которой изваял еврейского царя с повисшим фаллосом и необрезанной крайней плотью, так пекарь, сообщает строгий текст, лично выбирает компоненты для выпечки хлеба, а затем следит за всем процессом до самого выхода хлеба из печи.
Вот и видно, ворчит Я., что он не следил за нарезкой, ведь эту корочку следовало бы разрезать еще как минимум на три части, и Я. любовно разрезает корку на три ломтика. А на другой стороне упаковки содержатся советы шеф-повара с графическими рисунками. И текст к рисункам выполнен уже не строгим шрифтом, а мягким, домашним, каким пишет руководитель проекта протоколы на технических совещаниях. На одном рисунке на ломтиках хлеба лежит непонятно какого сорта сыр (не сыр же нам рекламируют), присыпанный зеленью. А рядом с ломтиками лежат оливки. А на другом рисунке – печь, не микроволновая, конечно, а из красного кирпича, сложенного аркой, не стрельчатой, а мягко-округлой. Цвет кирпичей на графике, конечно, неопределим, но Я. знает, что эти кирпичи красные, он видел такие печи во многих местах не во Франции, а у нас в Еврейском Государстве. От ломтиков хлеба поднимается графический пар в полторы волны, а длина волны на рисунке – примерно 12 мм. Про серые в графическом исполнении языки пламени известно, что они бывают красные, а иногда бледно-голубые.
Нам при гриппе рекомендуют зеленый чай как лучшее средство при безобидных болезнях. Но Я. хочется алого цвета в чашке, и он выбирает между красным чаем из неизвестного ему ройбуша с добавлением пассифлоры (от нее, если ее посадить в саду, избавиться можно только с помощью мачете для рубки сахарного тростника) и полевых роз, полезные свойства которых (мы знали их под именем шиповника) нам знакомы с раннего детства, ведь выковырянные из них семена, брошенные друзьям за шиворот, способны вызвать столько жизнерадостного детского смеха. Но победу по очкам, справедливый судья, Я. присуждает чаю гранатовому, ведь ему в один голос объяснили по телевизору и экспортеры гранатов, и их производители, что гранат так же эффективен в борьбе с холестерином, как красное вино. Взял бы он и меду, если бы не боялся его липкости.
С чашкой чаю, на которой изображена история игры в крикет, Я. идет к окну. Вот вертолет проплыл вдоль щели жалюзи за стеклом закрытого окна как бесшумная стрекоза. Или это он подыграл ему, чуть приопускаясь и вытягиваясь, чтобы удержать его полет на заданной высоте 9-й снизу жалюзи и 32-й параллели по глобусу. Он сдвигает жалюзи и открывает окно в сад, чтобы услышать звуки внешнего мира. Кто там шуршит в кустах? Отсюда не видно. Наверное, это аккуратная кошка закапывает следы своей жизнедеятельности.
К завтрашнему дню ему нужно выздороветь, чтобы перейти от пассивной созерцательности к активному созидательному труду и прочей положительной жизни.
СЛУЧАЙ С А.
А. задержан полицией за избиение и попытку изнасилования. Эта новость в Кнессете Зеленого Дивана вызвала бы абсолютный шок, если бы подобные происшествия не случались даже с героями Большого Кнессета. Шок все же имел место.
Б. принялся было иронизировать.
– Когда мы вместе были за границей, – рассказывал он, – поджидая однажды А. на выходе из общественного туалета, я удивился, чего это он застрял там. Я заглянул внутрь и увидел, что А. отходит от автомата с презервативами. Я удивился, никаких приключений у нас там не предвиделось, с чего бы он именно сейчас вдруг решил приобрести эту штуку? Видимо, торговый автомат вызвал у него какие-то ассоциации, а купив презерватив, он все эти годы размышлял, как его использовать. И вот, видимо, решился.
– Мне легче поверить, что сам автомат воспользуется своим товаром таким вот образом, – сказал Я.
– Чушь, – заявил В.
Баронесса, округлив глаза, молчала.
– Это было в Париже? – спросил В.
– Не помню, – соврал Б.
– Если бы вы занимались подготовкой артиллерийских позиций, мысли А. были бы заняты делом, – объяснился интерес В. к тому, где именно имело место данное происшествие.
– Это было в пору Больших Надежд, нам тогда воинственные мысли в голову не приходили, – ответил Б.
Баронесса посмотрела на В. с опаской: уж не припрятаны ли у него где-нибудь в пригородах Парижа еще пару “касамов”? Задетый добряк может быть опаснее злодея, подумалось ей. В.– самый молодой из членов Кнессета, он служил в элитной части Еврейской Армии. Однажды, будучи на сборах резервистов и уже подвыпив с товарищами в армейской палатке, он в доказательство своей мужественности пообещал, что раздавит пальцем большого крылатого таракана.
Веселая компания тут же отправилась на поиски. В темноте они растянули простыню и шли с ней против ветра, пока не услышали характерный слабый удар. Изловленный таракан был доставлен В. Взглянув на него, В. едва успел выбежать из палатки, чтобы не обдать струей блевотины ее подрагивающую на ветру стену. С тех пор как Кнессету стало известно об этой истории, его члены подозревают В. в сочувствии пацифизму.
На следующий день выяснилось, что А. отпущен, но на телефоны он не отвечал и на очередном заседании Кнессета не появился. Лишь на следующей неделе Б. столкнулся в супермаркете с матерью А. Однажды она пришла на заседание Кнессета, когда это был еще вовсе не Кнессет и даже зеленый диван еще не был куплен. Она прислушивалась к доносившемуся субботнему хоровому пению йеменских евреев, приветствовавших приход невесты-субботы. Трудно сказать, разбиралась ли она в тонкостях различий между идеологией и практической деятельностью Симона Петлюры и Степана Бандеры, но самозабвенное хоровое пение напомнило ей родную Украину, и, кивнув в сторону живой изгороди, отделявшей дворик съемной квартиры Я. и Баронессы от их “йеменских” соседей, она спросила:
– Эти не будут убивать евреев?
Теперь ей было ни до Йемена, ни до Украины.
– Я с первого взгляда на нее увидела и сказала А.-иньке, что эта женщина – хищница, хуже его бывшей жены. Но вы же знаете, как он умеет отмалчиваться. И вот они повздорили, и она заявила на него такое, – говорила она. – Слава богу, все позади, она забрала заявление.
После этого Б. сразу отправился на квартиру к А. и понемногу вытряс из него сведения о происшедшем. А. встречался с ней всего три недели, он ничего никому не рассказывал потому, что сомневался, может быть, мать права. Поняв, что так оно и есть, он решил расстаться с ней. Когда он сказал об этом своей новой подруге (видимо, в присущей ему математической манере, комментировал Б.), та просто взбесилась. На его искреннюю попытку как-то смягчить разрыв она выкрикнула: “Пошел к черту, кретин!” – и оттолкнула его, но сама при этом не то поскользнулась, не то подвернула ногу (она пришла на высоченных каблуках) и упала. На следующий день за ним прибыла полицейская машина. Сутки он отсидел в КПЗ, но она забрала заявление, сказав полицейским, что он, может быть, и не имел намерения ее насиловать, ей это, пожалуй, показалось, а толкнул он ее не так уж сильно, в общем, она не хочет давать делу ход. Видимо, полицейские быстрее меня раскусили ее и не стали с ней связываться, говорил А. мрачно. Еврейские женщины – сущие дьяволы. Тюрьмы этой страны набиты оклеветанными мужчинами, я успел там познакомиться в камере с одним таким, добавил он.
У партии, борющейся за права мужчин, видимо, появился еще один горячий сторонник, комментировал Б. А. сексуально ориентирован на тип женщины-мины, от коровьей лепешки до настоящей противопехотной. Такое заключение Б. вывел не только из этого случая, но и из собственных наблюдений за тем, на каких дамах задерживается взгляд А.-иньки. Женская половина человечества для него – хуже русской рулетки, которую сами русские называют американской. Любой его брачный сезон, говорит Б., должен проходить под неусыпным наблюдением близких. Отпускать его одного в мир, где свободно разгуливают женщины с надушенными арканами, все равно что отпустить лунатика гулять по сирийским минным полям на Голанских высотах. Представляю себе, продолжал злословить Б., как неохотно расставались с ним полицейские. Для них тотально законопослушный А. – идеальный подследственный: заяц с шеей жирафа, убегающий в низком кустарнике, охарактеризовал Б. своего приятеля.
N++; О ПРАВОСУДИИ
С оглядкой на свежую душевную травму товарища Б. все же поднимает тему правосудия.
– Столько разговоров о системе правосудия по телевизору, а у нас что, даже позиции никакой нет по этому вопросу? – говорит он. – Нам вообще есть дело до этого? У меня, например, украли “Субару”. Я тогда долго ходил вокруг места, где оставил ее, все не мог поверить, что ее нет. Поплелся в полицейский участок, спросил, может быть, я оставил ее в неположенном месте и они ее отбуксировали? Полицейская – это была женщина – рассмеялась. Мы вообще не занимаемся буксировкой в этом районе, твоя машина уже на “бойне”, сказала она. Это была моя первая машина в стране, и хоть у нее к тому времени уже был поврежден задний бампер и левая передняя дверь, представить ее на “бойне” разбираемой на части мне было больно.
– А у нас сняли водопроводные краны и раковину в доме во время строительства, – сказал Я., – и нам пришлось заселиться, не дожидаясь электричества, чтобы оттуда не унесли еще чего-нибудь.
– По телевизору речь не об этом, – вмешался В., – там больше о том, кто круче – Высокий Суд или Большой Кнессет.
Я. вспоминает свои дежурства в “Добровольной Народной Дружине” во времена Советской Империи.
– Мы бродили по улицам, – говорит он, – с повязками на рукавах, как у нацистов, только без свастики, и мы ни к кому не приставали. Болтаться по улицам и беседовать было приятно, но иногда становилось зябко или сыро, и мы шли согреваться в милицейский участок, к которому наша дружина была приписана. И вот там я обратил внимание на то, как быстро милиционеры разбирались со всякими забулдыжными субъектами в мятой одежде. Их выпроваживали как надоедливых дальних родственников, родных, но опостылевших. Подвыпивший интеллигент, напротив, удостаивался длительной аудиенции с подробным заполнением протокола. И вот тогда я понял, что милиционеры – тоже люди и общаться они предпочитают с приличными людьми. Я понимаю их, когда они целой бригадой следователей выясняют, куда именно положил руку министр, беседуя наедине со служащей министерства, какой именно пальчик коснулся какого в точности холмика. “А вторая рука, ну вспомните, неужели в это время приказ по министерству подписывала? Ах, так, в этот день у вас были месячные, поэтому вы вторую его руку больно прижали к письменному столу. А не то б и она скользила где-нибудь, как рука слепого скрипача, ощупывающая упругость струн... но вы ведь этого не хотели, правда?” Разве можно сравнить такую работу с работой какого-нибудь дурака-следователя, который возится с ублюдком-наркоманом, вырвавшим сумку из рук старушки? Ну, такой пусть и возится, дебил, с такими же кретинами, как он сам.
– “Больше исков – больше законников, больше законников – больше исков”, – приводит Б. где-то почерпнутую им юридическую мудрость. – Меня всегда удивляло, как при такой замечательной судебной системе, о которой рассказывает нам телевизор, существуют целые криминальные империи, сети торговли наркотиками и женщинами, подпольные игорные дома. Это ведь не иголки в стогу сена. При этом полиция утверждает, что ей такой швалью как домашние воры вообще заниматься не стоит – на следующий день судьи выпустят их на свободу. А что происходит с журналистами, всегда такими едкими? Когда дело касается судебной системы, они становятся державными, как Верховный Судья. Может быть, судьи и вправду так мудры, что в каждой судейской семье выращивают одного-двух журналистов прикрытия?
– У меня долго не шло из головы дело, – сказал Я., показывая рукой на свою голову, из которой не шло дело, – об одной семье, где муж убил жену и, будучи приговоренным к пожизненному заключению, снова женился, передал квартиру новой жене, после чего та выставила из квартиры двух его дочерей от убитой им жены. “Дыра в законе”, – разводили руками юристы. “Дыра в законе”, – повторяли за ними журналисты тоном, каким говорят о черной дыре в далеком космосе, и тоже разводили руками. Наверное, я не прав, но, когда говорят о “власти закона”, меня совсем не тянет закатывать глаза и делать такое лицо, как будто речь идет о девичьей чести моей бабушки. Или будет общественность беспомощно разводить руками по поводу бессмысленно, но законно растраченных миллиардов, но если поймают кого-нибудь на краже коробки спичек в супермаркете, то уж теперь его от правосудия ничто не спасет. Или вот один британский политик в ответ на упреки англичанам, не дававшим выжившим в Холокосте добраться до Палестины, сначала объяснил политические резоны, а затем добавил: “Правосудие и справедливость не всегда совпадают, и англичане это хорошо понимают” – и тонко улыбнулся в усы. Я не англичанин и никак не могу постигнуть, что означает эта фраза и почему этот англичанин подчеркнул ее значимость такой тонкой улыбкой. И вообще – в сентенции о верховенстве законов мне чудится что-то глубоко тоталитарное и бездушное. Формальная система, бюрократичная, дорогая, подверженная многочисленным остановкам и притормаживаниям, умеющая наваливаться на один избранный объект и не замечать другого, – эту-то систему убеждают нас окутывать ореолом святости? Ореолом пусть не святости, но хотя бы искреннего уважения, я, пожалуй, готов окутать совесть, но никак не систему правосудия. Совесть следует ставить выше правосудия, – заявил Я., очень гордый своей душевной привлекательностью, ставшей в этот момент столь очевидной для всех.
Он самодовольно улыбнулся. Он, кажется, готов сделать сногсшибательное заявление.
– Великая англосаксонская цивилизация, – говорит он со значительностью в голосе, – в этой области породила нечто противоположное себе самой – неповоротливого, малоэффективного монстра.
– Я за коллективную ответственность, – выпаливает вдруг А.
Все смотрят на него с удивлением. Как это связано с его недавним приключением? Кажется, никак. Он дешево отделался. Но ведь далеко не всегда все так счастливо заканчивается. Ему запросто могли бы навязать досудебное соглашение с парой месяцев общественных работ. Он так одинок, думает Б., может быть, ему было бы хорошо посидеть еще недельку. И чтобы его с жаром защищала эта красавица-адвокатесса из телевизора, опекающая мафиозный клан. Впрочем, мафиозным называют его тележурналисты, и между прочим, без всякого на то юридического основания.
– Знаете, – Я. вступается за А., – может быть, в этом и есть что-то. Может быть, это тот самый саморегулируемый на самом нижнем уровне механизм, подобный механизму свободного рынка в экономике, который и в экономике не всегда красив, но без которого не получается. – Я, наверное, не сторонник правового общества, – добавляет Я., – или, может быть, уж слишком сдвинуты пропорции между законами и традициями в сторону законов, – поправил себя он. – Ведь представьте себе, если бы эта талантливая адвокатесса жар своего темперамента и силу своего убеждения потратила в школьном классе, а не в зале суда, ей-богу я и сам бы пошел в этот класс и сел бы за первую парту.
– За первую парту лучше посадить А., – заметила Баронесса.
– Он высокий, посидит на последней, – Я. явно увлекся, и Баронесса считает необходимым вступиться за закон.
– А ведь ты сын адвоката, – замечает она.
– Отец был забавным адвокатом, – ответил ей Я. – О своей работе юридического консультанта на предприятии по производству уж не упомню чего он отзывался с пренебрежением, называл ее перекладыванием денег из одного большого кармана в другой, видел в ней скорее что-то вроде спорта. А домой к нему, бывало, заглядывали всякие бедолаги, укравшие коробку спичек в магазине. Он их за коробку спичек, а может, и бесплатно подучивал, как увернуться от навалившейся на них судебной машины. Богат он, как ты знаешь, не был. Правда, дело было в Российской Империи Большевистского периода, деньги не были так уж важны по причине их всеобщего отсутствия.
– Между прочим, и пенитенциарная англосаксонская система ни к черту не годится, – заметил Б. – Она только размножает преступников. А ведь у англичан же был и другой опыт. Мне чрезвычайно интересна бывшая каторжная Австралия, где злодеи получили еще один шанс построить заново свою жизнь в условиях изоляции, а не сидеть в клетках и отвечать оскалом на щелчки бичей. Австралия сегодня, говорят, самая флегматичная страна в мире, где не только почти забыли о преступлениях, но даже не рыгнут в лицо в баре. Я, правда, там не был, но так говорят, – добавил он. – Скучнее, чем в Австралии, только в Швейцарии, единственное развлечение там – спускаться на лыжах с гор. В Австралии, правда, есть скачки лилипутов в сумках кенгуру.
– Никогда не слышала о таких скачках, – удивилась Баронесса.
– Ну, значит, это мне пригрезилось, – ответил Б., – значит, там и этого нет, и уж подавно – скука смертная. – Б. даже зевнул, заразившись от собственного красноречия.
– Отчего же англосаксы этого не исправят? – интересуется Баронесса.
Как женщина, она вправе задавать такие вопросы.
– Не забывайте, – говорит Я. в задумчивости, и его взгляд, кажется, устремлен куда-то поверх правосудия, – англосаксы ведь и генетически – те же немцы, только их, в отличие от немцев, заклинило на свободе.
Что-то, кажется, все же надломилось в прямом А. после ареста. В его рассуждениях о юридических аспектах системы налогообложения – теме, которую он неожиданно поднимает, – проявляется этот его изменившийся подход к жизни.
Укрывательство от налогов не должно рассматриваться как уголовное преступление, заявляет он. Одно дело – украсть у частного лица, совсем другое – увильнуть от поборов государства, которое потом эти средства расходует так, что воровство кажется меньшим злом. Инстинкт уклонения от налогов – такая же естественная общечеловеческая слабость, как любовь. К попавшемуся на неуплате налогов нужно относиться как к жертве несчастной любви. То есть обязать его заплатить налог и штраф, конечно, нужно. Но после этого – пожалеть, погладить по голове, успокоить. Сказать, что эта дама недостойна его высокого чувства, в следующий раз все может сложиться гораздо счастливее. Есть что-то глубоко фашистское в сладострастии, с которым набрасываются на жертву несчастной любви к своим, не чужим, деньгам. А. теперь выглядит возбужденно-приподнятым, что уж совсем на него не похоже.
Б. внимательно смотрит на приятеля. Он складывает два плюс два: А. недавно сделал ремонт в квартире. Он наверняка нанял левую бригаду и теперь терзается угрызениями совести, а еще больше – страхом попасться и угодить в рецидивисты. “Рецидивист А.-инька”, – порой ласково называет его теперь Б., при этом А. неизменно бледнеет.








