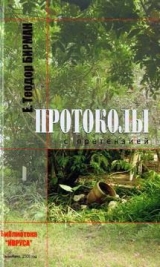
Текст книги "Протоколы с претензией"
Автор книги: Е. Теодор Бирман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)
N++; ЭСТЕТИКА БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА
“Смугленькие и те, и другие, зачем драться?” – сказала Баронессе и Я. о ближневосточном конфликте соседка по дому перед их отъездом в Еврейское Государство. Она никогда не пропускает репортажей оттуда, сказала она, ведь туда устремились ее милые соседи, к которым она успела привыкнуть с тех пор, как построили этот квартал кооперативных домов.
– Мое неприятие еврейского движения “Мир наступит завтра” носит вовсе не идеологический, а эстетический характер, – объявляет Я. – Их способ самовыражения смущает меня своей карикатурной провинциальностью, выдающей обрезки европейской моды за местный топ-модерн. Мне, ей-богу, милее ультра-патриоты, так похожие своей неподвижностью и уродством на забавных игуан, которых я видел в лобби эйлатской гостиницы. Таких же упорных (у самца игуаны – два члена).
– И ни одной ловкой руки, – вставила Котеночек.
– Правда, – продолжил Я., – вот в них есть эта милая простота, это ретро, вызывающее нежность к ним, а еще – протест против стеклянного колпака, за которым их держат. И заметь, среди рафинированных интеллектуалов несравненно выше процент этих типов с заоблачным эго и зеркально-нежным нарциссизмом, для которых самозабвенная песнь о социальном и наднациональном Эдеме служит, видимо, такой же отдушиной, как сексуальные фантазии украшают жизнь тихой добропорядочной женщины.
– Согласен, – заявляет Б. Еще бы, ведь для Я. -> Б. -> это его второе я. Вот и симпатизируют они одной и той же женщине (как жаль, что мы встретились только здесь, я познакомил бы его со своей сестрой, вынашивает коварные мысли Б.), Я. же втайне немного симпатизирует пианисткам.
– Жаботинского лишь по ошибке принимают за политика, – увлекается Б., – а он никаким политиком не был, он был эстетом. Причина ошибки его эстетического учения состоит в том, что он, как и все мы, был только полуазиатом и потому считал, что войны закончатся, когда Соседи поймут, что они не смогут решить вопрос силой. А эстетическая правда заключается в том, что когда Соседи поймут, что силой вопроса они не решат, вот тогда только настоящая война и начнется. Война фантазии против свободы. Тут еще неизвестно, чем кончится.
– Свобода не всегда удачно играет на выезде, – применяет Я. футбольную терминологию. – Но, защищая свой дом, свобода всегда побеждает.
– Нет, нет, мы не хотим соглашаться с такой эстетикой, – говорят европейцы. – Нужно строить мосты, а не стены.
– Европа пытается приготовить Востоку кофе, – иронично замечает Я.
– Стройте, – отвечает Б. гипотетическим европейцам. – Вложение денег в строительство стен в Европе скоро станет очень выгодным бизнесом, – замечает он на ухо Баронессе.
– Вы были совсем другими всего лишь несколько лет назад. У вас была тогда другая эстетика, с которой мы соглашались, – продолжают ныть европейцы.
– Наша эстетика не изменилась, – отвечает им Б., – она на том же месте. Это жизнь переехала. Вы что-нибудь слышали о Сирийско-Африканском разломе? Он проходит в наших местах под Мертвым морем и Иорданом. Две гигантские платы земной коры медленно движутся в разных направлениях. Я не помню точно, в каких направлениях происходит это движение, но кто-то из нас рано или поздно наедет на Европу – либо мы, либо Восток. В ваши представления об эстетике Соседей необходимо внести коррективы, – продолжает жестокий Б. наскакивать на европейцев. – Согласно этим представлениям их эстетика выглядит не то ребяческой, не то дегенеративной. Ни то, ни другое! Она просто пропитана фантазиями, вам непонятными. Вот, например, они палят в воздух из автоматов Калашникова, когда им задерживают зарплату. Эта круглая мысль – палить в воздух при задержке зарплаты – ведь никак не укладывается в ваши квадратные европейские головы? Верно? Разве в небе, куда они палят, есть кто-то, кто выдаст им зарплату, спрашиваете вы. И ведь патроны тоже стоят денег. И между прочим, это частью деньги, которые вы дали им на рис и кофе. Так было всегда. Мы ведь уже говорили вам о профессоре Егере и его “Древней истории”. Профессор писал в донацистские времена, то есть нацистская стройность мысли и постнацистская ее запутанность были ему одинаково чужды. Ни грандиозные идеи, ни тяжелые воспоминания не обременяли его сознания. Он, конечно, сочувствовал арийцам, семитов же считал склонными к крайней жестокости, но наделенными богатым воображением. Не будем иронизировать по поводу обобщений достойного профессора с высоты нашей исторической осведомленности, еще неизвестно, как посмеются над нами наши потомки.
– И что же? Значит, вечная склока? Разве можно так жить? – спрашивают велеречивого Б. оторопевшие европейцы.
– Можно, – отвечает Б. – У нас в Европе когда-то были отменные тренеры.
ירושלים (ИЕРУСАЛИМ)
“Город Мира” – так переводят его название рекламные проспекты, литературный продукт с наследственной склонностью к воодушевлению и преувеличениям. Трудно выдумать большую пошлость об этом городе. Вечны идущие в нем войны. Эка невидаль, скажете вы, мало ли на свете было, есть и будет воюющих городов! Правда. Но этот город славен тем, что, ведя внешние войны, он никогда не прекращает войн внутренних.
Здесь когда-то с умудренными старцами спорили заносчивые юнцы, добившиеся своего и начавшие войну за выход из-под руки Рима. Здесь перед лицом неминуемого краха все те же юнцы спорили с Богом, в ярости резали они и евреев, чтобы больнее было еврейскому Богу, чтобы заступился он за Иерусалим.
А совсем недавно праздновало Еврейское Государство День Иерусалима. По этому поводу устроил в нем Вседержитель грандиозный потоп. Потоп же (по своей уже воле) вынырнул из люков ливневой канализации, поставив на ребра массивные чугунные крышки, и поднял водяные столбы, высотою равные росту жены Лота и шириной в диаметр люка. Он затопил Соседские кварталы, и телекомментатор увидел в этом указующий перст Небес, порицающий муниципальные власти за пренебрежение инфраструктурой в Соседской половине города.
Но сегодня погода чудесна, команда Кнессета Зеленого Дивана паркует машины на кривом позвоночнике проспекта Пророков, недалеко от больницы “Бикур Холим”, где медицинской сестрою была сестра Баронессовой бабушки, покинувшая Российскую Империю еще в двадцатых годах. Была бы она жива – и ее пенсию профукали бы, наверное, попечители старой больницы. Вот стоят перед нею вовремя не ушедшие на вечный покой ее ветераны. Они не жгут автомобильных покрышек, но и ретирады не знают. В Иерусалиме никто никогда не отступит. Поэтому город никогда не устроится пышным ансамблем по примеру Парижа или Санкт-Петербурга, и дома в нем не встанут ни шеренгой, ни квадратным каре, ни дугою. Потому что каждый дом здесь – в ежедневной готовности ввязаться в драку с домом напротив.
Компания движется к пешеходной зоне, где так тихо всегда по субботам и работает только пришлый “МакДональдс” и где нет сейчас цветов на местах терактов (почему цветы и кровь так любят друг друга? кровь просит цветов? цветы мечтают о крови?). Вот гостиница, которую взрывали наши горячие головы назло англичанам.
– Не лучше ли было взорвать это вышку напротив, странную смесь восточной стройности минаретов с британской практичной спортивностью? – говорит Б.
Они спускаются к парку, откуда смотрят на отстроенные турками стены Старого Города.
– Что из того, что турки, разве не те же турки отстраивали города в Германии? – это тоже Б.
Дальше – спуск к мельнице, прогулка по улочкам, где звучит английская речь. Еще вниз – вдоль Бассейна Султана, и теперь вверх – к Старому Городу. Снова вниз – к Стене, к той самой Стене. У кого-то сохранились дворцы, а здесь – только Стена, но ей обещано строить – вряд ли дворцы (ведь здесь нет королей и по-настоящему никогда и не было, а тех, которые заводились, – побивали камнями). А если не дворцы, то что?
– Что построится, то и построится, – говорит все тот же решительный Б.
Они приходят и в Храм Гроба Господня. Здесь веру, как физическое пространство, поделили греки, армяне, католики, эфиопы. Каждый из них расскажет вам на ухо как минимум о трех чудесах, безусловно свидетельствующих о том, что именно их версии особо покровительствует Предвечный. Здесь царствует дух. Это очень непохоже на собор Святого Петра в Риме, где скорее царствует красота и невозможно поверить, что представления о ней могут быть превращены в камень и свет теми же руками, что разделывают курицу на стеклянной доске, на которой нож не оставляет царапин. Члены Кнессета Зеленого Дивана глядят на все вокруг, понимая впрочем, что не глаза здесь главный инструмент постижения.
Осмотреть боковой придел им вежливо, но решительно препятствует женщина – экскурсовод польской группы. Здесь частная молитва, объясняет она. С коммунизмом у них в Польше покончено, и теперь они имеют полное право группой, всем вместе, общаться с Богом. Верить вообще лучше группой. Одинокая вера так же тяжела, как безверие. Члены Кнессета Зеленого Дивана послушно останавливаются перед польским шлагбаумом, но в душе Б. словно вращаются тяжелые жернова, и словесная мука, результат их работы, представляет собой обращенную к полякам надменную речь, которая однако не покидает пределов телесной оболочки Б.
– Представьте, что сегодня, такого-то мартобря такого-то 2000 + n-го года, где-нибудь на полуострове Таймыр зарождается некая новая народность Х. И вот через тысячу лет в каком-нибудь месяце фебрюле 3000 + n-го года эта народность решает, что поляки ничего не смыслят в католицизме. А вот их католицизм, католицизм народности Х, которому уже тысяча лет, – это и есть настоящий, правильный католицизм. И может быть, они будут правы? Полторы тысячи лет до прихода Иисуса сталкивались здесь убеждения людей о подходах к Богу. Эти убеждения терзали друг друга, пока не успокоились, не постарели, не обросли седыми бородами и лоснящимися лапсердаками. Этот стол накрыт нами. И нам выбирать, какие блюда с него вкушать, а какие отвергнуть, утверждает Б. Сам он с этого стола не берет ничего.
“Типичная еврейская спесь, так много уже вам навредившая”, – скажет иностранный врач, если приложит стетоскоп к телу Б., чтобы прослушать хрипы его монолога.
– Не судите, доктор, – добродушно говорит Я. И добавляет загадочные слова: – “Он всего лишь хочет сказать, что не вернутся ни Шейлок, ни Тина”.
Я. смотрит на друга с иронией. Неисправимый боец! И почему он не поселился в Иерусалиме, а расположился у моря? А так ли уж он уверен, что не правы люди из British Politcorrect Corporation, зачем во все это ввязываться, не лучше ли уважительно и понимающе кивать всем, и особенно самым свирепым?
ЭПИЗОД С МУРАВЬЕМ
Б. заметил совсем миниатюрного муравья, поднимающегося по приземистой бутылке Drambuie к ее сладкому ликерному горлышку. Он, не думая, прижал его к коричневому стеклу бутылки. Муравей был так мал, что его останков Б. не разглядел на бутылке. Он вспомнил рассказ Т., который услышал в телепрограмме из Российской Империи. Упомянув о муравье, которому она помогла соломинкой перенести непосильный груз, она из этой точки проложила элегантную дорожку к божественному. Этот муравей, предположила она, после того случая потерял покой, бросил работать, слонялся ошеломленный по муравейнику, рассказывая всем муравьям, готовым оставить ненадолго свою ношу, о случившемся с ним чуде. Одни верили, другие поднимали его на смех, утверждая справедливо, что, сколько живут, столько и таскают тяжести на своих горбах. Мы в какой-то мере, возможно, муравьи в непонятных нам божественных предначертаниях, следовало из ее короткой притчи, рассказанной без напора.
Ну вот, подумал о себе с тоской Б. Она помогла муравьишке, внесла в жизнь муравейника глубокую религиозную мысль, с которой, возможно, начнется Великая Муравьиная Эволюция или Великая Цивилизация Муравьев. А я бездумно прихлопнул невинное существо. Он вспомнил, как слушала его молчаливая пианистка-жена звуки морского прибоя.
– Что вы делаете с муравьями в саду? – спросил он Я.
Что-то особенное, склоняющее к воспоминаниям, было, видимо, в плотном воздухе вечернего сада, что вызвало в Я. воспоминание о том, как раскладывали они с Баронессой привезенные на грузовике с подъемным краном готовые квадраты травы из кибуца у моря и легонько утаптывали их на распушенной красной земле, привезенной до этого другим грузовиком и разровненной миниатюрным бульдозером с нарисованной на его боку треугольной кошачьей мордочкой.
– Садовник велел нам весной и осенью смешивать удобрения для травы с десяти-процентным дизиктолом и развеивать по траве, – ответил Я., – в этом году я, кажется, забыл это сделать.
Интересно, задумался Б., как же на самом деле сложилась судьба муравейника, в чью судьбу вмешалась воля Т. Может быть, муравейник разделен с тех пор на тех, кто уверовал в Т. и ждет, когда она придет к ним во второй раз и принесет несчетное количество хлебных крошек и дохлых мух, на тех, кто сомневается, на тех, кто спорит о том, как выглядит эта самая Т., верен ли ее канонический лик – гигантский муравей с проницательным взглядом больших темных глаз. Больше всего шансов узнать истину было у одного муравья, поднимавшегося на стеклянную коричневую гору на запах ликера Drambuie, потому что гора стояла на стеклянном столике перед телевизором, в котором действительно можно увидеть Т. Увы, на его пути встала моя воля, сокрушительная и бездумная, кается Б. Если этот муравейник был в лесу, то муравьям повезло, продолжает все же рассуждать он, тогда Т. вряд ли наткнется на них во второй раз, и муравьи сохранят свою веру в чистоте и неприкосновенности. Если же речь шла о муравейнике в ее саду, то вполне может прийти садовник и посыпать муравейник серо-зеленым порошком десятипроцентного дизиктола. Встречи с богами чреваты непредсказуемыми последствиями, думает Б., вот древние греки это хорошо понимали.
ВОПРОС БАРОНЕССЫ
Баронесса застает Я. на кухне, где он подбирает совком и метлой недавно потравленного с помощью неисчерпаемого баллончика К300 взрослого крылатого таракана, еще не вполне погибшего, заодно с набежавшими уже и суетящимися вокруг него мелкими муравьишками. Он готовится вынести их на улицу в мусорный бак. Если бы не муравьи, одного таракана он, наверно, отправил бы в ведерко на кухне под раковиной.
– Вот тебе и Германия, брат! – говорит он таракану.
– Почему в своей книге ты не употребляешь обычных имен? – спросила у Я. Баронесса.
– Я не люблю человеческих имен, – ответил он почти инстинктивно.
– Почему в своей книге ты не употребляешь обычных имен? – спросила у Я. Баронесса.
– Я не люблю человеческих имен, – ответил он инстинктивно.
– Почему?
Ответ последовал лишь после того, как в лице Я. обозначилась и исчезла кислинка, сжались и расслабились его губы.
– У человека не может быть имени, как нет имени у Бога или Вселенной.
N++; О РЕЛИГИИ
– Окаменелости, – стреляет Б. в очередной раз в ортодоксальный иудаизм. И даже не берет на себя труд объясниться.
– Они рожают детей, – вступается Баронесса.
– Пусть рожают, – Б. купается в волнах своей агрессивности, – но пусть платят соответствующий налог.
– Чем? – смеется Баронесса, – У них же ничего нет.
– Детьми, – в свете багряного заката Б. выглядит стопроцентным ацтеком. – Половину детей пусть отдают для светского воспитания.
– Но они же рождаются в иудейской вере, – с жалостью говорит Баронесса.
– Поправимо. – Б. оптимистичен. – Мы тоже родились с марксистскими убеждениями.
– Сбегут, – говорит А.
– Куда? Кому они нужны, кроме нас? – спрашивает Б. – Разве что сердобольная Германия их примет.
– Оставь немцев в покое, – говорит Я. – Это поколение безвинно. И, кстати, не читает нам фальшивых проповедей.
– Ты ведь, кажется, никогда не был в Германии? – уточнил Б.
– И не буду, – буркнул Я., – это другое дело. Между прочим, стоит разобраться с еще одной немаловажной деталью. – Весь вид Я. демонстрирует, что в своей жесткости, которая вот-вот должна прорваться наружу, он намерен перещеголять самого Б. – В нацистской Европе один совестливый еврейский мальчик страдал от сознания того, что столько важных и занятых взрослых так стараются его найти и убить, а он до сих пор прячется и жив. Выжив, став известным и опытным взрослым, он летал самолетами и, глядя вниз через иллюминатор, думал о том, как велика планета, но тогда, когда он был маленьким, не было на ней клочка земли, готового принять и укрыть его. Но разве канадцы и австралийцы должны были спасти его? Разве не родители всех этих пошедших на растопку младенцев обязаны были просчитывать ходы и ситуации будущего? Разве не подлость делать вид, будто все дело в немцах? И в канадцах с австралийцами? Тот, кто момент извержения вулкана встретил в доме, построенном им у подножия горы, из которой сочится лава, в ожидании Мессии, который уведет его от огня и пепла, тот – только жертва, заслуживающая одного лишь сострадания?
Ему никто не ответил. Б. меняет тему, возвращая ее в законное русло повестки дня Кнессета Зеленого Дивана. Он жалуется на то, что в этом мире никто не проявляет политкорректности к страдающим от безверия атеистам и агностикам.
– Любопытно, что Бог, рассердившись на людей, может наказывать их самым жестоким образом, – говорит Я., – они же продолжают любить его и верить ему. Значит ли это, что верующие люди много добрее Бога?
– Мне кажется, для многих и многих религия – это способ оправдать свою врожденную доброту, – заметила Баронесса.
– Для которой без Бога они не находят оправдания, – подхватил ее мысль Я.
– А я думаю, – провозглашает Б., – что вера означает отказ человека от своей божественной сущности. Я думаю, – повторяет он, – там, на небесах, Бог восседает в компании атеистов. Ведь правда, что за удовольствие ему, создавшему людей по образу своему и подобию, якшаться с рабами и лицемерами? Ведь либо раб, либо по образу Его и подобию?
– Если уж вера и фанатизм всегда побеждают благодаря заключенной в них энергии, – говорит Я., – то что-то ведь есть и в осмеянной вере в человека и лелеемый им прогресс, в возможность достигнуть физического бессмертия. Разве это правильно, что умирает человек и остаются брошенные им медяки на столе?
И снова выпрямляется Я., как будто АФРО– и ЧУРКО-СИОНИЗМы уже давно стали воплощенной действительностью и настало время двигаться дальше, гораздо дальше! Члены Кнессета признают за Я. право высказать что-нибудь в высшей степени патетическое, к чему, тем не менее, они готовы отнестись всерьез.
– Никто не доказал, – говорит Я., – что вечная жизнь и вечная молодость недостижимы.
С ним Баронесса, отмечает Б., что мне делать с вечной жизнью?
– Может быть, Человек с его упорством, – продолжил Я. ровным тоном, – способен прийти к бессмертию. И пусть тогда наши отдаленные потомки, осуществившие главную цель человечества, поставят нам памятник в Уганде с короткой надписью
СМЕРТНЫМ БОГАМ
ОТ БЕССМЕРТНЫХ ПОТОМКОВ
Кнессет растерянно молчит. Он не уверен, что такие заявления он должен принимать всерьез, как не уверен в том, разыгрывает их сейчас Я. или и вправду высказывает какие-то затаенные мечты, которые ведь и более практичных и сухих людей посещают. И что делают эти сухие и рациональные люди с подобными мыслями? Улыбаются им в темной спальне перед сном?
Я. сжал губы, и лицо его стало непривычно жестким. Баронесса посмотрела на него с беспокойством. А. снова побледнел. В. смотрел, как гаснет и зажигается зеленое двоеточие на электронных часах, отсчитывая секунды его жизни. Выражение лица Котеночка было совершенно замкнутым. Б. думал о Пианистке, где она сейчас?
ПРОСТО СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
Они собираются поужинать вне дома, и Я., устроившись на кровати, наблюдает за сборами жены, мини-спектаклем, который он видел не раз, но который, надеется он, и сегодня будет в чем-то нов, как это случается, когда уверенные в себе актеры развлекают себя и зрителей импровизациями в каждом следующем представлении той же пьесы.
Сборы сегодня будут неторопливы и от будничной утренней процедуры, быстрой и точной, будут отличаться большей тщательностью. Не будут пропущены подтягивание губ, состроенные зеркалу грозные рожицы. “А рожицы зачем? – спрашивает себя Я. – Глаза, губы получены ею однажды и на всю жизнь, и она давно знает, что они умеют делать. Скорее, это проверка, ведь и актеры, должно быть, порой испытывают сомнения в своем мастерстве”. А еще будет чуть вытянута шея и повернута голова, чтобы примерить одну серьгу и обе отложить в сторону. Ведь еще в молодости он уговорил ее не прокалывать уши – вдруг она зацепится за что-нибудь? Порой, чуть сужая глаза и скашивая их, она проверяет, наблюдают ли за ней. Нужно обладать определенной смелостью, чтобы терпимо относиться к такому наблюдению. Она хмурится, не зная, что делать с прической, его совет перейти на короткую стрижку пока не принят. Без дела остаются флаконы духов, Баронесса ценит неподправленную чистоту. Она осторожно, с опасением косится на него, это момент, когда ее усилия могут быть внезапно разрушены. Когда же будет надето платье и произведен окончательный осмотр, она окажется в броне своей собранности.
Но пора и ему собираться, напоминает Баронесса, и Я. вскакивает, направляясь в ванную комнату, которую он спроектировал просторной, скупо разбросав по углам и стенам необходимые предметы так, чтобы каждый из них мог смело провозглашать свое право на занимаемое им место.
По опыту он знает, что, принимаясь за бритье, не следует думать ни о чем постороннем. Если же появилось необычное ощущение холодка и пощипывание, значит, снова зубная паста пошла в ход не по назначению вместо крема для бритья. Задумчивой коровой обзывает себя Я. вслух, но оборачиваясь к улыбающейся Баронессе, просит ее не запоминать формулировку. “Этой ошибки легко не заметить, – думает Я., – новые безопасные бритвы очень остры. В телерекламе показано, что у них целых три лезвия: первое поднимает щетину, второе ее срезает, третье производит зачистку, как коммандос в гнезде террористов. Красив рекламный поворот мужской головы на мощной шее. Но внимание приковано к пене и бритве. Пожалуй, не возникает отвращения к глянцевому красавцу с бицепсами. Разумно. Бицепсы в рекламе адресованы женщинам, покупающим новый бритвенный станок в подарок мужчине. Ведь для того, чтобы бриться, не нужны бицепсы. Бицепсы нужны для того, чтобы рекламировать бритвенные станки и соблазнять женщин”.
Ну вот – опять его понесло в рассуждения во время бритья! Я. установил, что погружение в подводный грот размышлений чаще всего происходит с ним, когда бритвенный станок проделывает широкую дорогу в мыльной пене. Это похоже на снятое с высоты движение что-то тяжелое тянущего за собой трактора, проезжающего по белому полю после первого скупого снежка, когда температура колеблется возле нуля, и широкая темная полоса остается там, где прошла подрагивающая не от зябкой погоды, а от лихорадки собственного мотора машина. Если съемка велась с вертолета, думает Я., почему же не слышен его раздражающий стрекот, а только приятный далекий гул трактора? Ага, звук, видимо, вообще записывали не во время съемки, а наложили на изображение позже, направив микрофон на рокот трактора с расстояния в сотню метров, для чего трактор вывели из ангара и завели мотор на опушке деревни. Черт! Научится он когда-нибудь бриться, не думая? Но сегодня все обошлось, тюбики не перепутаны. Последний взгляд в зеркало – не осталось ли плохо пробритых островков.
– Смотри, у меня глаза сереют, – кричит он Баронессе в спальню, – я думал, цвет глаз передается только по наследству.
Убедившись, что его слышат, он добавляет уже тише: “Глубоко ты, однако, вошла в мою жизнь. А начинала так неуверенно и неловко – на снегу, в австрийских сапожках на скользкой подошве. Духи “Красная Москва”. Горькая календула на лице”.
Пора одеваться. Нужно быть кретином, чтобы при женщине надевать рубашку раньше брюк. Но лучше не делать этого даже тогда, когда в комнате никого больше нет, по той же причине, по которой инструктор вождения требует включать предупредительный сигнал на повороте, даже если вокруг нет ни одной машины и ни одного пешехода. Момент, за которым обычно наблюдают женщины, – завязывание галстука, этого рудимента бархатных камзолов, надутых фонарями полосатых бриджей и шелковых чулок, натянутых на ноги, заключенные в туфли с бантами. Случайно ли галстук выжил как копчик, оставшийся от хвоста? Но в Еврейском Государстве не выжил и он, став атрибутом официанта или портье в гостинице. “А зря – это единственное сохранившееся украшение мужского костюма служит связкой мира функционального с миром эстетическим. Эстетическое же превосходство иногда может стоить военного. Ведь битвы выигрываются лишь тогда, когда противник подавлен морально”, – говорит себе Я., в принципе знающий, что назойливое рутинерство ему к лицу не больше, чем любой женщине – накинутая на плечи облезлая лисица.
Но они теперь готовы, Баронесса проверяет содержимое сумочки, а Я. подхватывает со столика поблескивающий сталью брелок, на котором в связке помимо ключа зажигания – ключи от их дома и почтового ящика. Погода тем временем совсем испортилась, но они не меняют планов и под защитой зонтов вскакивают в машину, направляясь в сторону Тель-Авива. Лес Бен-Шемен, через который они проезжают, обычно такой прирученный и безобидный, наполненный скамейками для ленивых горожан, оккупирующих его по выходным дням, сегодня стал вдруг темен и мрачен под хлещущим дождем с молниями и ветром. То напрягаясь и наклоняясь в сторону дороги, выдувает он из ложбины одним длинным потоком воздух, будто измеряет объем легких в призывной комиссии, то дрожа от попадания молнии, словно сжимается, стремясь обратиться в мох. Гром, знает он, ему нипочем, но от грома вибрирует земля, и с нею – трясется вцепившийся в каменистую почву лес. Туча, зависшая над ним, выглядит такой плотно-тяжелой и выпуклой, что, кажется, скрывает под собой гору, подножие которой где-то рядом, в этом лесу. Но никакой горы под тучами нет, точно известно водителю и его спутнице. Машина, иногда натыкаясь на пересекающий дорогу невидимый тонкий и прозрачный поток дождевой воды, словно вздрагивает и выгибает спину, как котенок над мышью. Долю секунды она в смятении, будто спрашивает, что ей делать дальше, но потом успокаивается и обретает верный курс. Они обычно молчат в машине, слушая новости и музыку, терпя рекламу. В Тель-Авиве дождь слабеет, и когда они въезжают на набережную, солнце, изготовившееся к вечернему спектаклю с закатными эффектами, из-за не разрушительно наплывающих друг на друга облаков мирно подсвечивает и мокрый асфальт, и застывший влажный песок, и взлохмаченное море.
Они устраиваются в открытом ресторанчике на берегу моря, и пока Баронесса пристраивает сумочку на спинке стула, Я. уже заказывает девушке, студентке по виду, креветок в соусе из масла и вина. Он осведомляется о винах и останавливается на белом вине Голанских высот.
На обычные темы говорено дома и с друзьями, а сейчас самое время помолчать, ощущая экстракт того, что их соединяет, отчего они сидят здесь и, пока не принесли вино, следят за тем, как ветер управляет облаками в ожидании тель-авивского заката, когда многие гуляющие на набережной остановятся, приезжие туристы приготовят камеры и будут следить за тем, как не быстро, но и не медленно тонет солнце. Солнце теперь не раскаленно-белое, а светло-малиновое, но вода все равно должна бы кипеть вокруг него. Но нет, море спокойно, никакого цунами оно не пошлет на берег, понимая, что на набережной в это время должны стоять спокойствие и вечерняя слабость. Море исполняет свою роль не хуже девушки, которая уже несет вино, а вскоре принесет и креветок на огромных блюдах. Розовые креветки, золотистый соус и бирюзовое море образуют главные цветовые мотивы этого вечера.
Они знают почти наверняка, что происходит или не происходит обычно на набережной, на всем ее протяжении, вплоть до Старого Яффо. В Мигдаль а-Опера, где скульптором обнаженные тела обречены на вечное падение вниз головами, ярко и насыщенно людьми, которые в отличие от бронзовых людей не потеряли ориентации и не только твердо стоят на ногах, но и движутся – сами или на эскалаторах или поднимаются-опускаются в прозрачном стеклянном лифте. В центре зала перевернутая бронзовая пара напрасно пыталась когда-то упасть на белый рояль, на котором играл музыкант в концертном фраке, – рояль убрали, пианист не приходит. Впрочем, если бы рояль остался и пианист пришел, им нечего было бы опасаться, – на пути летящей бронзовой пары – странный механизм, похожий на тот, который помог астрономам осознать, что Земля не центр вселенной, она вертится вокруг и вместе с Солнцем во вселенной, как официант с подносом вокруг столиков в ресторане. А эта падающая пара, знала ли она, что падает на Герцлию-Флавию, которая тоже не пуп Земли? Ноги и руки падающего мужчины вытянуты в направлении, откуда он падает, то есть к небу. Каким-то образом он не повредил при падении прозрачный купол, собранный в квадраты и ромбы. Губы мужчины уткнулись в круглый стержень, пронзающий тело обнаженной женщины, которая, видимо, упала на стержень секундой раньше. Этот стержень посетители Мигдаль а-Опера не должны замечать, ведь на самом деле его как будто нет – он крепежная деталь в скульптурной группе. Как водится с бронзовыми статуями, женщина от падения на металл нисколько не пострадала, а откинувшись в неге, принимает с запрокинутой головой мужской поцелуй, предназначенный, понимают посетители, вовсе не металлическому стержню, а женскому телу.
У входа в Мигдаль а-Опера подпрыгивает незамысловатый фонтан, а на сам вход упали еще двое. Они тоже застыли в бронзе в момент падения. Они не пришли, как приходят все народы на свои будущие земли, а упали на нее с неба вместе с аккордеонами, на которых, видимо, играли в полете. Напротив, под решетчатыми деревянными беседками, молодой и неопытный миссионер-американец трудную задачу убеждения взвалил на свои юные плечи. Он пытается останавливать прохожих и объяснять им связь между красотою заката и божественной волей. Недалеко от него кришнаитки в легких цветных платьях синхронно движутся в танце, потряхивают бубнами и поют так плавно и мягко, как поет меланхоличная вечность. На набережной нет символов иудейской веры, и апологеты ее редко появляются здесь, но сама набережная, видимо, что-то символизирует для Я. и Баронессы, иначе зачем они пришли именно сюда и теперь смотрят на море, закат и людей на набережной?








