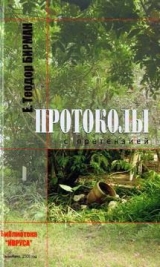
Текст книги "Протоколы с претензией"
Автор книги: Е. Теодор Бирман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
СОН ЕВРЕЙСКОЙ СОБАКИ
Легенды о том, что Соседи панически боятся собак, а собаки, чувствуя страх, звереют от ненависти к Соседям, Я. слышал из разных источников. Еврейский журналист, переодевшийся и принявший облик Соседа, чтобы узнать, каково жить в его шкуре в Еврейском Государстве, однажды погладил собаку хозяйки ресторанчика, в который он нанялся мойщиком посуды.
“Я думала, Соседи не любят собак”, – искренне удивилась хозяйка.
“Это было самое тяжелое оскорбление, которое мне пришлось испытать в соседской шкуре”, – рассказал журналист. Он рассказывал об этом во времена Великой Иллюзии, и сидящие перед телеэкранами, и сам Я. проникались горячим сочувствием к Соседям, с которыми у нас благодаря этому сочувствию заключен будет близкий и вечный мир. В качестве кого этот журналист тогда испытал оскорбление, в качестве еврея или в качестве воображаемого Соседа, пытался прояснить для себя Я., и, размышляя, сначала задремал, а потом и вовсе заснул.
Сначала он почувствовал свой влажный нос и короткую шерсть, затем он сел, но в таком положении тут же стало ясно ему, что кроме шерсти на нем ничего нет, а он все-таки в публичном месте. Поняв это, он снова встал на четыре лапы. И тотчас увидел в толпе Соседа. На нем не было клетчатого платка, как на Добром Дедушке маленькой Интифады, но он не был расслаблен, как остальные люди в толпе. Если бы кто-нибудь из этой толпы стащил бы ханукальную суфганию с прилавка и слопал бы ее, он, возможно, испытал бы угрызения совести, думает пес, а этот, на котором сосредоточилось сейчас его внимание, наверное, испытал бы только чувство удовлетворенного голода, и никакого раскаяния. Шерсть начала приподниматься у него на загривке. Он вдруг вспомнил, что люди из толпы придумали недавно новый ханукальный лифчик – его чашечки имеют форму этих пончиков-суфганийот с сочной темно-красной каплей вишневого варенья на самом выступе чашечки. Но какое ему, черт побери, теперь дело до этого варенья и этих чашечек, если он – пес. Его нос и губы морщинятся, и его зубы теперь хорошо видны окружающим. Они видят, кому предназначен его оскал, и потому не боятся его, как не боятся и глухого хрипа, рвущегося из его гортани.
А нет ли у этого типа под рубашкой широкой ленты с трубочками, напоминающими толовые шашки, увязанные наподобие короткой пулеметной ленты? От этой мысли глухое рычание переходит в остервенелый лай. Как разогнавший двигатели на взлетной полосе реактивный самолет, пес отпускает тормоза и сквозь толпу несется к замершей цели. Только бы страх сковал Соседа настолько, чтобы он не потянулся к кнопке, которая у него неизвестно где. В руку пес может вцепиться только в одну, а второй тот сможет воспользоваться. Долечу ли я до горла? – как новейший процессор компилирует на бегу свою программу пес. Сосредоточенность, толчок, прыжок...
Я. встрепенулся во сне и открыл глаза. Декабрьское солнце было мягким, легкая прохлада наполняла прозрачный воздух. Пришлая кошка внимательно смотрела на него из сада. Вдруг случился проблеск, будто в окне дома напротив мелькнула и не зажглась неоновая лампа, но нет, это в лучах низкого солнца сверкнула жидкая стайка мелких мошек.
N++; ЗЛАЯ ЕВРОПА
– Несправедлива к нам Европа, – сделал заявку А.
– Злая тетка, – подтвердил В.
– Циничная и лицемерная, – обвинил Б.
Я. предложил художественный образ.
– Кому не знакома такая сценка в детстве? – сказал он. – Вот появился хулиган среди детей, который всем досаждает, требует мелких денег, дети молчат – боятся, и тут выходит во двор во спасение взрослая тетя. Ну вот, наступило наконец избавление, думают дети, и хулиган тоже думает, что сейчас его приструнят. “Перестаньте драться, мальчишки”, – говорит тетя и скрывается за углом со своей сумочкой.
– Я просто поражаюсь, – вскипел Б., – неужели европейцы, не видят, что как только Соседи действительно соглашались на мир, они немедленно его получали. Даже от тех наших политиков, которые изображали из себя хулиганов.
– Мы не так давно были в Риме, – сказал Я. – Экскурсовод наш была из местных. Женщина, несомненно, оригинальная, дерзкая в лучшем смысле слова, напоминала немного Веничку Ерофеева перед открытием магазинов: как и он в это время суток, была абсолютно трезва и так же своевольно остроумна и раскованна. В какой-то момент речь зашла о политике, и кто-то горячо сказал ей: “Европейцы не понимают...” “Европейцы все понимают”, – ответила она на своем медлительном, но хорошем русском. И я ей сразу поверил – европейцы все понимают.
– Поймите и вы их, – сказала Баронесса, – они тоже люди, им хочется видеть себя красивыми. Я прочла недавно очень трогательную книгу одного европейского автора. Там еврейского мальчика от нацистов спасают хорошие европейцы – и граф с графиней, и католический священник, и суровая аптекарша, и крестьяне. Спасают даже не от нацистов, а от плохого еврея, который разъезжает на джипе вместе с нацистами и опознает для них еврейских детей.
– А немецкого офицера, который пришел в приют на Рождество с конфетами, все понял, но никого не выдал, и даже еврейским детям дал на одну конфету больше, такого там не было? – спросил Б.
– Кажется, нет, – ответила Баронесса. – Хотя я об этом где-то, кажется, слышала.
– В Амстердаме, – сказал Б., – я не попал в музей Анны Франк, но меня тронула длинная очередь у входа. О чем думают стоящие в ней люди, – гадал я. Когда я уже улетал в Тель-Авив, голландка, офицер безопасности, экзаменовавшая меня в аэропорту, спросила, был ли я в этом музее. Я ответил, что нет, – и замялся. Она, должно быть, решила, что я равнодушный чурбан. Наверное, я не из-за очереди не пошел – себя пожалел, не захотел лишней травмы, тем более у них на глазах, – добавил Б., имея, видимо, в виду европейцев.
– Удивлюсь, если окажется, что автор не еврей, – сказал Я.
– Наверняка еврей, – отозвался Б., – правнук капитана Дрейфуса.
– А вот встретит тебя правнук Дрейфуса на каком-нибудь на дипломатическом рауте... – сказала Баронесса.
– ... где царит атмосфера европейской культуры, и Галльский Петух говорит Британскому Льву доверительно: все наши проблемы из-за одной вонючей курицы... – дорисовал картину Б.
– Так вот встретит тебя Дрейфус-правнук на рауте, где царит атмосфера европейской культуры, – смеется Баронесса, – и скажет тебе: “Вы, сударь, негодяй и расист, что в общем одно и то же”.
– Тишина наступит в зале, – дорисовывает картину Я., – блеснут бриллианты на дамах. Мужчины во фраках из позиции, похожей на ту, что принимают по команде “вольно” гвардейцы в строю, перейдут в позу горделивой серьезности. “Смирно, равнение на глубочайшее уважение к равенству всех рас и народов”, – скажет вам их величественная осанка. Женщинам вытягиваться не нужно, только чуть-чуть приподнять головы. Некоторое время понадобится и мужчинам, и женщинам, чтобы найти место, куда можно поставить бокалы, и уж затем все вместе аплодисментами, не бурными, нет, очень сдержанными, отметят они этот благородный и безоглядный поступок.
Члены Кнессета с интересом смотрели на Б., который выглядел не на шутку задетым и даже покраснел.
– Я Б., а не И. – и не подставлю вторую щеку, – ответил Б. серьезно. – Я – ногой в пах.
– Не троньте нашего Б., – хохочет теперь уже весь Кнессет.
– Какая чудная сцена, – улыбается Я. – Вся Европа будет ею наслаждаться.
– А помните, в Швеции, – сказал Б., – один еврей, кажется даже наш согражданин, представил произведение искусства – бассейн с водой, подкрашенной под кровь, а в нем плавает лодочка с портретом Соседки, бомбистки-самоубийцы, убившей в кафе десяток человек. Произведение искусства называлось “Белоснежка”. Посол наш, когда это увидел, сам потемнел и освещение в зале выключил. Европа тогда обиделась за покушение на свободу самовыражения.
– Солидарен с Европой. Посол не прав, – сказал Я. – ему бы попросить художника нагадить в этот бассейн – еврейское дерьмо на плаву придало бы произведению законченность. Мы обязаны освоить европейскую чувствительность, иначе нам трудно будет понять друг друга. Подумайте, как это здорово – приходит еврей, сам приходит, его и искать не нужно, и говорит: “Вот мы ныли, ныли о том, как нас притесняют в Европе, а получили чуть власти – и сами превратились в притеснителей”. А европейцы на него смотрят и ждут, может быть, он еще что-нибудь скажет. Он топчется, думает, и вид у него все более и более значительный. А европейцы уже в напряжении: “Ну же, ну же...” Как тут обмануть ожидания таких прекрасных и благожелательных к оратору людей! “Не просто в притеснителей – в НАЦИСТОВ”,– говорит этот самый оратор, и аудитория его выдыхает и говорит на американский манер: “Ва-ау!”!
– Ну ладно, – произнесла Баронесса. – Автор этот, может быть, вовсе не еврей и хотел как лучше, и пишет он действительно трогательно. И мы тоже хороши – налетаем вечно на Остров Пингвинов почем зря. Он, между прочим, тоже на самом деле никакой опасности не представляет.
– Так ведь и мы его не бомбим, – ответил Б. – Но поколачивать Галльского Петуха по почкам нужно, иначе он совсем распояшется.
– Разве у петуха есть почки?– спросила Баронесса недоверчиво.
– Ладно, адье, – ерничает Б., – видимо, не забывая о воображаемой стычке с потомком Дрейфуса, – подожмите на прощанье губки, пожмите плечиками.
– Европейцам, возможно, представляется, – отказывается закрыть тему Я. и становится серьезным,– что Еврейское Государство – химера, которая неизбежно рухнет под натиском Соседей. (Вы же видите – у них “пунктик” на этом, говорят они.) А евреев мы хорошо знаем.
– Да, они действительно хорошо знают Дрейфуса, – заметил Б.
– Если героям Оза, – продолжил Я., – сорок лет назад Еврейское Государство еще представляется порой воткнутыми в песок пальмами, которые вырвет с корнями налетевший порыв ураганного ветра (ветерок с вами рядом, напоминает Европа, вы сами выбрали это продуваемое место), то теперь оно, это государство, вросло в землю многотонными бетонными дугами транспортных развязок, да и пальмы пустили корни. Вы ведь видели картины цунами – разрушенные отели с плавающей мебелью, а пальмы стоят.
– Не чувствую я в себе связи с поколением Оза, – говорит Б., – потерянное поколение Еврейского Государства, уставшее, рыхлое, недооценивающее то ли свою стойкость, то ли нашу. Как причесанных болонок, выводят их на длинном поводке с мягким ошейником на прогулку по Шнапс-Элизе. Дети Вудстока. Что осталось от Вудстока? Шприцы, горы презервативов. И символ философии Вудстока – Нобелевская премия мира Организации Объединенных Наций, не вмешавшейся и не предотвратившей геноцид в Руанде, – не упускает случая Б. атаковать нелюбимую им организацию.
– С ее умением не отличать сионизм от расизма, – добавляет А.
– Ну, эту резолюцию они потом отменили, – заметил Я.
– И мы должны быть за это им благодарны как Дрейфус Франции, – не унимается Б.
– Европейцам, должно быть, действительно трудно понять, что произошло здесь со знакомыми им еврейчиками, – продолжает Я. – Не помешались ли они, в самом деле? Когда я летел в Америку, я только под самый конец полета познакомился с людьми, которые сидели рядом. Это была пара из Швейцарии. Узнав, откуда я, женщина улыбнулась и сказала: “Я бы сбежала”. Я не нашелся с ответом в тот момент. Позже мне захотелось сказать им, что мы ведь “бегали” две тысячи лет, а результат? И мне было странно и смешно, что мы так поменялись ролями с ними, европейцами. Бывают ли в жизни такие крутые повороты, может быть, думают они о нас? Воюют, клянутся, что придется соскоблить их со стен их домов, чтобы выжить из них. Говорят, что для этого ведь и не нужны все, и части достаточно. А в наличии – больше, чем часть.
Члены Кнессета замолчали. Они, кажется, – в этой части. Кое-кто из них даже считает, что скалы стоят в море миллионы лет, если они скалы, а не песок. Глаза Б. чуть сузились, а на губах заиграла презрительная улыбка. В. без размышлений сомкнул плечо с товарищами. А. слегка побледнел и что-то оценивал. Оценив же, сказал, что из шести миллионов погибших можно было бы мобилизовать полумиллионную армию, а на отнятые у них средства – вооружить ее. И только Баронесса, ответственная за жизнь, смотрела на “мальчиков” с критическим любопытством. Когда члены Кнессета, увлекаясь застольем, несколько перебирают коньяка или водки, непьющая Баронесса служит им живым магнитофоном. При следующей встрече она с удовольствием пересказывает им содержание их горячих речей. Они отмахиваются и бесцеремонно объявляют ей, что женщина на пирушке – бревно в глазу.
– Может быть, они все-таки поймут нас, – сказал Я., имея, в виду Европу. – Наша модель оплачена плодами нашего же двухтысячелетнего бродяжьего опыта, закалена в крематориях.
– Они напоминают мне святых старушек, своих прапрабабушек, приносивших хворостинку в костер ведьмы, – добавил Б. – Баюкают себя сладкой сказкой про многокультурное общество. Уж мы сыты этой собственной сказкой по горло, столько веков ею питались.
– Не судите о европейцах по тому, что они говорят вслух, – предлагает Я. – Слушайте молчание. Нам их ругать – только делать за них их собственную работу. Придет время – сами скажут о том, что действительно у них на уме, да и сейчас уже говорят иногда.
Я. меняет заданный было Б. тон. Он смягчает его. Он сперва обращается к европейцам, но это кажется ему слишком безадресным, и он делает выбор, он обращается к давним партнерам – он обращается к римлянам, не к тем, древним, а к нынешним. Люди они, говорят, беззлобные, Бог у них с такой красивой наружностью, их и фашизм не сумел довести до полного одичания. Пожалуйста, говорит он, мы устали от публичности, мы хотим впервые за две тысячи лет побыть одни, наедине с самими собою, мы хотим узнать о себе, кто же мы на самом деле такие. Может быть, мы и впрямь сами ни на что не способны. Приходите, если вам любопытно узнать, что у нас из этого получается. Только не осаждайте нашей Масады, не жгите нашего Храма.
– А как же с Америкой? – снова задал А. свой злодейский вопрос.
Члены Кнессета снова помрачнели – они не желают Америке зла. Они отсылают А. к теме заседания, там четко указано: “ЕВРОПА” и речь ни о какой Америке там не идет, говорят они.
ОТСТУПЛЕНИЕ
Когда упомянуты были “Белоснежка” и Швеция, мгновенно вспомнился Я. день гибели Анны Линд. Мало кто умудрялся раздражать Я. так, как это удавалось ей. Он помнит телекадры ее выхода из правительственной машины. Сначала по всем правилам показывались ноги, затем, не спеша, грациозно выходила из нее вся Анна Линд, и вот она уже улыбается телекамерам. За все, что она говорила о Еврейском Государстве, ей, безусловно, полагался, по мнению Я., трехдневный стоматит, но никак не удар ножом в живот. Его почему-то сильно задела эта нелепая гибель.
– Как может прийти в голову мысль ударить ножом женщину? – вопрос, который он задает Б. и задумывается о мысли и смерти.
Острота мысли нужна для осознания красоты жизни, думает он. Она должна быть немедленно заглушена, когда мы наталкиваемся на смерть или на нечто непереносимое и невозможное, как деление на ноль. Заглушение разума становится тогда немедленной целью. Острота мысли как пес. Ее выпускают резвиться на замкнутом, безопасном пространстве, за пределами которого табу, невозможное, неприемлемая для острой мысли бездна. Благословен загончик жизни, на котором она может беззаботно резвиться.
N++; ДВА ПОДХОДА
– Вот мы говорим: Черчилль, конформизм, коллаборационизм, – сказал Я. – Удалось ли бы нацистскую Германию обезвредить одной только “полицейской операцией в Европе”, еще требуется доказать, а вот на Большевистскую Империю никто не нападал, кроме нацистов, конечно. И она через семьдесят лет сама рухнула. Так, может быть, правы конформисты и коллаборационисты? Лучше переждать?
– После Отца Народов, может быть, и правы, – сказал Б., – а при нем и до него большевики могли бы по трубопроводу в Европу кровь гнать вместо нефти и газа.
– Интервенция Европы в Большевистскую Россию тоже, скорее всего, захлебнулась бы в крови – слишком многим показалось тогда, что настало их время, – ответил Я.
– Между прочим, – сказала вечно трезвая Баронесса, – если бы Америка воевала с Империей Зла, бомбы сыпались бы прямо на наши головы.
Мысль о справедливой бомбе, по ошибке упавшей в колодец двора на Гороховой (в его детстве – Дзержинского), куда он входил, держа за руку младшую сестру, даже для решительного Б. мало переносима.
– Но ведь они же, по сути, всегда были правы, – говорит он об Америке, но в голосе его недостает на сей раз его обычной задиристости.
– И что же, – иронизирует Я., – единственное послание, которое может отправить в Большой Мир уважаемый Кнессет, – это что жизнь сложна и дьявол его знает, что с ней делать?
Кнессет Зеленого Дивана, несколько запутавшийся в идеологии, решает, что неплохо бы ему проветриться. Кнессет набивается в одну машину, и А. выруливает на дорогу Иерусалим – Тель-Авив в направлении Тель-Авива, то есть в направлении моря.
НА НАБЕРЕЖНОЙ
Они паркуют машину на бесплатной по субботам стоянке. Это заседание было отложено на субботу из-за Б., которому пришлось выйти на работу в пятницу, и Я. предлагает им необычное начало прогулки. Они идут не к набережной, а к рынку Кармель. Нет ничего более неземного, чем рынок Кармель в мрачную погоду в субботний день. Одни только тощие кошки бродят в закрытых и вонючих рыбных и мясных рядах, даже темных личностей нет. (“Пошли отсюда!” – говорит не склонная к постмодернистской эстетике Баронесса не кошкам, а своим спутникам). То, что вчера пестрело, шумело и переливалось через край, удивляло дешевизной и изобилием, отступило, спряталось за ржавыми замками и жалюзи, а то, что выступило на первый план сегодня, – серо, старо, угловато и имя ему – Коекак. Из полозьев жалюзи выбралось наружу смазочное масло и испачкало, смешавшись с пылью, волнистый металл, на котором чья-то рука под голубой Звездой Давида вывела голубым же цветом патриотическую надпись “Народ еврейский жив”. Чья-то левацкая рука кровавым цветом добавила: “и виновен в страданиях палестинцев”. Сбоку равнодушно глядит на политические стычки хозяйский плакат соседней лавки. “Король арбузов”, – возвещает он о себе. Скатан грязный навес, полощется на легком ветру не вполне целая маркиза, другая маркиза, сморщившись, откинулась назад, как складная крыша автомобиля наркобарона, а третья – вовсе в лохмотьях. Люминесцентные лампы под навесами висят на своих местах, как лебедки мойщиков стекол на небоскребах. Обычные лампочки предусмотрительно вывернуты, что служит намеком на то, что темные личности сюда все же заглядывают, но алчность их так же скромна, как скромны эти безобразные ящики с разъеденными ржавчиной углами. Они вытянулись в два ряда, словно на двух линиях невидимого конвейера перед погрузкой на такой же затертый пароход. Потрескивают на бегу гонимые ветром пустые пластиковые стаканчики, умолкают, натыкаясь на металл, издают последний хруст, попадаясь под ноги, и чтобы уж совсем испугать Баронессу, звучит резкий выстрел – это металлический лист жестяного склада, устав от одной кривой напряженности, прыгнул в другую изогнутую нервозность. Этот звук-выстрел исчерпал терпение Баронессы, и компания сворачивает на набережную, минуя рисованную настенную жизнь племени художника Рами Меири.
А по набережной они идут вольготно, не спеша, от памятника у дельфинариума, где погибли в теракте дети из Российской Империи и где все еще горят свечи и лежат цветы, до яхт тель-авивской марины. Они минуют американское посольство, подземной автомобильной стоянке которого любил доверять свою “Субару” Б. до встречи с госпожой Ковалевски и безымянными угонщиками, проходят мимо соседнего с посольством ресторанчика Mike's Place, отмеченного в свое время дежурным терактом. Другим терактом был отмечен еще клуб возле арабской лавки-пекарни, который компания прошла немного раньше. Я. оказался там на следующий день, были еще на месте взрыва обломки, мусор и полицейское ограждение, FOX снимала маленького солдатика с автоматом, стоявшего на придорожной тумбе и что-то высматривавшего. Красная краска, которой вскоре была покрашена мостовая на входе в ресторанчик, уже поистерлась под ногами прохожих.
Компания ведет беседы, уместные при небыстрой ходьбе. Так, ничего особенного. Сначала о царях древности. Я. утверждает, что Александр поразил современников и потомков не столько своими воинскими подвигами, сколько попыткой построить Новый Ближний Восток. Щелкнув на иконке увеличительного стекла со знаком плюс, отчего, как известно, мы видим меньше, но лучше, Я. сосредотачивается на клочке ойкумены между Средиземным морем и Иорданом. Он опровергает расхожее мнение о том, будто царь Ирод запомнился иудеям лишь своими жестокостями. Жестоких иудейских царей было хоть отбавляй, говорит он. Жестокости Ирода запомнились лишь благодаря масштабу его личности, который отразился в размахе его строительства. Потом беседа перешла на других строителей – пионеров-первопоселенцев из России. О том, какая это была безумная затея. Они рассуждали о законе сохранения безумных затей в природе. Стоит ли любая идея, как бы хороша она ни была, такого самопожертвования, спросил А., имея в виду первопоселенцев. А есть ли вообще ответ на вопрос, сколько стоит свобода, ответил Б.
Море легонько гладит мокрый песок. Б. улыбается встречной толпе безадресной улыбкой. Я. находит, что в его улыбке есть оттенок надменности. Он эту надменность оправдывает, он говорит, что она антибиотик после столетий европейского холопства. Море – то же море, говорит улыбка Б., первопоселенцы –те же первопоселенцы. Ау, вы нас не узнали?
Они переходят на иврит, встречая знакомых уроженцев страны. Прощаясь с ними, снова возвращаются к русскому. Кого они встретили на этот раз? Б., например, встретил Гади Леви, с которым работал когда-то в одной комнате в “Hellop Ltd.”. Гади Леви был всем хорош, и только тем не очень удобен в общении, рассказал о нем Б., что имел обыкновение громко кричать. И кричал он не тогда, когда злился или хотел кого-то обидеть, а наоборот, – чем веселее ему было, тем громче он кричал, чем приятнее ему был входящий в комнату, тем более шумным приветствием и хлопком по плечу он его награждал. А. встретил старичка-“поляка”, мимо дома которого он когда-то продвигался по тротуару с метлой и совком, и старичок неизменно при этом тщательно запирал калитку и спрашивал у А. доверительно и шутливо, не “румын” ли он, а затем в который раз шутил, что “румын” – это не национальность, а профессия. А. впоследствии устроил собственный опрос, чтобы выяснить, правда ли, что “румыны” склонны к присвоению чужой собственности. Из троих опрошенных им “румын” ни один не сознался. Попадались гуляющей компании и знакомые из “русских”. Например, Я. с Баронессой встретили старого знакомого, одного из первых своих соседей в стране, Баронесса вспомнила его имя, Валерий. Его в ту пору в августовскую жару можно было в полдень встретить идущим по улице в светло-сером костюме-тройке, с плоской соломенной шляпой на голове. Я. утверждал, что при нем была трость, но Баронесса трости не помнила. Этим облачением он подчеркивал, видимо, свою нескрещиваемость с расхлябанным Левантом. Весь вид его говорил, что если попытаться случить его насильно с Левантом, то потомства от этой случки не будет: он останется в костюме-тройке, а Левант – в неопределенного цвета неглаженой футболке с растянутым воротом. Сейчас на набережной этот их знакомый был в шортах, сандалиях на босу ногу и футболке, правда, тщательно выглаженной и с тугим воротом. Был он не только без шляпы, но даже наголо острижен, и голова его оказалась на удивление круглой. И только В. во всю дорогу никого не встретил и даже немного из-за этого было расстроился, но вдруг увидел, что навстречу ему идет Хаим Брикман, и безобидный В. стал смотреть себе под ноги, потому что жена Хаима Брикмана, (нет-нет, не позволим подозревать в В. негодяя!), просто жена Хаима Брикмана имела обыкновение стирать футболки мужа по вечерам и вывешивать их сушиться на ночь, отчего к утру футболки отдавали запахом тины. Хаим заметил глядящего себе под ноги В., окликнул его, осведомился о здоровье и обдал его знакомым запахом, который здесь, на набережной, вполне можно было бы принять за далекий отголосок поврежденной канализации одной из старых гостиниц на набережной. В. никак не прокомментировал встречу, а остальная компания так и решила, что это порыв ветра принес запах гостиничного подвала.
И все же тель-авивская набережная склоняет к беспечности. В Иерусалиме нет моря, но есть горы. Иерусалим приобщает к величию и страсти. Тель-авивская набережная внушает мысли о примирении, окутывает негой. Переселите жителей Тель-Авива на неделю в Иерусалим, который и видом и цветом напоминает горку грецких орехов, и не хватит ни стальных щипцов, чтобы эти орехи расколоть, а расколов, выковырять из мелких осколков скорлупы их горьковатую субстанцию, ни тяжелых дверей, в щелях которых колют орехи те, у которых не оказалось щипцов под руками. Если же наоборот, жителей Иерусалима поселить в Тель-Авиве и выгуливать день за днем на набережной, то они скоро будут напоминать розовых креветок, их останется взять за хвостик, макнуть в золотистый соус, зажмуриться от удовольствия, и они сами растают во рту. От людей ничего не зависит. Дух города варит их мысли, тихонько помешивая их в котле своих улиц, затем, сняв пробу, заправляет ими головы людей, как заливают свежее масло в мотор автомобиля.








