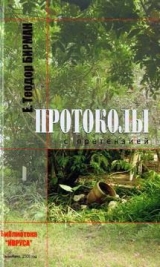
Текст книги "Протоколы с претензией"
Автор книги: Е. Теодор Бирман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
НЕОЖИДАННОСТЬ
Я. и Баронессе начинает давать уроки иврита пожилая пара уроженцев Еврейского Государства, чья юность связана с Палмахом – ударными отрядами, ставшими с образованием государства основой Еврейской Армии. Первое же посещение их дома, заросшего, пожалуй, даже залитого зеленью, поражает их.
– Мы были очень молоды, когда строили свой дом и не слушали советов старого садовника, отговаривавшего нас сажать сосну и фикусовое дерево, – говорят они. – Сосна когда-нибудь упадет на дом, а корни фикуса приподнимут его, убеждал нас садовник. И вот теперь сосну скоро нужно будет выкорчевать, а от корней фикуса пошли трещины в стенах.
Застенчиво-скованных пришельцев из Российской Империи, Я. и Баронессу, удивляет атмосфера дома. Не сразу осознает Я., что именно задело их за живое в этом доме, – это атмосфера дворянского гнезда, еврейского. Разве это возможно? Я. и Баронесса внимательно вглядываются в этих людей. Они стояли у основ государства, у них типичные дворянские профессии: он – офицер, она – учительница иврита. Я. поражен и взволнован, они не думали об этом, приняв решение об отъезде. Евреи, которыми они привыкли гордиться (кто не знает, как любит каждый еврей приобщаться к славе своих великих сородичей), были знаменитыми учеными, финансистами, революционерами дела и мысли, но никогда – аристократами. Не по жалованным европейским грамотам и титулам (такие были) – по этой очевидной связи с историей, с землей, с таким естественным правом на нее и ответственностью за ее устройство, полной (не Ltd), толкнувшей их заниматься языком с вновь прибывшими и опекать их. Я. улыбается – теперь окончательно ясно, почему они именно здесь. Жена смотрит на него серьезно. На сей раз она не иронизирует, скорее, привыкает к новой и для нее действительности. Но когда же наконец начнется и их подъем?
СИОНО-СИОНИСТ Б.
В очередной раз Б. наступает на грабли – присоединяется к экскурсии по Хайфе с участием широких народных масс Еврейского Государства. Широкие народные массы постоянно отстают, к объяснениям экскурсовода (первая скрипка) они подмешивают свои разговоры – пиликанья скрипочек разных размеров и играют на них невпопад. Их милые детки считают, что ноги Б. занимают слишком много места в этой маленькой стране, и свободно разгуливают по ним. Они вырастут беззлобными, как и их родители, и ни в чем не будут ограничивать своих детей, думает Б. и в который раз пытается решить для себя, хорошо это или плохо.
Они останавливаются перед небольшим обелиском, посвященным посещению Святой Земли кайзером Вильгельмом II и его женой Августой-Викторией. Экскурсовод привычно ведет рассказ, словно стоя на носу лодки, которая раскачивается из стороны в сторону разгуливающими по ней слушателями. Но он, невзирая на помехи и балансируя, уже рассказал толково и подробно о раскинувшемся перед ними Хайфском заливе, не забыв указать на окружающие холмы и перечислить их названия. Он держит в вытянутых руках фотографию больницы, построенной в честь Августы-Виктории в Иерусалиме.
– Ребенок не видит картинку, – прерывает экскурсовода женщина, и он безропотно опускается на корточки перед ее дочерью – четырехлетней гражданкой, которая не удостаивает фотографию взглядом и вопросительно смотрит на мать.
– Сейчас мы спустимся в Бахайские сады, – продолжает экскурсовод, – просьба к детям не бросать жевательные резинки, фантики, не кричать.
– В общем – не дышать, – шутливо комментируют народные массы призыв экскурсовода к соблюдению порядка, отдающий, по их мнению, нацистским душком.
Почему лучшие здания Еврейского Государства построены если не христианами, то бахаистами, рождается в душе Б. один из его бесчисленных внутренних монологов. Почему такое омерзение вызывает в нем субботняя грязь улиц в ультрарелигиозном квартале Мeа-Шеарим? Неужели им до такой степени все равно, что он думает о них? Кто виноват, он или они, в его законченном неприятии религиозных традиций? В чем смысл упорства, с которым они надевают в августовскую жару Ближнего Востока меховые шапки из пушистых хвостов в память о том, как лихо они обвели вокруг пальца какого-то польского воеводу, запретившего им носить меховые шапки польской зимой, но не распространившего свой запрет на хвосты? До сих пор спор с польским воеводой несет для них больший символический груз, чем необходимость здесь и сейчас ужиться с ним, Б.?
Он, конечно, помнит наизусть эти строки: “В начале сотворил Бог небо и землю, и была земля безвидна и пуста, и дух божий носился над бездной...”. Но как можно было от величия этих строк дойти до хвостов, напяленных на голову, поверх которых еще может быть надет полиэтиленовый пакет, защищающий эти хвосты от дождя? До постановлений о недопустимости ковыряния в носу по субботам? За три тысячи лет не поставить ни одного физического эксперимента! Упереться в божественное откровение и игнорировать все, что происходит в божественном мире! Одной десятой энергии, вырвавшейся наружу после того, как евреи в массах стали выбираться из расколотой скорлупы еврейской религиозности в 19-м веке, хватило на создание нового государства. А где другие части? Треть ушла на растопку в Европе, треть распылилась без толку в России, треть в Америке напоминает то созревшую грушу, то катающийся в кузове грузовика опрокинутый полный бидон с молоком.
– Что за странный образ? Никогда не видел, чтобы бидоны, полные молока, катались по дну кузова, – заметил Я., с которым Б. поделился своими мыслями, когда они вдвоем поехали в монастырь молчальников в Латруне за винами и коньяком. – Пустые, да. Но полные?
– Мало ли! Тряхнет. Или затормозит впереди кто-нибудь резко, – сказал Б., но тут же улыбнулся и добавил: – Да ладно, это так – образ из тех мрачных пророчеств, которые сбываются редко, как, например, Катастрофа. Упрямый интеллектуал, правда, без труда объяснит нелогичность происшедшей трагедии и объявит своей победой возврат в исходную точку еврейского рассеяния. А вот скажи мне лучше, – обратился он к Я., – почему самая длинная и уродливая улица в стране названа именем наивного фантазера и рыцаря, элегантного стилиста? (Б. имеет в виду Жаботинского.) Разве не логичнее было бы назвать ее улицей Штынкеров (Говнюков)? Уж я не знаю, какое количество потенциальных граждан, приехавших посмотреть еврейскую страну из Филадельфии или Нью-Йорка, поклялось, что глаза их никогда больше не увидят этого позора, однажды проехавшись по улице Штынкеров. Красота победит мир, – Б. намеренно перекраивает Достоевского на боевитый ближневосточный манер. – В красоте – огромная сила, – говорит Б. – А улица Штынкеров подталкивает Соседей к мысли, что нас еще можно сковырнуть, а друзей – к впечатлению, что это еще одно грязненькое жидовское местечко, которых тысячами смыла жизнь в прошлом.
Страсть, с которой Б. верит в еврейский прогресс, для Я. – жестяная кружка с горячим чаем на промозглом ветру. Он держит ее в ладонях с нежностью, он ведь тоже не оценивает эту идею со стороны. Он тоже полагает: то, как будет выглядеть это место, будет в каком-то смысле оценкой, выставленной потомками его жизни. Он тоже не приемлет плебейскую мудрость “От меня ничего не зависит”. От него зависит все. Как и от Б. Слава богу, Б., если и читает его мысли, не сможет их распечатать на принтере и предъявить ему в качестве насмешки над его высокопарностью.
Разглядывая сейчас латрунский монастырь и особенно приветствуя стойкие светлые тона его камней (палевые, песочные в сочетании с кремово-белыми), на фоне обильной изнуренной зелени, Я. делится с приятелем собственной устоявшейся фобией, он утверждает, что не любит баухауз, это архитектурное чудо социал-демократической мысли. Он утверждает, что оно завезено сюда из Германии в период между двумя мировыми войнами, когда по ней разгуливали как минимум четыре вируса – нацизм, социализм, пацифизм и социал-демократическая архитектура. Спасаясь от первого из этих вирусов, евреи Германии в изобилии везли в будущее Еврейское Государство три остальных. От социализма и пацифизма уже почти ничего не осталось, и он мечтает о дне, сказал Я., когда однажды весь этот охраняемый ЮНЕСКО хлам заминируют и, дождавшись хорошего ливня, чтобы прибило пыль, взрывами поднимут на воздух.
Б. в этом с ним, кажется, согласен. Тяжелее, чем с другими, бывает ему со своими, питерскими. Он лучше других понимает, каково им без привычных дворцов и проспектов (подпись царя под проектом каждого дома). Вид на остров с площади Святого Марка в Венеции кольнет его ностальгией.
– Представьте себе Петра Великого, – адресованную своим гипотетическим землякам аргументацию Б. проверяет на охотно слушающем его Я., – представьте себе его говорящим: “На кой черт дались мне эти чухонские болота? Подамся лучше в Европу! Гляньте на этот нищий народ! А бояре – лучше? Ходят в своих нелепых кафтанах, с бородами, словно хасиды в лапсердаках, а по вечерам пьют медовуху и считаются родством”. Снобизм и невежество – очень близкие родственники, – продолжает он обличительный монолог. – Мне вообще наплевать, – совсем уж заносит его, – на то, что я вижу вокруг сегодня. Мне важно то, что будет завтра.
Всердцах он жалуется Я. на своих заносчивых земляков (лично Б., безусловно, – сама скромность, иронизирует Я. в ответ, не пытаясь, однако, скрыть симпатии к нему). Они напоминают мне Керенского, продолжает говорить возбужденно Б., не обращая внимания ни на иронию Я., ни на его симпатию. У него, у Керенского, из рассказа Бабеля, было слабое зрение, но он не надевал очков. Он говорил, что так он абстрагируется от деталей, но лучше прозревает целое. Результаты его деятельности были скромнее результатов Петра, утверждает Б. У них (у его земляков) катаракта снобизма на глазах, злится он. Сквозь нее они видят очертания оставленных ими дворцов и говорят: вот это дворцы, а все остальное – юрты и сакли.
Из разнородного, собранного из разных частей света человеческого конгломерата, объединенного верой в единство происхождения и общностью исторической судьбы, на обломках еврейского социализма рождается, утверждает Б., нечто живое. Как у всего живого, у него масса милых причуд, которые любящей душе Б. кажутся не лишенными очарования. Например, обнаружившийся недавно обычай девушек из местной школы терять невинность на могиле основателя государства. Он, наверное, кричит им из-под камня: “Этот камень холодный, немедленно положите под попу что-нибудь теплое, иначе застудите яичники”. Он ведь всегда утверждал, что ему неважно, чего им хочется, зато он знает, что для них хорошо. Или вот традиция девушек-солдаток на прощание с армией, обнажившись до пояса, фотографироваться в обнимку с самолетом. Мягкое к жесткому, телесное к серому, круглое к плоскому, заклепка к заклепке. Жестокие ветреницы! Несчастный самолет! Вцепись тормозами в колеса и не смей взлететь! Что вы творите с ним, легкомысленные кокетки? У него же распухнут подвесные баки с дополнительным топливом, на котором он должен долететь до Ирана и вернуться обратно! Что станет с обороной страны, которую он поклялся защитить?! Как ты думаешь, спрашивает Б. своего приятеля Я., – основатель государства, понимая несбыточность всякого идеала, предпочел бы потерю невинности этими школьницами на своей могиле или на брачном ложе в Лос-Анджелесе?
Дворцы и дома в Петербурге, мысли Б. достигают точки кипения, хотя сам он спокойно стоит спиной к монастырю и лицом к панораме, открытой с холма, строили для СЕБЯ аристократы, тогдашние или будущие. Затем в них выписывались учителя для детей, зубные врачи, привозили холопов. И уж потом холопы считались между собой, у чьего барина выезд лучше. Я признаю разницу между Дворцовой площадью и рынком Кармель, но всего триста лет назад там даже рынка Кармель не было, а только болото, а вот теперь стоит Дворцовая площадь. Дворцов, увы, здесь уже не будет, их время прошло, но будет что-то иное, в другом роде. Одно невозможно: никогда и ничего не построят холопы, чей полет мысли направлен лишь на поиск лучшего места и более симпатичных хозяев.
Они поднялись пешком на вершину холма, у подножия которого стоит монастырь, мимо свободно посаженных оливковых деревьев и запертых за проволочной оградой сосен и пальм, на самой его вершине переступая через выложенные камнем узкие траншеи. На восток, в направлении Иерусалима, продолжали громоздиться холмы в сосновых лесах, к западу легла Аялонская долина. Я. показалось, что Б. вовсе не разглядывает сейчас окрестности, а следит за летящей точкой в небе.
Возможно, этот самолет взял теперь курс на Торонто, замечает Б.
– Ну какой из тебя либерал? – говорил Я. другу, смеясь. – Не грусти, первым мечтателям было куда тяжелее, оставался лишь каждый десятый. А сейчас только каждый десятый уезжает. А тебе рано или поздно наш Президент присвоит рыцарское звание, хлопнет тебя по плечу дулом М-16, у которого ремень привязан к прикладу нештатным способом (потому, что автомат американский, а способ его ношения – местный). А во-вторых, ты не прав и насчет холопства. В Канаде я встретился со своим приятелем, много лет прожившим здесь. Эмигрантами населенный дом, съемная полупустая квартира с сиротским эхом. В это время он был еще и без работы. В канадской службе занятости ему посоветовали увлечься сексом, чтобы не свихнуться от безработицы. Когда на собеседовании в канадском посольстве его спросили о причине эмиграции, ему не захотелось объясняться, и он сказал: “Да просто я так решил”. Знаешь, я ведь когда поехал путешествовать по Америке, ничьего другого адреса из тех, кто уехал отсюда в Канаду, даже не взял с собой. Из всех уехавших туда знакомых мне людей я только об этом своем приятеле жалею по-настоящему. Ничего нельзя сделать с этой врожденной человеческой неприкаянностью, беспокойством, с этой вечной тягой к поиску чего-то за горизонтом. Чего? Чувство Отечества – это еще одна глубокая страсть, – продолжает Я., будто убеждая Б. в том, в чем его убеждать не требуется. – Можно ведь жить и без любви, но зачем? Зачем обеднять жизнь? Да и правильно ли называть Еврейское Государство Отечеством? Ведь это, скорее, государство-дитя, которое его граждане вместе растят и о котором совместно радеют. Поздний ребенок немолодого народа. Скажи, – спрашивает он Б. мягко и вкрадчиво, – а не кажется тебе иногда, что это довольно грустно – тянуть всю жизнь одну и ту же лямку, к которой прицеплены одна, две тяжеленные идеи, одна любовь? Ведь жизнь так многозначна и увертлива? Разве не хочется иногда все обрубить, испытать восхитительный азарт новизны, освоить совершенно иное пространство?
Б. промолчал, он слишком хорошо знает своего приятеля, чтобы попасться на крючок его иронии. Он отмечает превосходный оранжево-апельсиновый цвет крыши монастыря внизу, но донесшиеся удары колокола кажутся ему слишком частыми. И хотя ему хочется в шутку поинтересоваться, отбытие в другие пространства видится Я. с Баронессой или без нее, но сейчас они только вдвоем, аура дружбы густа в этот момент, как зелень вокруг, и Б. предпочитает ни слова не произносить вслух.
Б. все же гораздо жестче Я. в том, что последний, издеваясь над ним, называет “кодексом чести Б.”. Со своим знакомым, живущим, по этого знакомого собственным словам, “на границе с Францией”, он даже не выразил желания встретиться. Он объявил: “Он мне неинтересен. Вы ведь не собираете отрезанные ногти в баночку для музея своей индивидуальности”? Плохо связанный с системой элемент не укрепляет, а ослабляет систему в целом, заявил он. Он уж очень крут, этот Б., считает Я., ему не помешало бы какое-нибудь гомеопатическое средство, закрепляющее в организме либеральные микроэлементы. Но Б. не сбавляет обороты.
– По телевизору видел вчера в каком-то фильме, – говорит он, – сидит семья американских евреев где-то не то в Филадельфии, не то в Чикаго. Хозяин богат, жена его улыбается, как умеют улыбаться женщины в очень богатых семьях, зять смотрит на него во все глаза. Этот глава семейства – сионо-сионист. Помогает Еврейскому Государству, он там бывал и в один из приездов даже купил там земельный участок. Но на набережной к ним с женой подошла проститутка. Представляете, говорит он, улыбаясь, проститутка в Еврейском Государстве. Земельный участок он продал на следующий день с убытком для себя... Или вот в одной книжке, – говорит Я., – герой, собирающийся из Российской Империи в Еврейское Государство, включил приемник и ждет сводку новостей из Иерусалима, а она вместо 19:00 начинается в 19:03, и диктор даже не извинился за опоздание. И тут этот герой решает – в такое место он ни за что не поедет. То есть на земле достаточно мест, где дворец уже оперся на землю и поражает птиц и людей. А в построенном дворце всегда есть вакансия и для кладовщика, учитывающего его сокровища, и для поэта, воспевающего его красоту. На кличку “жид”, – завершает мысль Б., – мы обижаемся по двум противоположным причинам: когда она на нас болтается или когда слишком плотно прилегает к заднице.
Они спускаются с холма, стараясь не поскользнуться на мелких камнях в пыли неровной грунтовой дороги, к стоянке у монастыря, где оставлен автомобиль Б., в багажнике которого лежат упакованные в картонные коробки бутылки бренди, произведенного монахами-траппистами за год до их приезда в страну, и гораздо более молодое вино, в основном – демократичный Merlot.
N++; О МЕСТЕ ЕВРЕЕВ В МИРЕ
– Мне есть что сказать по этому поводу, – заявил Б.
– Тебе есть что сказать по любому поводу, – смеясь, подбодрил его Я.
– Нет, правда, я разработал собственную классификацию, – сказал Б.
Еврей в Еврейском Государстве – патриций.
В Америке – всадник.
Тут у Б. либо исчерпались римские термины, либо темперамент его взял свое:
Еврей в Европе – лакей.
В России – шут.
В Германии – символ стойкости.
Баронесса уже слышала от Б. о его классификации. Она даже знает, что к такому определению евреев Германии он пришел, когда услышал от кого-то о пожилой немке, которая сказала своим еврейским соседям: “Чего уж, живите, – ведь вас, как тараканов, окончательно вывести невозможно”.
– Ты слишком суров к ним, – нахмурилась тогда Баронесса. – Это всего лишь люди, им предложили возможность пожить лучше, они согласились.
– У этого “лучше” – аромат того самого “мыла”, – упрямо ответил Б. – Ты бы с этим мылом пошла в душевую? Ведь это всего лишь мыло! А немцев я вполне понимаю, – продолжил он, – в возвращении евреев есть что-то успокаивающее. Вот ведь только выветрились газы – и они вернулись. “Род проходит и род приходит...” Это не о тараканах сказано у Екклезиаста?
– Вы обратили внимание, как выглядят приезжающие к нам по делам американцы англосаксы? Веселые, непринужденные, раскованные – в общем как жители Еврейского Государства, дворяне как дворяне, – вступил Б.
– А американцы-евреи?
– А американцы-евреи серьезны, внушительны, на нарушение дистанции, тем более на фамильярность, реагируют болезненно.
– И что это означает?
– Что все-таки не хватает им уверенности. А так ничего – богаты, устроены, признаны, ничего не скажешь.
– Не стыдно тебе так отзываться о них? Ведь они нам помогают, сочувствуют нам,– упрекнула Б. Баронесса.
– Стыдно, – сказал Б.
– И что, совсем нет раскованных американских евреев? – спросила она.
– Ну что ты, конечно, есть.
– Кто?
– Роберт Де Ниро.
– Он же итальянец.
– Он сыграл стольких евреев, что это не могло не отразиться на его самоидентификации!
Не откладывая дела в долгий ящик, Кнессет решает присвоить Роберту Де Ниро звание Почетного Еврея.
– Без обрезания? – поинтересовался А.
– Конечно, без, – ответил Я. – Мне рассказывал один приятель, который проделал эту процедуру в зрелом возрасте, о том, какая это была мука, когда у него каждое утро лопались швы.
А. понимающе хмыкнул, и все посмотрели на него с изумлением, но он мрачно молчал, и всеобщее осуждение обрушилось на засмеявшуюся Баронессу.
– Проблемы женщин никогда не являются для нас объектом насмешек, – сказал ей Б. с укором.
А. согласно кивнул. Баронесса попыталась было сделать строгое лицо, но тут же снова засмеялась.
– Вернемся к Де Ниро, – сказал Я.
– Не пейте слишком много субботнего вина, – советует актеру заботливый Кнессет, – от него может заболеть желудок и вспучить не только живот, но и мысли.
Кнессет пытается объяснить господину Де Ниро, как заправляются брюки в носки по внесезонной моде ортодоксальных евреев.
– Этому я еще вас научу, – гордо отказался Де Ниро.
– Поздравля-яем! – машут члены Кнессета в экран телевизора, – Р-о-берт!
– Почему же европейские евреи – лакеи?
– Приведу вам пример дедушки всех европейских лакеев.
– Кто же это?
– Капитан Альфред Дрейфус.
– Почему же он лакей? Он столько выстрадал понапрасну.
– Потому и лакей. Даже после того, как его оправдали, он не выдал немцам ни единого военного секрета. Разве не лакей?
– Лакей! – дружно отозвался Кнессет.
– А еврейские либеральные профессора в Европе – разве не лакеи?
– Хватит о профессорах! – еще дружнее завопил Кнессет.
– Давай теперь веселись по поводу евреев Российской Империи, – требует Кнессет.
– Шут – это всегда грустно, – сказал Б., – и больше я к этому ничего не прибавлю.
– И все же, – не соглашается на недоговоренности Баронесса.
– Сытые шута немножко презирают, немножко жалеют и поощряют, пока он не переходит границы. Голодным же кажется, что он слишком легко зарабатывает на хлеб насущный и оскорбляет святые для них понятия. А в свободное время шут пишет мемуары о трагедии своей жизни. Да так хорошо пишет, что не только сам плачет над ними, но даже сытых слеза прошибает, а уж голодные – так те просто плачут навзрыд.
Тут склонный к обобщениям и любитель изящной словесности Я. не удерживается, чтобы пополнить перлами своих догадок кладезь мудрости Б.
– Я бы сказал, – говорит он, – что еврейская литература в рассеянии делится на два главных потока. Один, отмеченный Б., ковыряет раны своей неоцененности окружением, другой – напротив, пытается над этим окружением возвыситься, воспитывая в себе супергоя, для которого мир делится на две половины, одну из которых нужно трахнуть, а другой набить морду.
– И что же, в Еврейском Государстве все евреи – дворяне? – не отпускают Б. члены Кнессета и пренебрегают звучностью латинской речи и римским сословным институтом патрициев.
– Мне особенно запомнились двое в первый год пребывания в стране. В квартире, которую я снял, не было телефона. Я пошел позвонить из телефона-автомата. Он был занят – девушка, смуглая такая на вид, разговаривала увлеченно и громко, живописно жестикулируя. Я любовался ее жестикуляцией минут пять. Сейчас, думаю, она выглянет, мило попросит извинения, и я увижу ее мордашку. Я любовался еще минут десять, потом еще пятнадцать. И тогда она выглянула и сказала: “Что, в этом районе нет больше телефонов?”.
– Какая у нее была мордашка?
– Не запомнил.
– Истинно дворянское достоинство, – согласился Кнессет.
– Второй случай – дорожный, – продолжал Б., – съезжая с трассы Гея к Бар-Илану, я замедлил движение, и тут в зад моей “Субару” въехала госпожа Ковалевская. Так она представилась. Въехала несильно, чуть примяла бампер. Я взял ее телефон, сказал, что дело пустяшное, в выходные съезжу в гараж, узнаю, сколько стоит рихтовка, и перезвоню. Так и сделал, в гараже мне сказали, что бампер не рихтуется, нужно его менять и стоит это в десять раз больше, чем я думал. Я позвонил и поделился бедой с госпожой Ковалевской.
– И что она тебе ответила? – заинтересовался Кнессет.
– Что в жизни не видела такого наглеца, что за три дня в меня могли въехать еще три другие госпожи Ковалевские, и вообще она посмотрела – у всех “Субару” бамперы именно так и выглядят.
– Истинно дворянское самообладание, – опять признал Кнессет.
– И что, ты так и ездил с кривым бампером?
– Недолго. Через два месяца машину угнали.
– Дворянское своеволие, – осудил Кнессет.
Члены Кнессета, словно сговорившись, сделали вид, будто они забыли о том, что в перечне Б. числятся отдельной строкой евреи Германии.
– Послушай, еврейский патриот, – обращается А. к Б., как в задачке по математике, – единственный, кто вышел из твоего рассказа с приобретением, – это Роберт де Ниро.
– Где же здесь противоречие? – смеется Я. – Как всякий порядочный еврейский дворянин, он обладает первейшим для еврейского джентльмена качеством – он порядочный антисемит.
– За антисемитов! – поднимает бокалы Кнессет.
– Мы вам из национальной идеи такое блюдо приготовим – пальчики оближете, – воодушевленный своим успехом, провозглашает Б.
Он почему-то говорит “мы”, но это, видимо, часть его воодушевления.
– Бить тебя будут, – с приторным сочувствием говорит вечно трезвая Баронесса и заодно возвращается к единственному числу и персональной ответственности, – люди по своей природе не столько глупы, сколько очень упрямы. Ты подсчитай, сколько народу ты оскорбил понапрасну.
Что это происходит с его женой, удивляется Я. В том, что она сбивает с Б. его радикализм, ничего удивительного нет, но откуда это “люди не столько глупы, сколько очень упрямы”, ведь она вовсе не склонна к обобщениям?
– Женщины вообще гораздо меньше склонны обобщать, – говорил он позже наедине Баронессе. – Это мужчина всегда пытается кем-то и чем-то руководить. В самом простом случае он руководит собой и своими мыслями. И потому он склонен к обобщениям. Господство требует обобщений и пренебрежения деталями, не вписывающимися в структуру. Женщины часто не руководят даже самими собой и своими детьми. Они знают, что их дети у них лишь во временной аренде. Еще несколько лет, и они сами им об этом твердо заявят. У них нет нужды в немедленном обобщении, однозначных выводах, вытекающих из выводов действиях. От этого картина мира в представлении женщины меньше страдает от искажений, так характерных для умственных мужских построений.
Лицо Баронессы принимает хорошо знакомое Я. выражение, в котором легко различить уважение к его философским способностям, но к которому прибавляется легкое сомнение в сказанном. Это даже не выражение лица – это рожица-иероглиф, сигналящий ему, что его философия хромает то ли слегка, то ли на обе ноги, то ли вообще никуда не годится.








