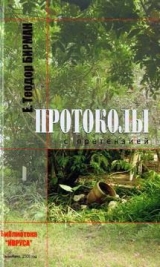
Текст книги "Протоколы с претензией"
Автор книги: Е. Теодор Бирман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
ПРОШЛОЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРЕЙСКОГО КАННИБАЛИЗМА
Всеобщая еврейская история подразделяется на досионо-сионистскую, сионо-сионистскую, а постсионо-сионистской не бывать! Досионо-сионистская история делится на библейскую и пустую. Пустая история – это такая, в которой не было ни библейской, ни сионо-сионистской. Что делали евреи в пустой истории? Маялись. Сами маялись, донимали других и подвергались побоям. Правда, во время пустой истории евреи учились. Они учились по библейской истории, а также у других народов. О библейской части истории рассказывает сама Библия, о сионо-сионизме у всякого когда-либо интересовавшегося им человека сложилось свое, совершенно определенное мнение. Мы вовсе не так самонадеянны, как кажется, и не претендуем его изменить, мы только хотим осветить его, скорее для самих себя, в несколько ином, мягком и обыденном, культурологически-кулинарном свете.
Сионо-сионистская история начинается с Пионеров-первопроходцев. Пионеры-первопроходцы питались идеями, панированными в компосте. Пионеры-первопроходцы по определению – пришельцы. От прочих первопроходцев из пустой истории они отличаются тем, что они пионеры, которые пришли не на новое место, а на незабытое старое. У Пионеров не было никакой пищи, помимо пищи идейной. Они дробили камни, строили дороги, пахали землю и питались идеями в компосте.
Пионеров съели Волчата. Волчата были детьми Пионеров, первыми уроженцами земли Авраама, Исаака и Иакова в новое (сионо-сионистское) время. Они сидели по ночам у костров с Пионерами, слушали их рассказы и готовили себя к Прорыву, который должны совершить. А Пионеры сквозь искры костра, сквозь легкий дымок, любовались этим новым еврейским выводком. Волчата не подвели. Они перековали орала на мечи. В гордой погоне и юном беге, в высоком прыжке и беззаветной отваге основали они Еврейское Государство. Ничто не дается даром. У Волчат образовалась Грыжа.
Волчат съели Дети Вудстока. Они были детьми Волчат с Грыжей. Они были детьми Волчат и Грыжи. Но предпочитали называть себя Детьми Вудстока. Горячие Патриоты охотнее назвали бы их “йалдей акилэ”, детьми Грыжи. Время шло. Время неумолимо. Время бросать гранаты и время собирать $..$. На штыках не усидеть. Присесть лучше в телевизионной студии, редакции газеты или в банковском офисе. А еще хорошо снимать фильмы и сочинять песни протеста. Они искренне жаждали мира, они стремились понять Соседей. Они громко сказали всему Миру: “Мы их понимаем”. ”У-гу, – отвечали им Патриоты, – и они вас понимают отлично. Лучезарный лик ваш, однако, заслоняет им ваша же упитанная задница, которая так и просится...” Со снисхождением обретенной мудрости глядели на Патриотов Дети Вудстока. Они ласково шутили над провинциальным энтузиазмом Пионеров и над воинственным пылом Волчат. Они расширяли горизонты до общечеловеческих ценностей. Они взвесили все в целом и каждую часть по отдельности. Они со всем тщанием изучили пропорции и, ничего не утаив, нам сообщили о них.
Пионеры смотрели в Даль, они видели Вершины. Волчатам некогда было смотреть в Зеркало. Дети Вудстока соединялись сердцами с Миром.
За причудами Пионеров следили в бинокли, Волчата стояли на пьедесталах, Дети Вудстока слились с горизонтом.
А тем временем в страну хлынули... вот говорят, дамы и господа, леди и джентльмены, товарищи и товарищи, а мы скажем – жаботинки и жаботфорты. Как и их великий сводный предок, сам Жаботинский, они говорили по-русски, но в отличие от него, этого языка им было вполне достаточно. Они пришли без денег и с подзорными трубами, как и полагается приходить из Российской Империи. Они не всегда толком знали, что они хотят вспахать и что посеять. Они даже не всегда были уверены, не ошиблись ли они континентом. Опять же, в отличие от их пламенного вождя, в них меньше пламенности и больше практицизма, есть претензия на элегантность, но не хватает на нее средств. А он, Жаботинский, с одной стороны был Владимир (как Мономах и Ильич), а с другой – Зеев, то есть еврейский волк небольшого роста и непугающей лягушачьей наружности. Но писал и говорил он всегда о вещах титанических – о Самсоне-Назорее, о двух берегах великой реки Иордан. Потому и у его сводных потомков тоже размах титанический. Им либо немедленно оплеух навешать Соседям, либо уехать в Америку, на меньшее они никак не согласны. Они разбрелись по стране и осели перед цветными телевизорами на разноцветных диванах. Иногда они садятся в машины и катаются по стране. Они заезжают на север и на юг, они фотографируются у Большого Семисвечника перед Большим Кнессетом. Бог знает какой борщ варится в их коллективном мыслительном чане! Щурясь, смотрят они на Большой Кнессет. Они здесь. И если на них посмотреть с одной стороны, то вроде бы они – фарс-инкарнация Пионеров, если же посмотреть с другой стороны, то ведь во всяком фарсе есть что-то от явления, его породившего.
Пионеры питались идеями в панировочном компосте. Пионеров съели Волчата. Волчат съели Дети Вудстока. Детей Вудстока съедят жаботинки и жаботфорты?
В нас прорастают те, кого мы съели, и те, кого съели те, кого съели мы. Съеденное нами прорастает в нас. Исторический каннибализм – основа основ современного сионо-сионизма.
ПОРТРЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЛНЫ
Я. решил поделиться секретом нового увлечения, литературного, со своим ближайшим другом мужского пола (все-таки, первейший его друг – Баронесса). Он показал Б. миниатюрку “Портрет Великой Волны”. Собственно, “показал” означает: прочел вслух. А поскольку читать вслух Я. не мастер, то голос его порой доносился, словно из пустой зеленой бутылки, а порой истончался, будто он подвывал, прижигая себе ранку.
“ Я.
Портрет Великой Волны.
Со своими братьями, русскими евреями, занесенными великой волной 90-х, я по-настоящему познакомился только здесь, в Еврейском Государстве. Потому что там, в России (как говорим мы сейчас), или там, в Союзе (как говорили мы прежде), их приходилось выковыривать как таракана из булки или случалось натыкаться на них как на пса в подъезде. И вот, сложилась у меня здесь некая классификация русских (советских) евреев”.
При слове “классификация” Б. взглянул на Я., но продолжил слушать.
“Так вот, я, никогда не бывавший в Ташкенте, по прошествии многих лет, проведенных в Еврейском Государстве, первое место без раздумий отдаю нынче ташкентским евреям. Потому что меня лично они ничем не раздражают, хотя, казалось бы, уже сам по себе этот факт, – причина для раздражения. Но нет. Я бы даже сказал, что они родственны в чем-то евреям питерским и отличаются от последних тем, что с них будто сбита спесь начитанной прислуги, которая в еврее питерском так отлична от барской спеси еврея московского. Своего родного брата, еврея украинского, я тут же узнаю по немедленному желанию его пнуть и по особой, въедливой смеси хамства с шлемазливостью (я и сам такой). С удивлением обнаружил я, что еврей кишиневский даже одесского превосходит в развязности, а жизнерадостность его вообще не знает границ. Еврей черновицкий наивен, и это немного чувствуется даже в книгах Аппельфельда, которые очень люблю. Особый вид – бакинский еврей. Таковых здесь немного из-за их высокой сцепляемости с русской жизнью, но даже по тем немногим, что имеются в наличии, по их независимой осанке, чувствуется, что их положение в Баку было выше даже положения армян. О евреях белорусских сказать ничего не могу, видимо, они легко сливаются с любым фоном. Хотя вот был же у них Шагал. Еврей прибалтийский в Еврейском Государстве изучает русский язык, и за это очень хочется погладить его по головке. О евреях бухарских я в России никогда не слыхал, считая их литературным дополнением к бухарскому халату, удачной выдумкой Ильфа и Петрова. Правда, однажды в севастопольском троллейбусе пожилой узбек в медалях долго глядел на меня, а потом спросил: “Еврей?” “Да”, – ответил я ошалело. “У нас тоже такие есть”, – сказал он удовлетворенно. Но, может быть, он имел в виду ташкентских евреев, а не бухарских? Этого я уже никогда не узнаю. В любом случае удовлетворенность его была мне приятна. О евреях грузинских скажешь что-нибудь – обидишь, обойдешь молчанием, – обидишь еще больше. Поэтому я молчанием не обхожу, но и не высказываюсь”.
Я. закончил чтение и взглянул на Б. Б. неожиданно обиделся и заявил, что насчет украинских евреев все верно, остальное – перехлест.
– Ну да, – сказал Я. с вызовом, – я еврей украинский. Когда в детстве меня посылали на математическую олимпиаду в областной город или я играл за свой город в шахматы, моими соперниками были еврейские дети из Житомира, Бердичева и Коростеня. Только в таких местах рождаются Я., как в России в Рязанской губернии только и мог родиться поэт Есенин.
N++; ЩЕКОТЛИВАЯ ТЕМА И НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ
– А вот скажите, – спросил Я. – любовь по шкале приоритетов стоит выше национальной идеи?
– Выше, – ответил Б.
– А комфортно ли национальное государство для смешанных семей? – спросил Я. – Для их детей?
– Детей? – переспросили Котеночек с Баронессой почти в один голос и будто подняли крылья, чтобы взять под защиту детей. Я. же показалось, что в этом вопросе у них одно крыло на двоих.
Но и мужчины, у которых, инстинкт защиты детей хоть и не так силен, как желание оградить своих женщин от других мужчин, как-то сразу скисли. А. свел брови и стал похож на пыльное чучело филина в школьном музее краеведения. И будто разбежались все в разные стороны. А куда бежать? Вокруг – Еврейское Государство, за ним – либо Соседи, либо море. Ныряльщиками без кислородных баллонов в подводном гроте, ищут они пятно света, ведущее к воздуху. Б. только промычал что-то, так и не выстроив развернутой словесной фаланги, долженствующей доказать вне всяких сомнений, подобно дуэльному выстрелу, широту взглядов Кнессета и лично Б. интеллектуальную чистоту. Я., кажется, хочет стряхнуть с рукава паука, которого сам же на рукав посадил. Ощущается желание сбежать поскорее от этой темы. Но мазохист Я. (нет ли тут родства душ с пианисткой и ее наклонностями?) – продолжает:
– Интересно, что акклиматизация вновь прибывших частично зависит от пола – нееврейские жены, как мне кажется, от дискомфорта вообще не страдают. Они осматриваются, берут в руки условный строительный инструмент и начинают возводить новую жизнь безо всяких рефлексий. У мужчин чаще можно заметить потерянный взгляд, пока не зацепятся за что-нибудь прочное – работу, новых друзей. Но и те и другие легче переносят материальные тяготы и неудобства врастания в чуждый им грунт, чем их еврейские партнеры. Видимо, потому, что не ожидают немедленной награды за свой подвиг. Но, в общем, с нашей волной все обошлось, по моим наблюдениям, довольно прилично. Во всяком случае, мрачный прогноз Достоевского о том, как восемьдесят миллионов евреев сгноили бы три миллиона русских, сложись такая пропорция, явно не оправдался. Хотя пропорция, будто назло Достоевскому, именно такая и сложилась.
Ревнивый счет к Достоевскому, кажется, очень задевает Я. Он всем своим видом, будто, грозится удавиться за душевный комфорт соплеменников Ф.М., лишь бы улыбнуться надменно его мрачному лику. А без Достоевского? – спрашивает он себя. И без Достоевского тоже, отвечает, и в ответе его несложно уловить раздражение. Тут ловушка, чувствует он. Тут камень, без которого все здание рухнет. Тут слезинка ребенка, которая, вот хер вам, грубостью прикрывает он растерянность, – по его вине не прольется.
– В акклиматизации был использован местный ресурс, – сказал Б. – У России имеется нефть, в ЮАР – алмазы, а наше главное богатство – Соседи. Их враждебность объединяет нас. Надо отдать должное телевизионщикам, они от критики в адрес Российской Империи или от нападок на ее потомков здесь бегут, как черт от ладана.
– Ага, – смеется Я.,– значит, ты симпатизируешь политкорректности?
– В статьях “черно-пантерного” крыла русскоязычной прессы утверждают, – продолжает Б., улыбнувшись, – что русофобией полны ивритские газеты. В русофобии этой, правда, не отличают практически евреев из Российской Империи от этнических русских, но газет я не читаю и подозреваю – это бойкие перья с двух сторон разогревают друг друга.
– А я, как до приезда сюда, так и после, не вижу в многокультурности и многоцветье никаких проблем, скорее наоборот, – Котеночек возвращает скользнувшую было в сторону беседу к ее первоначальной теме, и в голосе ее при желании можно услышать вызов.
Тут неловкость снова вернулась в Кнессет Зеленого Дивана. Котеночек своими словами и своим присутствием напомнила членам Кнессета об отсутствующем В. Он отсутствует не по болезни или по делам, он на сборах резервистов, дежурит на каком-то объекте на Голанских высотах. Еще неизвестно, стали бы они при нем обсуждать эту тему, чтобы ненароком не задеть его любимую бабушку Феодору Михайловну. Господи, думают они, что же за минное поле этот национальный вопрос? Ты от него убегаешь, а он находит тебя на другом берегу. Неужели, только сидя на унитазе в тесном сортире, упираясь плечами в стены и носом в дверь, может окончательно расслабиться человек, не опасаясь задеть другого? Видимо, так. Или уж снести и стены, и дверь и срать у всех на виду, – разошлась безудержно совесть Кнессета Зеленого Дивана? – Так лучше?
Хамсин терпимости накатывает на Кнессет. Они молчат. Как реализовать им свое желание жить в национальном комфорте, никого не задев?
Тут воспоминание посетило Я. – их было трое командировочных в номере гостиницы. Тогда еще, в Российской Империи. Однажды, когда он вошел в комнату после прогулки по городу, между двумя его соседями стояла бутылка вина и велась, как понял Я., беседа о евреях. Один из них сделал попытку включить Я. в разговор. Беседа, судя по тону, была доброжелательной. Я. сказал, что сейчас вернется, только заглянет в ванную комнату помыть руки. Когда он выходил из нее, он успел услышать обрывок фразы второго соседа, которому вино уже замедлило реакцию, и потому он не закончил фразу вовремя, до его, Я., появления в комнате.
– ...оставь, они не любят, когда говорят об этом.
Я. присел к ним, беседа шла уже на другие темы.
МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ
Самоотверженность идиотична, как поэт, защищающий грудью больного фюрера в его последнем убежище. Единственная человеческая жизнь поэта положена на чашу весов, потому что на чаше второй – его привычка принадлежать великому. Это великое было смыслом его личного бытия. Без этого руки его будут плясать, как руки фюрера, и ложка супа прольется на его пиджак, как пролилась она на лацкан костюма фюрера из его трясущихся рук. Поэт знает, что его самоотверженность – только наркотик, но без него обессмыслится жизнь. Потому через миг его светлые волосы развеются по бордюру, а солдатский сапог встанет ему на лицо. Не для того, чтобы его унизить, а потому, что так прямее идти вперед. Солдат знает, что мгновение под обстрелом важнее того, наступил ли он на открытый глаз. Потому что поэт мертв, а солдат еще нет. Либо он укроется за колонной и вытрет каблук, либо, может быть, упадет и забьется в обнимку с поэтом в предсмертной пляске. Этот выбор навязан ему высоким чувством поэта, которому не фюрер – бог, а идея величия воли – богиня. Ведь все люди умрут по списку судьбы. Важнее те саги, что останутся после них. Поэт не из тех, кто ел мясо и делал вид, что не знает, как именно убивают животных, назначенных человеку в пищу. Если вы не отказываетесь от мяса, вы обязаны убивать, убедил он себя однажды. Пишущий романы может вплетать сомнения в ткань своих перипетий. Поэзия не падает отрубленной головой в корзину, только пока у нее есть крылья, влекущие ее ввысь. Он хотел рефлексии, хотел заполнять полными строками тетрадь в клеточку от скрепки до белого поля и от красной черты полей до изгиба тетради, но он лежит теперь с одним вытекшим глазом, а глазом невредимым даже поэту трудно увидеть небо, если поэт мертв.
Писатель прожил жизнь в поиске, чужое великое не брало его под свой алый плащ. Он с искренним чувством и нежностью вписывал свою жидовскую морду в дворцовый ансамбль и в русский пейзаж, желая того, чтобы вписанность эту замечали лишь те, кто способен ее оценить. Он любил поэзию и жаждал цельности, но даже если сорвет свою голову, надев ее на шпиль Петропавловской крепости, не избегнет он мнения, что другие головы шпилю приличествуют больше его головы. Если среди колосьев русского поля мелькнет его зад, художник возьмет в руки кисть и добавит на картине колосьев. Он презирает величие и цельность, но упорно ищет эквивалентную им субстанцию. Иногда ему хочется сунуть палец себе в самую задницу и мазнуть им величие, чтобы наконец ощутить цельность. У него два глаза целы и оба печальны. Он не рассчитывает на выбор между поцелуем и розой. Если сравнить его с мертвым одноглазым поэтом, он выглядит несчастнее потому, что все еще жив и размышляет о том, что лучше – прыгнуть с высоких лесов на пол собора или заснуть на льду широкой реки. Никто не жалует ему облегчающий выстрел в затылок, время которого прошло и которого он не услышал бы.
Дутая многозначительность нагромождения слов не отменяет простоты уже сказанного. Небо светлее моря, бегущие по нему облака легче кораблей, чья внутренность должна быть легка, как облако, и ощутимо больше вытесненной кораблем воды, в свою очередь навалившейся на сушу ровно настолько, насколько корабль погружен в море. Сцилла и Харибда так же тверды духом, как три тысячелетья долой. Сцилле доктора запретили глотать моряков, оставив ей только рыбную пищу. В пасть Харибде, измученной поглощенной ею морской водой, швыряет Сцилла календари, подаренные ей ее страховым агентом.
Не попросить ли нам членов Кнессета Зеленого Дивана, уже обсуждавших однажды творчество писательницы Эльфриды Елинек, прокомментировать эту темную главу.
“Пожалуйста! – отзывается Кнессет. – Можно. Почему бы нет”.
N++; О ГЛАВЕ “МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ”
– Автор играет словами. Ему самому это нравится, вот и оставьте его в покое, – говорит Я. – А может быть, и еще кому-нибудь это покажется занимательным...
– Нет, нет, – возражает А., – текст полон глубокого смысла. Давайте разберем его слово за словом, строка, за строкой.
– Предложение за предложением, – поправила его Баронесса.
– Подъем за подъемом, – предложила Котеночек.
– Манерность за манерностью, – уколол Б.
– Да, – сказал В.
А. начинает.
– Автор сообщает миру о трагедии духа, выраженной в противопоставлении образов немецкого поэта-нациста...
– Шиллера своего времени, – вставляет Котеночек.
– ...захваченного идеей величия (в данном случае – его Родины), – продолжает А., – и рефлексирующего еврея-писателя, живущего то ли в Санкт-Петербурге и не имеющего дачи в Комарово, то ли в Москве и навещающего порой Переделкино.
– Ух, как здорово от Комарово отправиться компанией в ночной поход на лыжах через лес! – вдруг заявляет Б. – Лыжня накатана, тишина просто звенит под луной, деревья кажутся черными. Потом остановка на отдых, костер на снегу...
– Арава, вади, солнце, горный велосипед, пот ручьями... – отвечает ему Я.
– Желание поэта писать прозу элегантно передано автором как стремление писать от скрепки тетради до красной черты тетрадных полей. Такие детали очень оживляют текст, – говорит Котеночек.
– Я вижу в этой красной черте также символ кантовского нравственного императива, – утверждает Б.
– Но ведь поэт прав, – игнорирует А. иронию, заключенную в замечании Б., – если ты поэт и ешь мясо, ты не должен передоверять мяснику грязную работу убийцы животных. Это аморально. Аморальнее, чем убивать самому.
– Поэт мертв. Разобрались с ним, – подводит итог В. – А теперь – писатель.
– Худощавый еврей-писатель с грустным взглядом, чей хилый зад, мелькнувший где-то в Подмосковье, русский художник зарисовывает золотистыми пшеничными колосьями а ля Левитан. Какой сильный образ! – восклицает Котеночек.
– А почему ему так грустно? – спрашивает Баронесса сочувственно. – Суицидные мысли...
– Все дело в шпиле Петропавловской крепости, – отвечает Б., – писатель знаком с русской историей, с русской национальной амбицией и понимает, что на этот шпиль должна быть насажена или голова достойного России врага, не мельче Америки или Китая, или (что может быть достойнее!) своя собственная. Голова еврея с хилым задом – это насмешка, кузнечик, подцепленный острием шпаги.
– А мне его жалко, – говорит Баронесса. – Ну, пусть себе любуется шпилем Адмиралтейства.
– Или очаровательной покатостью брусчатки на Красной площади, – добавляет Б.
– Пусть, – соглашается В.
– Покончив с этими двумя, – объясняет Котеночек, – автор сначала взмывает в небеса мощным литературным аккордом, в котором слова мешаются с кораблями, и затем, сложив крылья, камнем летит в глубины греческой мифологии, завершая главу древнейшим символом опасного прохода, проходить через который приходится символу человечества – Одиссею-Блуму – между двумя ужасными скалами.
– А причем здесь календари и страховой агент? – спрашивает А.
– О! Это – постмодернизм. Это от Елинек, – отвечает Б.
Я. угрюмо молчит.








