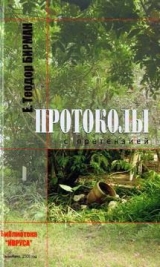
Текст книги "Протоколы с претензией"
Автор книги: Е. Теодор Бирман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц)
НЕБОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
В среду у Я. обнаруживается стоматит. Его рот будто забит осколками бритвенных лезвий. Стараясь меньше шевелить языком, со стиснутыми зубами он обращается к жене:
– Д-давай отменим следующее ж-аседание. Ты з-же знаешь, что подумают эти ослы. Нелитературное использование языка – это первое, что придет им в голову.
Она летает по комнатам. У нее масса хозяйственных хлопот. Я. повсюду уныло плетется за ней. Наконец она и вовсе исчезает в саду. Он находит ее на скамейке в беседке, давящейся от смеха.
– Ладно, ладно, – поехали в аптеку, – говорит Баронесса.
Когда они покупают лекарство, Я. кажется, что продавец понимающе улыбается Баронессе.
– Начитанные все, – злится Я.
Стоматит пройдет не раньше чем через три дня, выясняют они у аптекаря.
– Так ты позвонишь? – нудит Я. – Не говори, что со мной.
– Что ты, что ты, – успокаивает его Баронесса. – Я скажу, что у меня молочница.
Переваливаясь, мелкими шажками она движется к двери в сад, затем выпархивает и скрывается за кустом Авраама. Желтая диванная подушка, летящая ей вслед, приземляется на зеленой траве.
– Трава чуть пожелтела, – замечает Я. – Вечером полью, – решает он.
Заседание откладывается на неделю.
ПОДОЗРЕНИЯ БАРОНЕССЫ
Баронесса задумывается. Увлечение Елинек отличается от обычных его увлечений, которым она не придает большого значения. Он так необычно суетлив. Он, расшаркиваясь, предлагает ей место между Флобером и Чеховым. Он утверждает, что “Пианистка” – это “Мадам Бовари” 20-го века. Он восхищается удивительным узором слов и симфонией действия. И взглядом со стороны. Со стороны, но не из кресла Господа Бога, откуда взирают на мир литературные титаны, пока хозяин кресла спит.
Нет, она здесь же, в комнате, притаилась запятой или даже точкой на краю сдвинутого к двери серванта. Она следит, как танцуют парами мать и дочь, мамочка с дверью, дверь с сервантом и снова мать, но теперь – с телевизором. И лишь одинокой тоненькой балериной на цыпочках, в белом платьице, трогательной в своей щемящей беззащитности, выходит на сцену картонная коробка из-под обуви со своим содержимым – плетьми и жгутами для истязания плоти.
Учительница музыки так раздражающе нереальна, но жива, говорит он, что если успеть, когда она садится за рояль, выбить из-под нее эту вращающуюся попо-поддержку, она непременно грохнется на пол, цепляясь за инструмент. А если притаиться за ее спиной у раскрытого шкафа, видно, как жмутся в панике друг к другу платья, однажды побывавшие на ее плечах, как цепляются за свои вешалки, чтобы погибнуть, но не даться чужаку в руки.
Он сравнивает Елинек с киллером, притаившимся на чердаке и разглядывающим через оптический прицел случайных прохожих. Никто не уйдет от влепленной в затылок убийственной фразы. Желчь этих фраз зовет его к самоотверженности, утверждает он. Это как? Физиология у Елинек – лишь несущая волна, модулированная ее завораживающим видением мира, объясняет он. И ненависть ее – термоядерный взрыв любви. Достоверность невозможного соблазняет и манит его в этой книге, утверждает он.
Иногда, говорит Я., ему кажется, что это из его мозгов, как из бочки, выбита пробка, и это его слова, предварительно сдавленные, выплеснулись на экран, с которого он порой читает, или на страницы книги, разделенные случайной закладкой. Баронесса смотрит на него с опаской и удивлением. Не он ли рассмешил ее однажды, заявив что любит мужскую прозу и женское пение? Она осматривает сундук. Он цел, как цел и висящий на нем замок. Если его открыть, то можно убедиться, что и содержимое сундука невредимо. Стоит ли беспокоиться из-за теней? Из-за призраков, поселившихся в доме? Она умна и хорошо знает – не все в жизни можно направить по твердым маршрутам, как паровозик с вагончиками в игрушечной железной дороге.
Хотя стол в гостиной сдвинут к самой стене и место осталось только для спинок двух стоящих вплотную к ней кресел, Баронесса ощущает, что неожиданная соперница сидит именно там. Да, именно на одном из двух кресел у стены восседает странная гостья – высокая строгая австриячка с двумя косами вокруг надменной головы и наблюдает за ними – за ней, за ее мужем, за членами Кнессета. Баронесса, отворачиваясь от стола, инстинктивно защищает затылок ладонью.
Она решает еще раз прочесть “Пианистку”.
N++; СОСТОЯВШЕЕСЯ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЭЛЬФРИДЕ ЕЛИНЕК
Я. открывает заседание, цитируя едкие строки “Любовниц”.
– Это не колками подтягиваются струны гитары, – комментирует он,– это натягивается тетива боевого лука. Цели обозначены, стрелы отравлены, пленных не брать! “Любовницы” – прелюдия, увертюра творчества писательницы, здесь ее амазонка впервые сбрасывает навязанное мужчинами тряпье с рюшами и воланами. Она называет настоящими именами все части своего тела и не стесняется провозгласить их назначение. Ее книги – не дамская проза с идиллией женской раздевалки, где холмы и треугольники не прячутся друг от друга.
Б. согласен с Я. “Ах, Баронессе бы хоть часть подобной смелости”, – думает он.
– Это не манифест феминизма, – утверждает Я., – это литература амазонок. Феминистки – лишенные вкуса варвары женского пола, состоящие из локтей и колючей проволоки, они разрушают культурную ткань жизни, ткавшуюся тысячелетиями.
– И кто же такая амазонка? – допытывается Баронесса, улыбаясь мужским толкованиям женских идеологий и не желая мешать мужчинам разбираться в них, но пока не получает ответа.
Признавая достоинства “Любовниц”, Кнессет Литературного Созыва соглашается с решением Нобелевского комитета о присуждении Елинек премии за “Пианистку”. Кнессет недолюбливает Нобелевский комитет, не в такой степени, как Организацию Объединенных Наций, но недолюбливает. Кнессет предпочел бы сам раздавать Нобелевские премии, если бы нашелся подходящий источник финансирования.
Многоумный и оттого сухой А. предлагает поверить алгеброй великое произведение госпожи Е. Он предлагает интегральный показатель плотности текста.
– Берем наугад любые три страницы из разных мест и подсчитываем в них следующие параметры... – говорит он.
– Подсчитывать будут в Китае, так дешевле, – вмешивается Баронесса.
Я. отказывается подсчитывать афоризмы и метафоры. Метафоры бывают тупые, а афоризмы плоские, говорит он. Считать нужно красивые повороты речи, неожиданные применения терминов, свежие идеи, пружины сюжета, интенсивность эмоций.
– А благие порывы? – спрашивает Баронесса.
– Благие порывы не имеют отношения к искусству. За благими порывами идите в синагогу, в церковь, хоть к самому черту, – отрезает Я.
– И все это отнести к количеству слов на этих трех страницах, – развивает А. математическую теорию плотности текста.
– А кто будет определять, что красивости – это красивости, а пружины – пружины? – Баронесса, как всегда, возвращает высокие умы к скучным подробностям жизни.
Конечно, такая задача по плечу только Кнессету Мудрейшего Созыва, отвечает Кнессет.
Китайский счет возвращается неоплаченным, Кнессету и без него ясно – показатели романа зашкаливают, стрелка пробила корпус прибора, светящиеся цифры сначала показали все девятки, а затем и вообще ушли в минус.
ОТСТУПЛЕНИЕ. СОН Я.
Я. вспоминает свой вчерашний сон. Сон начался с телефонного звонка.
“Реклама, опрос, пожертвования“, – морщится во сне Я. Но как часто бывает и наяву, необъяснимая обязательность перед телефоном берет свое, и он поднимает трубку.
– Будете говорить с Веной, – звучит голос в трубке.
– Что за чушь, давно нет никаких телефонисток, – удивляется Я., не осознавая во сне, что и никаких знакомых у него нет в Вене.
– Госпожа Е. у телефона, говорите, – опровергает очевидное голос телефонистки.
– Здравствуйте, господин Я., – говорит усталый, но твердый голос.
– Здравствуйте, госпожа Е., – отвечает А., то есть Я., покрываясь холодным потом.
“Попался. Доболтался. Это иск, иск за вторжение в частную жизнь прославленных литературных произведений. На миллион долларов или евро”, – в ужасе соображает Я., мучительно вспоминая курс доллара и евро. Он мысленно распродает все свое с Баронессой имущество (перегоревшую правую лампочку ближнего света в машине менять уже не стоит) и все равно остается должен несколько сот тысяч долларов. Так долларов или евро, никак не сообразит он во сне.
– У меня не очень хороший английский (значит, мы говорим на английском, соображает Я.), пожалуйста, говорите не быстро, – тянет время Я. – И, если можно, с еврейским акцентом, так мне будет понятнее, – он очень хочет понравиться ей.
На другом конце что-то всхлипнуло. “Закрыла трубку рукой”, – соображает Я.
– Я обожаю вашу стилистику, госпожа Е., – льстит он.
Телефонная трубка молчит.
– But violence, I'm not sure I like it. Frankly, I don't like it at all, -
вспоминает Я., что говорить он должен по-английски.
Снова молчание.
– А вот сцену у зеркала, там, где рука пианистки бритвой проходится по причинному месту, я бы немного изменил,– Я. явно теряет чувство меры и снова переходит не то на иврит, не то на русский. – Вместо бритвы я вложил бы в руки героини иголку с ниткой.
Молчание. Пауза.
– Я умею делать аккуратный узелок на самом кончике нитки, – он, кажется, намерен присутствовать при этой сцене.
Хватит ли на это либерализма Баронессы, сомневается Я. Пожалуй, не хватит. Баронесса терпима к чужим чудачествам, но только до тех пор, пока они не коснутся ее самой, решает он. В подтверждение Баронесса поворачивается к нему во сне, он получает легкий пинок коленом, неудобное объятие и просыпается.
БАРОНЕССА, ФЕМИНИЗМ И ЖЕНЩИНЫ
Баронесса задумывается о сущности феминизма. Она подходит к вопросу с практической стороны. Вопрос первый: что она при этом теряет? Она отказывается от искусства водить за нос мужчин искренним восхищением ими. Она перестанет выкладывать мяч прямо на ногу нападающему и, невидимая, как греческая богиня, придерживать вратаря за трусы, а потом снова возникать восхищенной болельщицей на трибуне.
И взамен? Сидеть, например, в телевизоре с длинным лицом и терзать мужчин колючими вопросами. Не дожидаясь ответа, ровным голосом – снова вопрос. Подавить протест. И никакого удовольствия от того, что это насекомое стискивает сейчас кулаки под столом.
Феминизм, кажется, не для нее, сомневается Баронесса. Она в принципе любит, когда Я. пускается в рассуждения о женщинах. Комичность его абстракций служит ей чем-то вроде проверки собственной женской сбалансированности.
– Женщины подразделяются на два типа, – заявляет Я., – на тех, кто после мыльной оперы, набрав воздуха в легкие, говорит длинное “а-а-х”, идет на кухню, и думает уже о кипящем супе, и тех, кто тоже готовит суп, но продолжает думать о мыльной опере.
Баронесса не спрашивает, к какому типу она относится – во-первых, она это знает, во-вторых, она вообще возражает против того, чтобы служить примером в изложении какой бы то ни было философии. Я. украдкой бросает на нее взгляд. Он говорит ей (уже в открытую), что она удивительно хороша собой, когда внимает ему. Она не отвечает. “Ну, я не красотка, но я... симпатичная”, – к восторгу Я. однажды неосторожно заявила она. Они будут вместе покатываться от смеха, когда он в лицах изобразит ей эту ее скромность.
Тем временем Я. продолжает рассуждать.
– Соблазнить женщину второго типа мог бы даже этот кот, если бы захотел, – говорит он, указывая на кота, который в ответ поднялся с места, подошел к Я. и, вопросительно взглянув на него, мяукнул.
– Умница, – сказал Я. и взял кота на руки, – ты сумел бы соблазнить чувствительную, поэтичную женщину? – спросил он.
Кот, решив, что речь не идет о чем-то съедобном, потерял интерес к речам Я. и лизнул шерсть. Я. опустил его на пол, почесав за ухом.
Плечи Баронессы подрагивают от смеха, пока она нарезает овощи для салата, насладившись попутно маленьким облачком помидорного аромата, которое поднялось над кухонным мрамором, когда отстегнулся от помидорного пупка стебель, на котором созрел помидор. В это время Я. елозит шваброй наверху в спальнях. Смех Баронессы вызван быстрой рецензией Я. на вышедшую недавно в свет душеспасительную дамскую книжку с идейным кровосмешением и мазохистским человеколюбием (по его словам, естественно). В запальчивости он назвал ее мыльной оперой для баб, инфицированных повышенным интеллектом. Эта книга представляется ему кремом, взбитым из слез с соплями (его выражения). Он даже ввел понятие – “БД с IQ”. На вопрос Баронессы, что такое “БД”, он ответил с энтузиазмом – баба-дура.
Он, по-видимому, достиг цели, потому что Баронесса хоть и морщит нос, но смеется. Это их привычный способ общения – мысль, увеличенная и распятая в кривом зеркале, выглядит наряднее и забавней. Баронесса ведь так хороша и естественна в глазах Я., всегда в своем собственном стиле, который Я. определяет как либеральный декабризм. Сама она от всякого вранья увиливает, как кошка от теплой ванной с мыльной пеной. Потому развлекать ее фейерверками преувеличений – его первейший супружеский долг, считает Я. Книгу он не дочитал, сама же Баронесса прочла ее от начала до конца совершенно спокойно. И мыльные оперы она тоже смотрит порою, расслабляясь у телевизора и совмещая с обработкой ногтей. Она поясняет неразумному Я. в ответ на его недоуменные вопросы, что мыльные оперы созданы для женщин так же, как футбол для мужчин. Ведь в футболе не больше интеллектуальной изощренности, чем в мыльной опере, но футбол отвечает воинственным мужским потребностям, а мыльная опера отвечает женской потребности в чем-то мирном. В высказываниях Я. Баронесса ценит прежде всего форму. Для содержания у нее имеются собственные весы, более точные, чем те, которыми располагает Я. Его весы к тому же трудно успокоить, считает Баронесса, из-за эмоционального перекала в его характере. Она снисходительна к нему. В глубине души, уверена Баронесса, и он знает, что его небрежность к сути вещей – жертва форме. Вот и в “Пианистке” его увлечение литературной формой заслоняет счастливчику Я. крик женской трагедии и терзаемой плоти. Он эгоистично присваивает себе эстетику, пренебрегая неблизкой ему женской драмой, прочувствовать которую до конца ему не дано в силу его гендерного (полового) устройства.
Вообще же все эти раскованные пассажи на женскую тему она считает неуместными в компании. И эти рискованные шовинистские шуточки – только для них двоих.
Интересно, задает себе вопрос Я., почему ему так легко сходят с рук издевки по поводу женщин? Она настолько уверена в себе? Хорошо ли это?
Чувствительная книжка Баронессу не задела, отмечает Я. У пумы самой природой изъят ген смирения. Оттого, может быть, улыбается про себя Я., она не ищет противоядия в кореньях бунта.
И РЕЗЮМЕ БАРОНЕССЫ
– Так все-таки феминистка Елинек или нет? – спрашивает Я. жену.
Ее лицо становится серьезным. Этот вопрос заслуживает серьезности. Вычислительная машина ее интуиции безупречна. Она размышляет сейчас дольше, чем обычно. “Видимо, по второму разу просчитывает”, – думает Я.
– Нет, – наконец решительно объявляет Баронесса, – она – не феминистка, она – женщина.
– За Елинек, Женщину и Амазонку, – поднял бокал Я.
– За нашу Эльфриду, – добавил В. с оттенком фамильярности.
А.
Хотя женщины считали А. суховатым, были с ним вежливы и не более, именно они пытались разными способами сигналить ему о подстерегающей его опасности. Женские хитрости, которые она применяет, примитивны до тошноты, говорили они друг другу. Она, разговаривая, подходит к нему на четверть метра и смотрит прямо в глаза. Женщины, живущие по понятиям, по женским понятиям, смотрят в глаза только друг другу, говорили они. Но А. как будто шел навстречу неизбежному. В ней была упругость и обаяние зрелой женственности. Ее обращенная к нему улыбка не была ни смущенной, ни властной, в ней просто было понимание того, что должно было свершиться. И тому, что казалось ему предначертанным, он и не пытался противиться.
В браке она не подавляла и не помыкала им, как опасались его сотрудницы. Снисходительно улыбаясь, принимала она его неубывающую со временем тягу к ней. Он не подозревал ее в супружеской неверности, и, кажется, для этого действительно не было оснований. И уже среди женщин стало складываться мнение, что эта парочка нашла друг друга и что они, по-видимому, друг друга стоят. В это время и начался ее новый роман. Собственно, не она затеяла его. Значительный, разведенный Он, с седеющими бакенбардами стал отмечать ее на перекурах в коридоре. Она и не курила, она приходила туда немного развлечь себя разговором. А. хоть и высокий, но худой, к тому же младше ее, и до того казался в этой паре меньшей величиной. В сравнении же с ее новым частым собеседником совсем проигрывал. Было ясно, что этой вальяжной респектабельности ему и не достичь никогда и противопоставить ей – нечего. Теперь женщины мобилизовались было на спасение их брака. Считая седеющие бакенбарды более слабым звеном, они стали с ним сухи и официальны, они рассказывали друг другу, что он нарочно становится курить поближе к лестнице, чтобы заглядывать под юбки молоденьким женщинам. Их уловки не помогли.
Впервые увидел А. в ее глазах что-то похожее на слезу, когда она обернулась и взглянула на него, бледного и равнодушного, прежде чем закрыть за собой дверь навсегда.
Он даже где-то понимал ее. Эта система уравнений не содержала неопределенности. У нее были однозначные вычисляемые корни. “Математику обычно заказывают работу люди, имеющие дело с природными явлениями, чтобы придать законченную форму тому, что они знают заранее”, – сказал он однажды о своей профессии.
Начались смутные времена. Ее новый муж удачно вписался и в них. А. засобирался в Еврейское Государство, где по дошедшим слухам, даже уже и не слухам вовсе, маячила в лучшем случае неопределенность. Тогда он и совсем уверился в ее правоте, хотя никому не говорил об этом.
Он не испытывал горечи. В его жизни была любовь.
ПРОЗА И КАЛЬСОНЫ
Фабрика программирования вдруг надоедает Я. Им овладевает с детства знакомая ему жажда общения с чистым листом, на котором через два-три часа появится фотография настроения, сколок вечности. Его карьера непрофессионального программиста более или менее удалась. Почему бы не попробовать ему стать непрофессиональным автором опуса без особой идеи, может быть, и без особых достоинств, и с бессмысленной целью – бросить в океан бесконечности бутылку с запиской “И мы были”, пустить по ветру соринку, которая исчезнет из виду в потоке времени и судьбу которой знать не дано.
В программировании академический подход требует программирования сверху. Сначала общий план, затем разбивка на модули и т.д. Это всегда казалось Я. несусветной чушью. Выдумать из головы готовую сложную систему? Такая идея могла прийти в голову разве что Марселю Прусту. Высшее достижение Еврейского Государства, считал Я., – это царящий в нем бардак. Вот ведь, лучшие в мире планировщики, немцы, спланировали две войны, обе тут же сбились с первоначального плана. И уж точно, не планировали они поражений, которыми эти войны закончились. Программирование Я. начинал с маленьких кирпичиков, которые рано или поздно ему пригодятся. Затем прояснялись связи между ними. Кирпичики и их связи иногда приходили во сне ночью. Постепенно вырастал общий план, о котором он думал все время и который непрестанно корректировал.
Так строилось Еврейское Государство, он надеется, что оно останется непредсказуемым даже после того, как в нем наступит вечный мир. И так же он построит свою книгу, у которой нет ни темы, ни героев, нет вообще ничего. Для начала Я. назначает трех героев – X, Y, Z. Он раздает им по одной реплике. Но видимо, и X, и Y, и Z рождаются евреями, потому что все они тут же требуют слова и перебивают друг друга. Я. ничего не остается, как только с удивлением следить за этим неугомонным народом. Правда, возникающие в нем слова навалены, как чемоданы на тележке в аэропорту. Не все сразу, решает он. Главное, чтобы чемоданы прибыли по назначению. Косноязычие сойдет за стиль.
Однажды в детстве школьный приятель уговорил Я. пойти с ним в танцевальный кружок. Я. предстал перед учителем танцев. После короткого экзамена он был отпущен, а на лице учителя прочел то, что понял и без его холодной гримасы, – есть много признаков непригодности к искусству танцев, но у Я. в наличии – все. Он остался в танцзале ждать приятеля на стуле без сиденья, зато с торчащими гвоздями, которые должны были это сиденье удерживать. Когда они вернулись домой, и Я. переодевался в одежду “для улицы”, он обнаружил, что брюки сзади – в треугольниках надорванной ткани, а значит, сквозь прорехи светились его светло-синие кальсоны, пока он шел через весь город. Долгие годы происшествие в танцевальном кружке было для него скрываемым от всех символом его позора. Когда старшеклассником он попробовал написать рассказ и затем перечел его, он снова увидел в нем свои кальсоны, васильками проросшие на его штанах. Он зарекся от писания прозы, как от танцевального кружка.
Так что же случилось сейчас? Ах да, прожит кусок жизни. Он перечитывает написанное и, по крайней мере, не видит кальсон. Грезы о новом способе самовыражения, открывшемся ему, придают жизни новый вкус. Есть, видимо, какая-то связь между этими грезами и вопросом, который он задает Баронессе.
– Как стать сексапильным? – спрашивает он ее. Не дожидаясь ответа, на который он и так не рассчитывает, Я. декламирует перед зеркалом ее предполагаемый ответ: – Нужно поменьше есть, заняться спортом, убрать вот это, – якобы ее пальчиком показывает Я. туда, где не должно быть брюшка (глазами намеком показывает туда же). – Неплохо бы и вырасти, – добавляет он, глядя на себя в зеркало.
Улыбка с его лица переходит на лицо Баронессы. И он уже смотрит на нее с укоризной.
– Стерва, – объявляет он ей обиженно, пока она давится смехом.
– Я же молчала, – возражает смеющаяся невинность. Она из осторожности не добавляет на сей раз свою излюбленную сентенцию о том, что стерв больше любят.
– Искусство и женщины не приводят к комфорту души, – резюмирует Я.
Баронесса с ним охотно соглашается.








