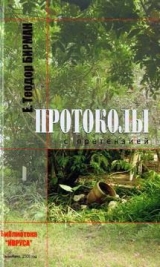
Текст книги "Протоколы с претензией"
Автор книги: Е. Теодор Бирман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Как, однако, разговорился А., обычно немногословный в Кнессете Зеленого Дивана! Если бы Я. или Б. услышали этот его монолог, они были бы очень удивлены вдруг открывшимся красноречием А. Хотя стоит ли удивляться: этот случай только демонстрирует известный факт, что всякому человеку нужен “свой” собеседник. То ли тут должна иметь место близость душ, то ли некоторая их комплементарность, то есть абсолютное несходство, обещающее, тем не менее, что обе части подойдут друг к другу, как вокзальное пластмассовое кресло с двумя углублениями в сиденье подходит к заду опустившегося в него не слишком тучного пассажира. А может быть, успел А. за то короткое время, что они покинули Еврейское Государство, соскучиться по матери и рад был пуститься в разговоры с пожилой женщиной и даже допустил в своей речи неуместный при данных обстоятельствах наставительный тон, обычный для него в разговорах с его любящей мамой.
Учительница музыки вылетает из-за поворота как выхлопное облако из венгерского автобуса. Австрия и Венгрия – сводные сестры, сестрица Венгрия размножила на просторах Восточного Блока свои машины для перевозки хомо сапиенс. Как и полагается отпрыскам Венгрии, падчерицы великой империи, ее детки-автобусы никак не связаны с музыкой, они пыхтят на улицах, принимая в свое лоно всех, кто не хочет остаться на остановке. В отличие от машин, на которых написано “Живая рыба”, на автобусах никогда не пишут “Живые люди”, ведь это и так понятно, в этом можно легко убедиться, взглянув на их сонные лица в окнах автобусов. В Еврейском Государстве такая надпись на автобусе и вовсе нелепость, Соседи не любят этого натюрлайфа. Хлоп, и живые люди уже частично полуживые, а частично – неживые вовсе. После хлопа на время воцаряется полная тишина, эту невзрачную до того площадь теперь вполне можно назвать Красной площадью. Красная густая жидкость в сочетании с черной копотью обгоревшего железа и плоти – это теперь уже классические тона городского натюрморта.
Агенты Б., В. и Котеночек не сразу последуют за учительницей. Они подождут, пока она съест приготовленный заботливой матерью ужин, переоденется, простирнет под краном ступни колготок. Приглядевшись, возможно, простирнет их целиком, а собственные свежевымытые ступни погрузит в мягкие домашние тапочки. Вот тогда они и возникают перед входной дверью, и В. жмет кнопку звонка.
На лице учительницы нотными знаками на пяти натянутых лесочках для ловли мелкой рыбы написано недоумение. Нежданные гости намеренно отодвигаются подальше от входной двери, на самый край лестничной площадки, чтобы подчеркнуть, что не собираются силой вламываться в квартиру, если ее хозяйка того не желает. Они же хотят с ней переговорить на очень серьезную тему, касающуюся ее преподавательской деятельности. Нет, они не из попечительского совета Венской консерватории, и их решительно не интересует ни ее моральный облик, ни даже ее сексуальные предпочтения. Впрочем, всем своим видом они показывают, что лестничная площадка – не очень подходящее место для беседы о сексуальных предпочтениях, моральном облике и даже о методах преподавания музыкального искусства. Учительница соглашается, она приглашает их пройти в квартиру и предлагает сесть. Садятся только двое, третий, с чуть округлым лицом, остается стоять у двери. Только теперь учительница понимает, что именно показалось ей странным в них с самого начала – на всех троих перчатки, и они явно не собираются их снимать. Более того, рафинированная вежливость покидает их лица и сменяется решимостью и даже надменностью.
– Нам многое известно о вас, госпожа К., – произносит сидящий мужчина, и в голосе его звучит, пожалуй, даже некоторая угроза, – очень многое. Ведь все мы прочли (и не по одному разу!) роман госпожи Е.
Пришельцы теперь разглядывают учительницу музыки с нескрываемым любопытством.
– Мы пришли к вам не для того, чтобы вы обучили нас исполнению этюда “Осень” в три члена, тем более что господин А., единственный из нас, кто способен дотянуться до черных клавиш, в настоящее время занят – он беседует с вашей матерью в совершенно другом месте, – добавляет сидящий джентльмен. – Но прежде чем продолжить разговор, мы хотели бы удостовериться в справедливости весьма высокого мнения госпожи Е. о вашем исполнительском искусстве. Например, не могли бы вы сыграть нам произведение чешского композитора Сметаны “Моя родина”, ноты у нас с собой, вам незачем беспокоить себя их поисками.
Мужчины слушают стоя и даже вполголоса подпевают на незнакомом языке (причем однажды пианистке послышалось знакомое слово Ерушалаим). Женщина продолжает сидеть молча. Гости выглядят теперь несколько растроганными, за исключением женщины (женщин вообще очень трудно растрогать – учительнице это хорошо известно). Теперь она играет им Брамса. По мере того как музыка заполняет до краев квартиру семьи К., что-то начинает меняться в лице старшего из мужчин. Он, видимо, и старший в этой странной компании, краем глаза замечает пианистка. Это обычное дело для нее – замечать краем глаза. Боковое зрение – мощное оружие женщин. Мужчину, который смотрит прямо, назовут быком, и в этом не будет порицания, скорее наоборот. Женщина, смотрящая прямо, для тонких игр не годится. А этот гость теперь выглядит молчаливым и задумчивым. Он внимательно смотрит на ее почти неподвижный, несмотря на игру, профиль, (она не считает, что настоящая музыка нуждается в картинных движениях музыканта), на ее руки (они-то и извлекают сейчас из домашнего инструмента пианистки послание композитора). Сквозь щель между дверью в ее комнату и косяком двери он уже разглядел угол серванта. Он тихо проходит в ее комнату, она скорее чувствует, чем слышит, как он открывает дверцу шкафа и рассматривает ее платья. Он возвращается с картонной коробкой из-под обуви и, осторожно сняв крышку, разглядывает ее содержимое. Собственно, ему пора раскрыть последний из конвертов, врученных ему Я. Ведь все предыдущие инструкции выполнены без сучка и задоринки (о самоуправстве Котеночка полковнику Б. ничего не известно). Он начинает догадываться о том, что ждет его в последнем послании, и не кажется удивленным, когда извлекает из конверта чистый лист. Подошедшие к нему Котеночек и В. выглядят озадаченными, но только на мгновение, они тоже быстро схватывают замысел Я. Действие развернуто, они выведены на сцену и теперь могут продолжать игру по своему вкусу. Брамса должна сменить импровизация Кнессета Зеленого Дивана. И вправду, было бы странно предполагать, что Я. использует их в качестве послушных солдат, выполняющих до победного конца свой нелепый долг. Им предлагается игра в бисер по Я.
Учительница музыки вовсе не выглядит испуганной. Нога волчонка застряла в капкане, но подошедшие охотники не достают острых ножей, не целятся из ружей, не вынимают прочных веревок, которыми они могли бы перевязать ему пасть, предварительно зажав в ней пластмассовую кость для туповатых собак, готовых часами возиться с куском несъедобной дряни. Не собираются ли они превратить волчонка в домашнего песика? Этот “старший”, чьи темные живые глаза выразительны и не холодны, теперь достает и разглядывает содержимое картонной коробки – жгуты, плети. Он держит в руках нейлоновую комбинацию, в которой ариец-байдарочник должен был сделать отверстие, подходящее к строению ее тела, но вместо этого он продырявил и избил ее саму.
Пианистка продолжает играть. Можно ли описать словами музыку? Музыку, которая нежным пением флейт легко уносит нас в небеса и грохотом литавр разбивает о землю, заставляет мечтать и проклинать, засыпать и просыпаться, навевает воспоминания грустные и трогательные, нашептывает непристойности в уши. Можно ли описать,
как она тихо
вступает и наполняет,
реет,
касается,
обволакивает, смущает,
кружится,
волнуется,
плачет,
не стесняется слез,
просит,
ласкает,
улыбается,
врет,
забывается, молчит...
вспоминает, возвращается, нарастает,
п
р
о
в
а
л
и
в
а
е
т
с
я,
возрождается, крадется, вламывается, буйствует, преступает,
ужасается,
задумывается,
переживает,
раскаивается,
снова лжет,
бродит в тихих аллеях,
прогуливается одна вдоль ручья,
смотрит на горные склоны,
взлетает на них,
нежно подгоняет дыханием редкие облака,
легкую молитву отпускает в светлое небо,
умиротворяется,
з
а
т
и
х
а
е
т, стелется,
умирает...
Вас не смутила фортепьянная трактовка? Вы узнали 3-ю симфонию Брамса? То место, перед самым концом. Нежная музыка. Волшебная. Примиряющая. Приманка для новичков. Брамс для чайников. Учительница музыки понимает, с кем имеет дело. И сыграла только Allegretto, ведь если бы она продолжила, то там дальше, в Allegro, есть волнующие моменты, под которые хорошо бить женщин.
Что? Вам это кажется невозможным? Вы говорите, там струнные инструменты, духовые, они предназначены музыку раскатывать, волочить и растягивать, вальцевать и прокатывать, а рояль работает методом импульсной подпитки, поэтому, объясняете вы, фортепианная музыка по природе своей цифровая, а струнная и духовая – аналоговая, и что написано для струнных на пианино отбарабанить толком нельзя. Очнитесь, в каком вы веке живете? Все аналоговое давно отквантизировано, упаковано в тельца информационных капсул, к каждой приделана головка с адресом и рецептом консервации и хвостик с проверочным кодом отдела технического контроля. И если музыка произведена и расфасована в Вене, одним из многих существующих технических средств доставлена в Тель-Авив, то там вы ее расконсервируете в соответствии с приложенным рецептом, сверитесь с контрольными цифрами в хвостике, и если все совпадает, станете наслаждаться музыкой Брамса, расслабившись на пляже и меланхолично читая рекламу, которую тянет за собой небольшой самолетик вдоль тель-авивской набережной. Конечно, какие-то совсем мелкие детали при этом теряются, но вам их и так не услышать, не понять, не почувствовать. Разве не вы утверждали, что вся классика была однажды написана одним первым композитором. Неким Первокомпозитором. А все последующие композиторы лишь производили всем известную операцию Copy-Paste, заполняя кое-как промежутки между ударами в барабаны и литавры и разнообразя одну и ту же музыку разными легендами о ней. Согласно одной – якобы журчит ручеек, другой – будто бы светит солнышко, а кому-то такое навеет, что навеянное нужно прятать от детей.
Мы настаиваем, группа агентов “Мосада” (и это наверняка подтвердит любая следственная комиссия) на квартире дам К. слушала именно фортепианную интерпретацию 3-й симфонии Брамса. Иначе чего бы они так размякли при выполнении задания? Предположение, что это был 1-й фортепьянный концерт – полная нелепость. Ведь там есть такие подстрекательские всплески, под которые человека и повесить недолго. Пианистка – кто угодно, но только не дура.
Первой оправилась от неожиданности Котеночек (женщины всегда первыми берут себя в руки). Стараниями пианисточки полковник совсем раскис, видит она. О музыкальном прошлом Б. она ничего не знает. Никаких побоев от Б. пианистка не дождется – это ей не ее белокурый засранец-ученик. (“Гой есть гой, – вдруг вспоминает она смешившие ее в детстве бабушкины уроки жизни, – всегда закончит побоями, сколько бы ни играл Брамса”). Клин клином вышибают, решает Котеночек. Почему бы и в самом деле не привезти Я. и его драгоценной Баронессе эту парочку? Пусть получит Баронесса и воспитательницу, и учительницу музыки. В доме Я. достаточно места, излагает она учительнице свое неожиданное предложение, но если мать и дочь К. захотят, они могут продолжать спать в одной постели, как привыкли.
– Баронесса, в общем-то, и не дочь Я., а его жена, вернее и дочь, и жена, – совсем расшалилась Котеночек, а в жестких глазах учительницы мелькнула искорка любопытства. Эти двое ведут пока две близкие, хоть и контрастные темы, анализирует пианистка, а чего ждет этот третий, с добродушным лицом, прислонившийся к косяку входной двери? Он должен в свое время ударить в литавры или вступить с пронзительным соло на саксофоне? В. в литавры не бьет и саксофона не достает из потайного футляра. Но он подходит к Котеночку и кладет ей на плечо руку в перчатке. В глазах его уже никакой доброты нет, а есть нечто другое, к чему внимательно присматривается учительница музыки. Она смотрит, В. говорит. Он говорит о том, что неплохо бы перейти к деталям, он нарушает субординацию, он говорит размякшему полковнику, что учительница, похоже, согласна в принципе. Б. с пианисткой могут пройти в соседнюю комнату и там без помех заняться оформлением договора, они же подождут их здесь и даже могут украсить их времяпрепровождение ненавязчивым музыкальным сопровождением.
План В. принимается. В случившемся далее, видимо, прежде всего, виноват Брамс, Иоганнес (1833 – 1897), но, пожалуй, и госпожа Е., и впечатлительный Я., может, отчасти и Баронесса. Через несколько минут скрип перьев в соседней комнате сменился, как показалось Котеночку, чем-то вроде постанываний. Видимо, ни одна женщина, будь она хоть пианистка, не устоит перед полковником разведки, решила Котеночек, особенно если он человек эмоциональный, тонко чувствующий музыку и женскую душу! Я., определенно, будет испытывать неловкость перед госпожой Е. за уже случившееся, но что-то происходит с В. Он теперь похож на танцора. Словно в пируэте, он взметает Котеночка, оттанцовывает с ней к семейному ложу госпож К., повисшую на его руке даму не удерживает и окончательно срывает танец падением на кровать. Он не только комкает танец, он мнет подушки и аккуратно застеленные покрывала. Он не только срывает танец, он срывает часть одежды Котеночка. И вот уже он выглядит заправским сапожником из романа госпожи Е., когда он прибивает набоечку на каблучок Котеночка, прибивает и отдирает, прибивает и отдирает, а другим каблучком сама Котеночек барабанит по тумбочке (музыка)!
Такого концерта не упомнит квартира уже много лет. Барабан-тумбочка грохочет, агенты “Мосада” стонут, дверь кокетливо льнет к серванту, телевизор странным образом то погаснет, то включится, в нем оправдывается мэр города, где вечер воспоминаний устроили ветераны СС. В запретном шкафчике звенят бутылки с яичным и кофейным ликерами, мэр не успевает слова сказать, в номере 777 гостиницы “...хоф” А. яростно торгуется с госпожой К., госпожа Е. пишет роман, сервант смущается.
Посреди этой бури В. наплевать, а Котеночку не заметить изумленного Б., возникшего в дверном проеме, и внимательного взгляда пианистки из-за его плеча. Шум отвлек их от демонстрации гардероба учительницы. Полковник уговорил ее показаться в своих одеждах. Он отворачивался к противоположной стене, пока она переодевалась, его непритворно восхищенные возгласы приняла Котеночек за стоны любви. Полковник отвел учительницу вглубь комнаты и тихонько прикрыл дверь. Впервые с довоенных времен жизнь в Вене закипела на время так, словно и не было Холокоста.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Когда Я. жалуется Баронессе, что госпожа Е. приходила к нему во сне и изрядно потрепала за ухо, Баронесса зовет его к окну.
– Смотри, – показывает она, – Б. уже давно приехал, но не выходит из машины. С таким лицом не слушают новости, тем более в Еврейском Государстве.
– Он слушает Брамса, – уверенно заявляет Я., – если бы он слушал Шумана, легкая рябь волнения и беспокойства пробегала бы по его лицу, а если бы это был Шуберт, тяжкие размышления исказили бы его черты и придали бы им несколько плаксивое выражение. Вчера он поведал мне, что без пробок добирается на работу за Maestoso и половину Adagio 1-го фортепьянного концерта, а если выехать в неудачное время, дорога займет две симфонии Брамса.
Баронесса смотрит на Я. с недоумением. Она еще не осведомлена о том, что две дамы К. именно в связи с ней строят свои планы на ближайшее будущее, эти планы сулят им близкое материальное благополучие.
И во время заседания Кнессета Б. остается задумчив, он теребит салфетку на стеклянном столике, встает и долго смотрит в сад и уж совсем вне всякой связи с обсуждаемой темой заявляет, что душу настоящей пианистки нельзя понять в рамках устоявшихся представлений о женской душе. Что же это за устоявшиеся представления о женской душе, заинтересованно спрашивает его Баронесса, и чем эта обычная женская душа отличается от души пианистки? Стараясь не ступать на зыбкую почву своих представлений об особенностях устройства обычной женской души, Б. пускается в объяснения насчет души пианистки. Ведь в поисках своей исполнительской неповторимости, объясняет Б., ей нужно много воображения и сил потратить на преображение однажды созданного, на новые аллегории, иллюзии, нюансы, так немногим удается подлинная революция в интерпретации произведений, чьи авторы – сами бессмертные гении. Эти поиски не могут не изменить ее душу, не заставить заложить эту самую душу дьяволу, для которого, как известно, нет ничего желаннее души пианистки. В общем, под внимательным взглядом Баронессы Б. запутался окончательно.
Озадаченная, было, Баронесса бросает взгляд на Я. Он стоит, прислонившись к лестнице, а на его лице несложно разглядеть победное цветение, он похож сейчас на доктора Ватсона, млеющего от комплиментов Шерлока Холмса. Она мгновенно вспоминает незадачливого кавалера, желавшего пригласить ее на танец тогда давным-давно в ресторане, и чувствует, что сейчас, как и тогда, не в силах сдержать накатывающийся на нее, непристойный при данных обстоятельствах, приступ смеха: так вот, в чем состояла цель поездки в Вену. Я. не стоит на месте, он продолжает импровизировать, мысль об охране своего главного достояния (то есть ее, Баронессы) не покидает его.
Она взлетает по лестнице, хлопает дверь в спальню. Я. очень жалеет, что не может последовать за ней, чтобы, несмотря на увертки, осторожно отнять у нее подушку, которой она заглушает звук, и в смеющихся глазах прочесть уведомление о причитающейся ему посылке, где уложены самые дорогие для всякого мужчины подарки – женское признание и женская признательность, которые, увы, тоже не вечны, и зарабатывать их вскоре снова придется, как поется в песенке, проливая градом пот, необходимость чего, объясняет все та же песенка, диктуется нам долгом перед семьей и собою.
– Все же, несмотря на внешнее радушие, это семейство обращено преимущественно внутрь самого себя, – думает Б., наблюдая за странным поведением Я. и Баронессы.
У В., похоже, возникли проблемы, он пришел один.
– А где же Котеночек? – наконец догадалась поинтересоваться у В. вернувшаяся уже Баронесса.
– Мы поссорились, – ответил В.
Баронесса взглянула на В. Во взгляде ее был вопрос.
– Ей недостает патриотизма, – отшутился тогда В.
Но потом у них вроде все снова наладилось, и через неделю они снова пришли вместе. Волосы Котеночка теперь имели цвет свежего апельсина. Может быть, поэтому компания рассуждала о женщинах. Когда речь дошла до дамских романов, Я. опять вспомнил эту злосчастную книгу, которую не так давно агрессивно рецензировал Баронессе. Книга разозлила его патокой всеобщей любви. Сколько не пропитывай этой патокой железнодорожные шпалы, говорит он, но если уложенные на них рельсы упираются в ворота с надписью “ARBEIT MACHT FREI”... Он рассказал присутствующим о документальном фильме про 48-й год, этот фильм он смотрел на прошлой неделе по каналу “История”. Солдаты, среди которых будущие известные генералы Еврейского Государства, засели в господствующем над местностью христианском монастыре. В какой-то момент становится ясно, что им не удержать позицию. Нужно уходить. Тяжелораненых унести невозможно. На милость нападающих рассчитывать нельзя. Они решают взорвать монастырь с находящимися в нем людьми, которых уже не спасти. Кто-то должен произвести сортировку раненых. Ее поручили, как оказалось, бойцу, который в Освенциме, где он содержался всего четыре года назад, видел, как производят селекцию. К счастью, нападающие сломались первыми, атаки на монастырь прекратились. Если этот зеленый диван стоит здесь, говорит Я., то я обязан этим “селектору” из Освенцима и тем, кто был с ним, и уж никак не герою менструального романа, который в это время упивается Благой Вестью из ладоней европейских монахинь.
– Я не прав? – оглядывается Я. на Баронессу. – Можно и не противопоставлять? Хочу и буду.
Я. нападает зачем-то на весь женский род, забыв, что перед ним не одна Баронесса, привычная отсеивать нарочитую агрессивность в изложении, когда он касается глубоко затрагивающих его проблем. А он уже тем временем порицает рабское начало, которое, по его словам, не редкость в женском характере, он вспоминает купринского героя, считавшего, что религию нужно сохранить исключительно для женщин. Уже совсем увлекшись, он принимается анализировать культурологический стереотип “баба-дура”. Он часто встречал его в недавно перечитанных им тургеневских “Записках охотника”. Автор, говорит Я., постоянно натыкается на живые воплощения данного стереотипа, бродяжничая с ружьем и сукой Милкой. В литературе современной это был бы, кстати, кобель Джек. Именно такое имя я дал в детстве щенку, подарено мне отцом. Щенок этот вырос и оказался сукой, так и жившей с мужским именем. Нет, он не литературный критик по совместительству, отвечает он на вопрос, заданный Котеночком. В ее интонации – вкрадчивость с продолжением. Тургенев писал, не адресуясь исключительно литературным критикам, добавляет он. Нет, если бы у него родилась дочь, он не назвал бы ее Джеком, отвечает он на следующий ею же заданный вопрос. Он продолжает. В мире современном, говорит он, традиционный тургеневский тип “бабы-дуры” сменяется новым типом, честь открытия которого, кажется, приписывает себе Я. “Баба-дура с интеллектом”, разглагольствует он, является продуктом полураспада женского рабства, противником которого декларирует себя Я. Для мужчины умного и злонамеренного, говорит он, тут открывается широчайшее поле деятельности. Вот недавно в одной европейской стране разразился скандал с африканским журналистом, заразившим нескольких женщин СПИДОМ. Он соблазнял их на вечерах поэзии, а когда они просили надеть презерватив, спрашивал, не расистки ли они. Конечно, на его месте мог быть и европеец, но Я. этот пример привел для иллюстрации понятия “БД с IQ” как этапа в эволюции культурологических стереотипов.
Баронесса сначала нерешительно улыбается, но постепенно улыбка ее тает. Ее чуть сузившиеся глаза сигналят Я., они призывают взглянуть на Котеночка.
– Вы, должно быть, очень счастливый человек, не каждый способен так радовать близких своим оригинальным видением мира, – выпаливает Котеночек, обращаясь к Я.
Наступает молчание. Я. и Баронессе, положим, не впервой слышать о том, что уж больно они слаженны. Словно пара в фигурном катании – то Я. завертит Баронессу на льду, то она катит к нему, не глядя, ласточкой, уверенная, что на него непременно наткнется. Но обычно это говорили люди постарше с добродушной иронией. Я. очнулся и теперь пытается сгладить дурное впечатление, произведенное его речами на Котеночка. Он готовит разъяснения, но время упущено, и Котеночек выглядит задетой. Она, кажется, решилась на какую-то выходку.
– Вы просто чудо, – говорит она Я. – Бедной женщине, влюбленной в мужской интеллект, так и хочется маленькой девочкой присесть к вам на колени и внимать, внимать...
Котеночек готовится встать с дивана. Баронесса, Б. и В. следят за этой перепалкой с некоторым напряжением. Непредсказуемость Котеночка, особенно в общественных местах, внушает опасения тем, кто с ней достаточно знаком. Слава богу, думает В., у нее хватает осторожности не играть в эти игры с Востоком. Я. изображает крайний испуг.
Котеночек удовлетворяется достигнутым. Она откидывается на спинку дивана, а Я., не оставляя полушутливого тона, пытается все же что-то доказать Котеночку. Он утверждает, что далек от мужского шовинизма, пытаясь одновременно произвести что-то вроде внутренней проверки, выясняя, не врет ли он именно сейчас. Он за то, чтобы не слишком насиловать природу, как это удавалось в архитектуре древним грекам, вписывавшим в ландшафт свои замечательные храмы. Кроме того, поясняет Я. с похожей на извинение улыбкой, он, видимо, вступил в жизненную фазу, когда оппозиция оголтелому либерализму кажется ему точкой его внутреннего равновесия. Но если уж выбирать, то учительница музыки, потерявшаяся на перекрестьях женских дорог, ему роднее и ближе толстовской княжны Марьи, усыпает свою речь Я. литературными примерами, словно лепестками бугенвиллей, которыми осыпана трава в его с Баронессой саду.
Такое изложение кажется Я., пока он говорит, логичным, но в душе у него осаждается легкая горечь потому, что ему, кажется, приходится разжевывать Котеночку то, что Баронесса понимает с полуслова. Мазки, которые он кладет на холст, она видит именно так, как он их задумал и чувствует. По крайней мере, так ему кажется.
Он, извинившись, уходит в туалетную комнату, но там, прежде всего, опасливо присматривается к себе в серебристом овале зеркала: не заболел ли он той болезнью, которую так чудно определил Набоков как способность согнуть глупейшую из грез в логическую дугу. Ведь в данном случае речь идет не просто о грезах, а о нежно лелеемых Я. грезах гармонии.
Вернувшись в салон, он поймал взгляд Баронессы. Она смотрит на него если не с упреком, то с предложением думать не только о словах, которые он произносит, но и о том пространстве, в котором они звучат. Ему не нужно прилагать усилий, чтобы догадаться, что она хочет сказать ему: так же как Б. понапрасну обижает не проникшееся сионо-сионизмом еврейство, так Я. способен неуместными высказываниями обижать женщин. Я. тоже не нужно сотрясать воздух, чтобы ответить ей по беспроволочному телеграфу их семейной притертости: “Да, получилось глупо”.
Выйдя в сад и наткнувшись там на Котеночка, дымящую сигаретой, Я. чуть виновато излагает “сложной девушке” свою философию.
– Женская свобода – тонкий канат над пропастью. Нужна чудовищная интуиция, чтобы идти по нему. Но идти нужно, – говорит с убеждением в голосе Я., самозваный тренер женского канатоходства. – Умные и от природы невредные женщины умеют тонко использовать данность и выстраивать жизнь, не жертвуя ни свободой, ни женственностью.
– Видимо, я не так умна, – отзывается Котеночек вполне серьезно.
– Будет тебе, – отвечает Я. с максимальной искренностью, которую он способен отразить на своем лице, – налить тебе чего-нибудь?
– Виски со льдом, – ответила “сложная девушка”.
Протягивая Котеночку стакан виски с позванивающим в нем льдом, Я. продолжает “женскую” тему. Пока он наливал виски в стакан, доставал из холодильника пластмассовую форму, выковыривал из нее ледяные шарики, он вспомнил и, кажется, что-то новое извлек для себя из того тридцатилетней давности эпизода со студентом, лодкой и девушкой. Он никогда не рассказывал о нем Баронессе, а теперь вот изложил Котеночку, будто со стоном поправляя на своих плечах груз вины за то, что он не вмешался тогда. Не выношу насилия над женщиной, виновато улыбается Я., стараясь смягчить патетику этой фразы. Но может быть, именно поэтому, не хочу в женщине рабства. В том числе религиозного. Не люблю возведения ею в святые мужчины, отказавшегося брать в руки топор. От женщины, с рождения не знавшей принуждения и рабства, рождается мужчина, которому можно доверить топор, говорит Я. “сложной девушке”. Такой подход для нее приемлем.
– Знаешь, – Я. не упускает случая, подобно миссионеру, продвигать свое увлечение литературным стилем госпожи Е., – женский мир у Елинек, вылепленный не из мужского ребра и не богом, и не мужчиной, а самой женщиной, как будто предстает в ее книгах, заманчивый и непостижимый, будто кто-то поднес гигантское зеркало к обратной стороне луны. Поднес и сразу убрал. Мне кажется, многие женщины ее свободы боятся панически.
– А вы бы не боялись, если бы вас голым стали показывать по телевизору под разными углами с разных точек, в том числе с “обратной стороны”?
Я. передернуло, он рассмеялся. Котеночек потушила сигарету, и они вернулись в дом.
– И что же, ваша жена умеет ходить по этому канату для женщин? – успела тихо спросить Котеночек, пока они не расселись снова на зеленом диване.
Я. рассмеялся.
– Ей повезло. Она родилась пумой.
Котеночек словно вспоминает забытый карточный фокус, она требует внимания и, само собой, получает его.
– При чем здесь вообще женщины? – спрашивает она, не ожидая ответа. – А вы слышали о неком профессоре из ГДР? Недавно его вспоминали. Как же его зовут? Не помню. В Первую мировую войну он воевал в немецкой армии, был награжден за храбрость. Еврей, он был женат на немке и считал себя немцем. Он, как и его жена, перенес все унижения, которые выпали ему при нацизме. Его выселили из дома, в котором он жил, его жену называли публично жидовской сукой. Но он оставался непреклонен – он считал себя немцем. По каким-то там законам рейха он остался в живых, он всего-то отсидел в кутузке неделю или две, когда не выполнил предписания властей относительно светомаскировки. Он остался жить в ГДР. Преподавал что-то в университете до конца жизни и остался в своем сознании немцем. А рассказавший об этом журналист! Он выглядел смущенным. Что-то его в этой истории завораживало. Почему вдруг он нам это все вывалил?








