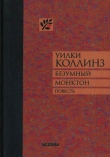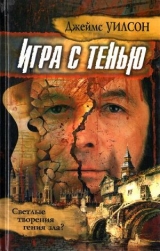
Текст книги "Игра с тенью"
Автор книги: Джеймс Уилсон
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Она покачала головой, но сквозь белую маску на ее лице было заметно удовольствие.
– Это уже конец моей карьеры. Вот моя миссис Мэндибл в тысяча восемьсот десятом – это было что-то. Или Люси Лавлорн в «За один день». Мисден этот спектакль видел тридцать девять раз.
– Правда?
Она снова кивнула.
– Он слал мне записки каждый вечер; а в конце концов пришел за кулисы и сказал: «Ничего не поделаешь, миссис Драйвер, вы похитили мое сердце. А если вы мне его вернете, я выйду на улицу и предложу его первой попавшейся женщине, вот увидите – если я не смогу заполучить вас, то мне все равно, что со мной будет».
В толпе вокруг нас снова началось шевеление, но леди Мисден опять не обратила на это внимания. Она расхохоталась и продолжила:
– Мне оставалось только выйти за паршивца! Я рассмеялась.
– А что с Тернером? – спросила я немного неуклюже, так как не могла придумать другого способа вернуть разговор к первоначальной теме. – Он тоже был вашим поклонником?
Прямого ответа она не дала, оперлась подбородком на руку и на секунду уставилась в пол, словно эта идея ее удивила. Наконец она сказала:
– Он был человек хитрый и скрытный, мисс… мисс…
– Халкомб.
– Мисс Халкомб. Он чувствовал обиды острее любого из мужчин, которых я встречала, и поэтому изо всех сил старался избегать публичного унижения. Мало кто из нас что-то знал о его личных делах, только то, что он жил с отцом и имел сумасшедшую экономку. Ходили, конечно, слухи о женщине, но… – Она помедлила и покачала головой.
– Актриса? – сказала я нервно.
– Симпатичная вдовушка, как говорят. Родила ему пару ублюдков. Но это так, разговоры, точно не известно.
Джентльмен у меня за плечом, о присутствии которого я догадывалась по сильному запаху сигарного дыма, шумно откашлялся и удалился; я, должно быть, тоже выглядела растерянно, потому что леди Мисден сказала:
– Господи, женщина, а что в этом такого? Мужчинам не положено быть одним, да и женщинам тоже. – Она внезапно уставилась на меня своими глазками-буравчиками, смутив еще больше. – Лучше одна теплая постель, чем две холодных.
Очень глупо было смущаться, но я все же смутилась и, испугавшись услышать дальнейшие признания (или, если честно, я не хотела, чтоб меня видели здесь слушающей их), двинулась в сторону Уолтера со словами:
– Знаете, мой брат пишет биографию Тернера.
Теперь я жалею, что так сделала: если бы не застенчивость, я бы узнала больше.
– Не зовите мужчин, – сказала леди Мисден жалобным тоном. – Они теперь такие зануды, будто все юристы да школьные учителя.
Я задержалась, но было уже слишком поздно. Я услышала, как Уолтер говорит «Мою дочь тоже зовут Флоренс», будто все темы разговора, кроме имен детей, уже были исчерпаны, а потом он посмотрел на меня умоляющим взглядом, который растопил бы айсберг, так что отступить было невозможно.
– Я начинаю думать, что надо было назвать их Венециями, – сказал мистер Кингсетт, издал гогочущий смешок и махнул рукой в сторону «Моста Вздохов».
Уолтер шагнул поближе ко мне, и на лице его было ясно написано то, чего он не мог произнести вслух: «На помощь!»
– Ты знаешь, Уолтер, – сказала я, – леди Мисден была дружна с Тернером.
– Неужели? – сказал он, направляясь к ней. – Как интересно!
Но мистер Кингсетт с неожиданной ловкостью поспел прежде него, а через мгновение, словно получив какой-то сигнал (хотя я ничего не видела), к нему присоединилась жена со словами:
– Ну же, мама, не стоит задерживать мисс Халкомб и мистера Хартрайта. Если мы не уйдем сейчас, то просидим здесь всю ночь и завтра полдня.
На мгновение меня охватила ярость, но потом я вспомнила свою собственную реакцию на старуху и невольно подумала о том, что, если бы это была моя мать и я услышала бы, как неблагоразумно она беседует с посторонними, я бы повела себя так же.
Когда я уже попрощалась со всеми, а Уолтер вежливо обсуждал с леди Истлейк свои исследования, я вдруг придумала – как моряк, который успевает схватить только одно сокровище с тонущего корабля, – последний вопрос для леди Мисден. Наклонившись, я спросила:
– Какая картина здесь больше всего напоминает вам Тернера как человека?
Не колеблясь ни секунды, она ответила:
– «Пристань Кале».
Когда они ушли, мы с Уолтером отыскали эту картину. Это морской пейзаж, где мраморно-серое море кипит и волнуется под штормовым небом. Справа выступает к горизонту потрепанная деревянная пристань, усеянная беспорядочными кучками людей. Видны силуэты двух далеких кораблей, а из щели в тучах на воду падает росчерк солнечного света. Ближе к зрителю, в центре картины, – хаотическое скопление лодок, направляющихся в гавань и стремящихся выйти из нее. В ближайшей лодке гребец с одним веслом отчаянно старается, чтобы его не ударило о столбы, а человек на корме не помогает, а сердито машет бутылкой коньяка в сторону своей жены на пристани. Только приближающийся английский пакетбот с широко развернутыми парусами кажется надежным и управляемым.
Этот грубоватый патриотизм – толпе пьяных, трусливых неорганизованных французов показывают пример английские моряки – отражается и в названии: «Пристань Кале, французские пуассары отправляются в море, прибывает английский пакетбот»; если верить моему словарю, «пуассар» означает вовсе не «рыбак», как можно было бы предположить, а «грубиян».
Мы стояли перед этой картиной минут пятнадцать, и с тех пор я вспоминаю ее каждый час; несложно представить, как автор этой лихой и насмешливой патриотической сатиры цитирует Тома Дибдина, но я не могла заметить ни малейших следов того, что тот же художник написал «Улисса, смеющегося над Полифемом».
XIV
Полковник Джордж Уиндхэм – Уолтеру Хартрайту
Петуорт
29 августа 185…
Уважаемый сэр!
Я получил Ваше письмо от 17 августа и буду рад Вас видеть, как только Вы окажетесь поблизости от Петуорта. Боюсь, однако, что Ваше время будет потрачено зря, потому что я мало что могу рассказать о Тернере и его делах с моим отцом.
Искренне Ваш
Джордж: Уиндхэм
XV
Уолтер Хартрайт – Лоре Хартрайт
Бромптон-гроув
19 сентября 185…
Вторник
Дорогая моя!
Ты, наверное, уже начала обо мне беспокоиться, так долго я не писал. Меня трясло в каретах и вагонах поезда, дважды я даже чуть не выпал из экипажа, а в то единственное утро, когда я надеялся найти время для письма, мне пришлось выехать спросонья, и у меня не нашлось даже получаса свободных. Но сейчас наконец я дома, и все мои неприятности – это пара синяков да потрепанные от меловых камней ботинки.
Новая железная дорога до Брайтона – настоящее чудо скорости и удобства (и ты это увидишь сама: я решил, что, когда ты вернешься, мы удивим детей, свозив их на море и обратно за один день), но именно поэтому она меня угнетала. Каждая новая миля все дальше уводила меня не только от Лондона, но и от Тернера, ведь его поездка с Майклом Гадженом много лет назад наверняка была совсем иной – им приходилось трястись от одного постоялого двора до другого по пыльным дорогам, под стук копыт и скрип колес, а пар шел только от лошадиных боков. Едва я почувствовал, что приблизился к нему, разглядев его невероятные картины в Мальборо-хаусе, я снова потерял его из виду в дыму и суете современного мира.
Но когда мы прибыли, мое настроение улучшилось. Я нанял на станции экипаж, и через десять минут мы уже ехали мимо широких веселых фасадов крытых белой штукатуркой пансионов, которые, должно быть, стояли тут еще при Тернере. Прошло еще десять минут, и мы начали спускаться в долины, которые вряд ли особенно изменились с тех пор, как их увидел Цезарь, а то и за тысячелетие до него. Вокруг раскинулся бегущий волнами, шелестящий океан травы, а когда я посмотрел назад, то увидел вдали становившуюся все шире серебристую ленту моря.
Проехав мили три, у въезда в деревеньку мы свернули влево по узкой аллее, заросшей кустами ежевики. Скоро она превратилась в тележную колею, и именно здесь чуть не случилось первое несчастье; возница на секунду отвлекся, а лошадь спокойно тронулась дальше по ухабам, споткнулась и, резко свернув направо, столкнула одно из колес в глубокую выбоину с таким грохотом, что чуть не перевернула экипаж. Вознице пришлось растянуться на козлах, чтобы его не сбросило. Экипаж остановился.
– Простите, сэр, – сказал возница. – Дальше нам не проехать. Еще один такой удар, и потребуется новая ось.
– Отсюда далеко? – спросил я.
– Меньше полумили, – ответил он, указав на дымок из трубы прямо за следующим пригорком.
Я заплатил ему, поднял чемодан и пустился в путь пешком, осторожно обходя корни. Ветер нежно погладил мне лицо, и на мгновение все, что связывало меня с беспокойным миром, отступило вслед за отъезжающим экипажем, а мне остался лишь звук собственных шагов да крик ласточек, призывавших взяться за великое дело или напоминавших о великом горе, которое я почему-то позабыл в суете повседневности.
Выйдя на пригорок, я увидел перед собой небольшую ферму с грязным двором и двумя рядами ветхих сельскохозяйственных построек по бокам. С третьей стороны между ними стоял длинный низкий дом из беленого камня, защищенный сзади рядом деревьев. Это было так не похоже на уютный коттедж, которого я ждал, что я сразу решил, будто возница ошибся. Пока я шел к воротам, я успел убедить себя, что мне придется вернуться в деревню или даже в Брайтон и начать путь снова.
Тощий черно-белый пес при виде меня вскочил на ноги и яростно залаял, дергая свою цепь, будто это была детская игрушка, и пугая бродивших по двору кур. Через мгновение из сарая вышла румяная женщина лет шестидесяти пяти с закатанными до локтя рукавами и направилась ко мне. У нее была неестественно широкая походка комической вдовушки из пантомимы, и я сначала решил, что она пьяна, но потом заметил у нее на ногах деревянные сабо, позволяющие ей не утопать в грязи.
– Доброе утро! – крикнул я. – Я ищу мистера Гаджена.
Должно быть, лай и писк заглушили мои слова, поскольку она нахмурилась, покачала головой, а потом разогнала кур и стала успокаивать собаку. Она приложила ладонь к уху и приподняла брови, жестами давая понять, что не расслышала.
– Мистер Гаджен здесь живет? – повторил я.
– Вы мистер Хартрайт? – спросила она мягким сассекским говорком и, когда я кивнул, протянула мне руку и сказала: – Я Элис Гаджен.
– Очень приятно, – сказал я.
– Он у себя в кабинете. Ничего, если я вас с черного хода проведу?
Она провела меня по двору в теплую кухню, полную пара, аромата вареной свинины и сладкого дымного запаха мяса, которое жарилось на вертеле. Низкие балки потолка, черная плита, заставленная горшками, охотничья добыча – связка подстреленных зайцев, видневшаяся сквозь полуоткрытую дверь кладовой – все говорило о том, что это дом зажиточного фермера. Только стол выбивался из общей картины: из-под старой скатерти были видны изящные ножки красного дерева, говорившие о том, что он когда-то украшал гостиную, но попал в затруднительные обстоятельства.
Мы вошли в прохладный вестибюль, вымощенный отполированными каменными плитами, и миссис Гаджен остановилась.
– Оставьте саквояж здесь, – сказала она, указав на подножие лестницы, – а потом мы вам покажем вашу комнату.
Она говорила медленно и громко, поглядывая на дверь напротив, и это заставило меня предположить, что слова предназначались не только для меня, но и для ее мужа. Предупредив его таким образом о моем появлении, она несколько мгновений повозилась, устраивая мой чемодан, после чего выпрямилась и, уперев руки в боки, сказала:
– Ну вот, теперь никто об него голову не сломает.
Потом она без стука открыла дверь.
Прежде всего я заметил множество бумаг. Отдельные листы и грубые пачки, связанные ленточками, старые записные книжки, сложенные неустойчивыми стопками так, что они вот-вот готовы были рухнуть, покрывали почти всю поверхность пола и мебели. В воздухе пахло плесенью и старой кожей, а пыли было столько, что видно было, как она висит перед окном, будто муслиновая занавеска. Я подумал, что передо мной зрелище доселе невиданное: комната, где беспорядка больше, чем у леди Истлейк в будуаре.
Но это впечатление немедленно рассеялось, когда я повернулся к самому Гаджену. Он был невысок и щеголеват, глаза у него были светло-карие, а седые волосы он зачесывал назад со лба. Белоснежный галстук (такой же белый и пышный, как лебединая грудь) и хорошо скроенный коричневый шерстяной сюртук придавали ему безупречно аккуратный вид. Он подошел поздороваться, осторожно пробираясь между кипами бумаг, словно генерал, который старается не потревожить расположение войск.
– Мистер Хартрайт? – сказал он, поглядев на жену. Она кивнула, и он протянул мне левую руку: – Как любезно, что вы приехали, сэр.
– Да нет, это с вашей стороны любезно… – начал я, удивленный его тоном, но он остановил меня, качая головой.
– Вы просто ангел, – сказал он, – посланный небом, чтобы спасти меня. – Он взмахнул рукой, будто сеятель, рассыпающий семена. – Вы видите, что тут творится.
Он грустно покачал головой, и на губах его появилась печальная усмешка, которая придала мне храбрости спросить:
– А что это такое?
– Плоды сорокалетних трудов, – сказал он. – И мне потребуется еще сорок лет, чтобы их систематизировать, если я не поспешу.
Я посмотрел на ближайшую стопку. Она была перевязана шнурком, а под узел кто-то (очевидно, сам Гаджен или его жена) подсунул карточку, помеченную буквой «альфа» и цифрой 7. Над этой пометой была слабая карандашная надпись: «Гл. 1? Гл. 3? Гл. 4?»
– Вы собираетесь писать книгу? – спросил я.
Тут его жена, все еще стоявшая в двери и наблюдавшая за ним ласковым и снисходительном взглядом живых глаз, рассмеялась; он сердито глянул на нее, но не удержался и тоже начал смеяться над собой.
– Когда я был моложе, мистер Хартрайт, – сказал он, – меня избрали членом Бифштекс-клуба в Брайтоне; там на ежемесячных обедах председатель мог по своему усмотрению потребовать сочинить мгновенную эпитафию себе или другому члену. И Джек Марвелл из Королевского театра, большой шутник, сочинил про меня вот что:
Внемли, прохожий! Здесь лежит хороший человек,
Не совершивший ничего за свой достойный век
Дурного. Книгу написать, и то не смог добряк.
Он только планы составлял, а дальше ни на шаг.
Он ежедневно приступал и снова начинал,
Он все пытался, а потом Господь его прибрал.
Он в жизни книги не создал, свои закончил дни.
Чтобы в Книгу жизни он попал, колена преклони.[4]4
Перевод В. Синельникова.
[Закрыть]
Когда он закончил, в глазах у него были слезы. Я не мог понять, от смеха это, от воспоминаний о друзьях или просто от меланхолии, которую у всех нас вызывает мысль о собственной смерти. Наконец он снова усмехнулся и сказал:
– Но в следующем месяце я взял свое. Председатель потребовал, чтобы я сочинил эпитафию Марвеллу, а я сказал: «Я ее пока еще планирую», и за остроумие меня освободили от обязанностей.
Я рассмеялся и, оглядевшись, сказал:
– Мне кажется, вас оклеветали – здесь материала на полдюжины книг.
«– Материал! – воскликнул он. – Материал! Но что из него сделать, вот в чем вопрос. Вот тут могилы, – он указал на одну стопку, – тут римские укрепления, – на другую, – и бедренная кость гиганта, и камни друидов, и тысяча других редкостей. Всего этого хватит на достойный путеводитель по природным достопримечательностям и древностям графства Сассекс, для которого я их и собирал. – Он сделал паузу, возможно, потому что вспомнил вдруг причину моего визита, и продолжил: – С этой целью я вообще-то и отправился путешествовать с Тернером – я надеялся, что он сделает для меня гравюры.
– А он отказался? – спросил я.
– Прямо я его не спрашивал, но он, похоже, разгадал мои намерения, потому что прямо мне сказал, что все рисунки предназначены для издателя, который планировал собственную книгу. Потом я слышал, что с этим планом ничего не вышло, и можно было бы снова к нему обратиться, но я решил, что сам недостаточно продвинулся. – Он покачал головой, внезапно преисполнившись раздражения. – Как ни пытаюсь, не могу найти способ систематизировать собранное. Как только я что-то придумаю, черт возьми, появляется нечто новое, и все опять переворачивается с ног на голову! – Он делал размашистые жесты, как дирижер оркестра. – Если я распределю материал географически, придется сваливать вместе храмы Дианы, средневековые монеты и орудийные батареи времен последней войны; если в хронологическом порядке, то и у меня, и у читателя кругом пойдет голова, так мы будем метаться из одного конца графства в другой и обратно, и все за один день. – Он покачал головой. – В конце концов это сведет меня с ума.
– Может, я помогу вам? – спросил я, сочувствуя бедняге и искренне желая освободить его из сети, в которой он запутался. – У меня есть некоторый опыт, да и в «Жизни Тернера» передо мной встают похожие проблемы.
– Благослови вас Бог! – сказал Гаджен. – Очень любезное предложение, но видит Бог, нельзя же тратить на это еще и вашу жизнь, вслед за моей. Кроме того, – он улыбнулся жене, а она покраснела и улыбнулась в ответ, словно у них был какой-то секретный договор, – жена рассчитывает, что вы меня хотя бы ненадолго вернете в разумное состояние, уведя от всего этого безобразия. – Он дотронулся до моего плеча: – Пойдемте в музей. Клянусь, там я буду говорить только о Тернере.
Он настоял, чтобы я снова надел сюртук и взял у него шарф, а сам облачился в старый редингот и захватил пастуший посох – можно было подумать, что до музея идти целый день, да еще и в гору. Но на деле оказалось, что музей располагался в углу двора, в старом сарае для скота между домом и конюшней, из которой, пока Гаджен возился с засовом, за нами наблюдал, тряся головой и нетерпеливо вздрагивая, коричневый пони с лохматой белой гривой. В комнате (если это можно назвать комнатой) было холодно и влажно, пахло сырой землей и старой соломой, а свет проникал из ряда маленьких грязных окошек высоко в стене, придававших помещению вид мрачной церкви. Я не мог ничего как следует разглядеть, но ощущал, что меня окружают смутные силуэты, которые при всей своей неразборчивости давали ощущение объема и присутствия и давили на меня столь же ощутимо, как толпа людей.
Гаджен нашел за дверью фонарь, зажег его с удивительной ловкостью (если учесть, что правой рукой он мог разве что держать коробок) и повесил на крюк своего посоха.
– Вы не подержите это? – спросил он. – Если я буду указывать, дело пойдет лучше.
Я поднял посох, словно он был епископский, направляя свет на сломанную черную каменную плиту, которая была прислонена к стене прямо передо мной (настолько близко, что если бы я сделал еще шаг в темноте, то непременно споткнулся бы об нее). На ней были вырезаны неровные буквы; я наклонился и прочитал:
«Gai us Ter
Et sua coniunx caris
HSE».
– Это с римского кладбища у Льюс, – сказал Гаджен. – GainsTertius, надо полагать. Et suaconiunxcarissima. – Он легко провел пальцами по верхушке плиты и одобрительно кивнул; полагаю, он думал в тот момент о своей любимой жене, так же как я думал о своей. – Ніс Situs Est – значит, он умер первым, а ее имя добавили позже.
– По-моему, это очень трогательно, – сказал я.
Он снова кивнул.
– Но Тернеру это не нравилось. Он сказал, что настоящий художник женат только на своем искусстве. Помнится, он заимствовал эту идею у такого авторитета, как сэр Джошуа Рейнолдс – Он улыбнулся и сказал: – Видите, я держу слово. Ничего, кроме Тернера! – и, резко повернувшись, двинулся вглубь.
Я пошел за ним, держа фонарь и глядя, как его желтый свет рассеивает тень. Поначалу мне пришло в голову, что я попал в пещеру какого-то безумного Али-Бабы. Вдоль стен стояли грубые полки, разделенные на прямоугольные отсеки, словно койки в каюте корабля. Они были переполнены невероятным количеством разнообразного хлама: битые горшки; костяная рукоятка ножа; подошва от старого ботинка, усеянная ржавыми заклепками; половинка черной коробки из волокнистого дерева (вторая половина, похоже, сгнила); поднос с кремневыми осколками, которые могли бы быть грубыми наконечниками для стрел, но края их были так изломаны, словно их грызла собака, а не вытачивала человеческая рука. Я не мог не подумать, что это результат какого-то умственного заболевания (на что уже намекало состояние кабинета), не позволявшего своей жертве выкинуть даже самую бесполезную мелочь и тем более – навести порядок в жизни.
Но если это и безумие, то оно придерживалось системы: на каждой секции имелся аккуратный ярлык, надписанный от руки, с указанием места и даты – «Брэйстед, 1845», например, или (здесь чернила выцвели с годами): «Тэмберлоуд, 1816».
– Это всё ваши находки? – спросил я.
Он коротко кивнул и пробормотал что-то, чего я не расслышал. Нельзя было не восхищаться его трудолюбием (но не его разборчивостью!), хотя сам он, похоже, думал, что это не заслуживает внимания, потому что двигался дальше, не меняя шага и не поворачивая головы, и ничего не сказал, пока не дошел до конца комнаты и не хлопнул рукой по полке, подняв фонтан пыли.
– Вот вам и Тернер, – гордо объявил он. – Ему это местечко очень нравилось.
Здесь я увидел предметы из четырех разных по времени экспедиций: самые ранние помечены одна тысяча восемьсот одиннадцатым годом, а самые поздние – двадцать пятым. Но все они были из одного места, обозначенного большой табличкой на стене: «Стерди-Даун».
– Он этого не говорил, потому что вообще любил помалкивать о таких вещах, но мне кажется, ему тут нравились слои, – сказал Гаджен.
– Слои? – повторил я, не уверенный, правильно ли его расслышал.
Гаджен кивнул.
– Встаньте на вершине Стерди-Даун, и на две мили вокруг, если только у вас есть глаза, вы увидите знаки почти всех периодов истории нашего острова. – Он поднял железную головку топора и взвесил ее на руке. – Вот, англосаксонская, из могилы какого-то князька. – Не успел я осмотреть эту вещь, как он положил ее на место, подобрал блестящий обломок оранжевой черепицы и уронил его на мою ладонь. – А это римское, из остатков виллы в долине. – Так же быстро он указал на изящную брошку, выгнутую, как раковина улитки. – Бронзовый век. Погребена с дочерью вождя или жрицей, чтобы она явилась в иной мир достаточно нарядной. – Он тыкал пальцем так быстро, что я едва успевал разглядеть одно сокровище, прежде чем он переходил к другому. – Камень из средневекового аббатства, большую часть которого растащили, чтобы построить то дурацкое сооружение наверху. Кремневый наконечник для копья, которым, возможно, убили мамонта.
– Но что тут интересовало Тернера? – спросил я, отчасти чтобы заставить его говорить помедленнее, а отчасти от искреннего удивления: на картинах в Мальборо-хаус был ясно виден интерес художника к мифологическим темам, еще больше – к явлениям природы, но ничего похожего на пристрастие к британской истории я не припоминал.
– Он был человеком из народа, – сказал Гаджен. – Из трудового народа. Я много раз видел, как он останавливался зарисовать рыбака или пастуха – не ради курьеза, не в качестве любопытной фигуры для классической сцены. Его симпатия была вызвана собственным опытом. И он хотел познакомить тех многочисленных британцев, которые никогда не ступят ногой в галерею и не наберут денег на картину, с видами их собственной страны.
– Но все же… – начал я.
– Потому что он тоже, – перебил меня Гаджен (но при этом он кивнул, давая понять, что услышал мое возражение и в свое время на него ответит), – знал, что значило жить в бедности, ходить в тесной обуви, быть продуваемым всеми ветрами, работать изо всех сил целый день и ложиться в постель голодным.
Он помедлил и продолжил уже спокойнее:
– Когда он стоял там, на вершине, в его глазах были слезы. Словно он видел, как они движутся через долины – поколения, которые жили, трудились и умерли здесь. – То ли от волнения, то ли от свежести голос Гаджена охрип, и ему пришлось откашляться, прежде чем продолжить. – Признаюсь, тогда я сам этого не понимал. Я был слишком молод. Теперь легче; чем старше я становлюсь, тем больше чувствую свою близость с теми, кто сделал эти вещи, – тут он оглянулся и кивнул, будто приветствуя группу старых друзей, – пользовался ими и в конце концов умер, а они остались, чтобы я мог их найти.
Он несколько секунд помолчал, а потом (возможно, чтобы взять себя в руки, потому что он чуть не плакал) резко отвернулся и схватил с полки следующую вещь:
– Вот это может вас заинтересовать, мистер Хартрайт.
Сначала я не мог понять, что это, но когда он поднес предмет к свету, я увидел, что это нижняя челюсть какого-то огромного животного, длинная и усеянная острыми зубами, как у крокодила. Она была огромная, и если тело ей соответствовало, то зверь должен был быть раз в пять или шесть больше самого большого крокодила в Зоологическом саду. Признаюсь, когда я взял ее в руки, то невольно ахнул.
– Останки вымершего дракона, – сказал Гаджен с привычным смешком человека, который много раз наблюдал такую реакцию. – Как я понимаю, теперь Оуэн называет это динозавром.
– Оуэн? – переспросил я.
– Уильям. Сэр Уильям, следует сказать. – Судя по интонации, сэр Уильям был последний человек, которому следовало давать рыцарское звание. – Главный хранитель Британского музея. А следовательно, авторитет, на который нужно ссылаться в любых вопросах классификации.
Он мрачно оглядел свою коллекцию, шевеля губами, будто рычащий вулкан, который вот-вот извергнется; я приготовился выслушать длинное перечисление его разногласий с сэром Уильямом. Но он, вспомнив, похоже, свое намерение не говорить ни о чем, кроме Тернера, кивнул на челюстную кость и сказал:
– Во всяком случае, мы с Тернером сами видели, как ее выкапывают из мелового слоя. Он стоял, словно зачарованный, лицо его сияло, как у школьника; а потом он начал быстро рисовать ее вот так, – он показал рукой бурные взмахи, – будто от этого зависела его жизнь. Потом, если я не ошибаюсь, он воплотил ее в одной из своих картин.
– Да, – сказал я. Пока он говорил, перед глазами у меня словно проползло чудовище с полотна «Богиня раздора в саду Гесперид», и я узнал в нем эту тварь так же уверенно, как узнаешь лицо, прежде виденное на фотографиях. – Я это знаю.
– А вот это, – продолжал Гаджен, смеясь, – кисть, оставленная на холме величайшим художником нашего времени.
Он протянул мне потертую деревянную ручку.
– Вы хотите сказать, это принадлежало Тернеру? – переспросил я. Когда он кивнул, я почувствовал, что по моей коже молнией пробежала дрожь. Если не считать автопортрета, принадлежавшего мистеру Раскину, я никогда еще не держал в руках вещей Тернера. На мгновение я вообразил, что этот тонкий деревянный стержень сохранил его силу, и она может перейти ко мне, чтобы я писал, как он. Потом я поднес кисть к свету фонаря и увидел, что там осталась только одна щетинка.
Гаджен, должно быть, заметил мое удивление, потому что снова рассмеялся и сказал:
– Он говорил мне, что ему прекрасно работалось с тремя волосками, да и с двумя тоже неплохо, но когда дело дошло до одного, даже ему пришлось сдаться.
– Но почему? – спросил я, со стыдом вспоминая, как отвергал кисти с малейшими недостатками. – Он ведь наверняка мог заменить ее раньше?
Гаджен кивнул:
– Да, он был уже богат в то время. Но он предпочитал жить просто.
– Но ведь при отсутствии необходимости, – сказал я, внезапно вспомнив кое-какие слухи, дошедшие до меня, – называть такое поведение «простой жизнью»…
– Да, – сказал Гаджен, – я знаю, что его считали скупым. Но это не то слово, которое ему подходило. Он был экономный, это верно. Осторожный. Он быстро гневался, если подозревал, что его обманывают или используют. Но я видел, как он дал пять шиллингов молодой вдове с плачущим младенцем, велел купить что-нибудь для ребенка и следить, чтобы он ходил в церковь и научился отличать добро от зла.
– Тогда это бравада? – спросил я, вспоминая, как Тернеру нравилось демонстрировать свой талант во время вернисажей.
– Отчасти, возможно. Он и правда очень гордился тем, что может обходиться немногим. И еще он боялся потерять независимость. Как-то раз он сказал мне, когда мы оба много выпили, что больше всего он ненавидит необходимость подчиняться капризам меценатов.
Он помедлил, а когда заговорил снова, в голосе его слышалось сомнение, будто это соображение только что пришло ему в голову и он пока не был в нем уверен.
– Дело было еще в чем-то. В чем-то вроде предрассудка.
– То есть, вы хотите сказать, – отозвался я, сам не зная почему – наверное, вспомнил образы роскоши и разрухи, повторявшиеся на выставке в Мальборо-хаус, – он верил, что расточительность приведет его к катастрофе?
Почему-то Гаджен слегка покраснел, словно я его смутил, а потом кивнул и сказал:
– Очень проницательно с вашей стороны, мистер Хартрайт. Приведет к катастрофе не только его, но и всю страну. Или даже весь мир.
Он улыбнулся и вдруг тронул меня за руку:
– Думаю, у вас все получится, сэр. Замечательно получится, – и добавил, кивнув на кисть: – Оставьте ее себе. Я хочу, чтобы она была у вас.
– Правда?
Он снова кивнул.
– Я всегда буду носить ее с собой, – сказал я, опуская ее в карман. – Как талисман.
Это, конечно, была мелочь, но я был рад получить первую реальную поддержку после встречи с леди Ист-лейк, ведь снисходительные замечания мистера Раскина обрушились на меня, как ведро холодной воды. Сейчас я получил подтверждение тому, что почувствовал (хотя и едва решался верить), когда увидел картины Тернера, – я наконец начал его понимать.
Гаджен достал из кармана часы, посмотрел на них и сказал: «У жены небось обед уже готов, лучше не задерживать ее. Пойдем?» Я искренне ответил: «С удовольствием, сэр», – и пошел за ним к дому.
Обед был традиционный и обильный, в старомодной столовой с тяжелыми балками и огромным камином, в котором, должно быть, сгорело целое дерево, пока мы съели вареную свинину, пудинг и половину бараньей ноги. Гаджен сам не мог разделать жаркое, и я подумал, что его жена попросит меня это сделать, но она взялась за дело сама, и я скоро понял, почему: когда она подошла к порции своего мужа, то потихоньку нарезала ее на маленькие кусочки, чтобы его не унизила ни собственная неспособность держать нож, ни то, что ему, как ребенку, режут мясо прямо в тарелке. Возможно, другой мужчина, не желая привлекать внимания к своей беспомощности, не стал бы отмечать эту доброту; но Гаджен тронул руку жены и поблагодарил ее ласковой улыбкой. Пока мы обедали, я раз двадцать видел такие проявления их взаимной привязанности и уважения. Будем надеяться, дорогая, что мы с тобой сумеем так же относиться друг к другу, когда достигнем их возраста!
Мы поели, миссис Гаджен убрала тарелки и оставила своего мужа и меня наедине с вином. Мы поговорили немного о его семье, а потом без всякой моей подсказки он начал рассказывать мне про свои приключения с Тернером. Он вспоминал, как Тернер любил шторм – «Чем хуже погода, тем лучше!» – как они однажды в Брайтоне наняли лодку, и тут началась буря, море с грохотом билось о планширы,[5]5
Планшир – утолщенный брус, идущий по верхнему поясу обшивки малого деревянного судна; на кем крепят гнезда для уключин. – Примеч. перев.
[Закрыть] и всех тошнило, кроме Тернера, который просто напряженно глядел на воду, отмечая ее движение и цвет, и бормотал: «Отлично! Отлично!» Или как они проходили в день по двадцать-тридцать миль в дождь и солнце, иногда останавливаясь в самых ужасных гостиницах, где Тернеру не требовалось ничего, кроме хлеба с сыром, стакана портера и стола, чтобы приклонить голову, если уж не было постели.