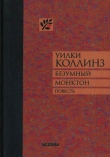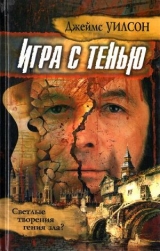
Текст книги "Игра с тенью"
Автор книги: Джеймс Уилсон
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
– Кого ищешь, милок?
Вероятно, она меня не узнала, что было не удивительно: лампы еле светили, а прошедшие недели сильно изменили нас обоих. Я ничего не сказал, но протянул ей пять шиллингов. Девушка передвинулась и скосила глаза, чтобы разглядеть монету. Убедившись в моей щедрости, она рассмеялась от удовольствия.
– Отлично.
Она взяла деньги и опустила в карман. Потом она подобралась поближе и обвила руками мою шею – импульсивно, неловко, будто ребенок благодарил дядюшку за подарок.
– Как тебя зовут?
Вероятно, она почувствовала мою скованность и отстранилась со словами:
– В чем дело?
Я покачал головой. Она заглянула мне в глаза, чуть нахмурившись от напряжения, пытаясь угадать, чего я хочу.
– Все в порядке, – заявила она. – Не нужно ничего говорить.
Осмотревшись, она убедилась, что никто за нами не наблюдает, приподняла юбку, положила мою руку на низ живота и непроизвольно взвизгнула, ощутив холод моих пальцев. Не говоря ни слова, она обернулась и повела меня назад по улице, через боковой вход ломбарда – в маленький двор и дальше, в темную комнатку на первом этаже.
Я плохо видел, что было вокруг меня, впрочем, если бы и видел, то ничего бы не запомнил. Помню только звучание голосов в собственной голове:
«Как ты можешь этим заниматься?
Она – ребенок, а ты ее домогаешься.
За все приходится платить.
Почему она должна расплачиваться? Она, как и я, охвачена желанием. Притащившись издалека и тут же сбежав, я только собью ее с толку. И какая для нее разница – мужчиной больше, мужчиной меньше?
И какая разница – для меня? Я должен ощущать себя свободным. Разве это не естественно – всего лишь один кусок плоти, соединяющийся с другим?
Или нет?»
Я опасался, что непрестанное самобичевание истощит мои силы и превратит в импотента. Скорее всего, так бы и случилось, если бы девушка заговорила или малейшим жестом напомнила мне: мы – люди, а не обезличенное механическое соединение соответствующих органов.
Однако она была сообразительна и уже поняла, как действовать. Она повернулась ко мне спиной, наклонилась вперед и оперлась о стену, застыв без вздоха или звука. А когда я сделал свое дело, молча довела меня до выхода, ласково вытолкнула на улицу и заперла за мной дверь.
На обратном пути голоса смолкли. Я не ощущал ничего, даже холода. Даже смерть покинула меня.
Но только до поворота на Бромптон-гроув. На мгновение меня охватило почти животное предощущение внезапных перемен. А потом я увидел: перед нашим домом стоит черная карета. С занавешенными, словно на похоронах, окошками. Приземистый кучер в высокой шапке сидел ко мне спиной и был так закутан в одеяла, что казался заледеневшим снеговиком. Лошади плохо различались в темноте, однако в морозном воздухе клубился пар от их дыхания.
Я тут же подумал о Лоре – о детях – о Мэриан. Мое вероломство каким-то образом убило кого-то из них либо повергло в болезнь. Ужасное предположение вынудило меня застыть на месте, и я едва преодолел желание убежать. Но все-таки взял себя в руки. Нельзя поддаваться слабости и суеверию. Если кто-то и вправду умер, то об этом известила бы телеграмма, а не карета, оказавшаяся у дверей в середине ночи.
Я двинулся вперед, стараясь убедить себя: возница просто-напросто остановил лошадей на Бромптон-гроув, и это не имеет ко мне никакого отношения. Я уже почти успокоился, когда при моем приближении дверь кареты резко распахнулась, перегородив путь.
– Мистер Хартрайт?
Прозвучал незнакомый высокий, ломкий мужской голос. Я вгляделся в глубину кареты, но ничего не различил.
– Мистер Хартрайт, зайдите в карету, пожалуйста. Я должен вам что-то сообщить.
– А так сказать вы не можете?
Послышался короткий сухой звук – то ли кашель, то ли смех.
– Я умру от холода. – Он сделал паузу, словно ему не хватило дыхания, и нужно глотнуть воздуха, прежде чем продолжить. – Я не причиню вам зла, клянусь. Да и что я могу сделать, если бы и хотел? Крепыш вроде вас без усилий сплющит меня, как свечку.
Я колебался, но всего мгновение. Если он намеревается меня похитить, то почему не увезет силой, как предыдущие похитители? А если все-таки увезет, не узнаю ли я при этом нечто существенное? Несколько часов неволи – небольшая плата за обретение уверенности.
– Очень хорошо, – сказал я, собравшись с духом.
В мерцающем уличном свете я едва разглядел охапку пледов, тряпья и шарфов, наваленных в углу. Ничто, кроме глаз, на минуту показавшихся в узкой щели между меховой шапкой и поднятым воротником и тут же исчезнувших, не выдавало в моем собеседнике мужчину. А глаза, глубоко посаженные, тонули в темноте и, казалось, пытались спрятаться внутри черепа; и даже мой беглый взгляд успел отметить, что они полны бесконечной усталости.
– Садитесь, пожалуйста, и закройте дверь.
Я повиновался. Теперь нас окружала полная темнота.
– Спасибо.
Моему собеседнику пришлось снова сделать паузу. Пока он выравнивал дыхание, в его груди слышались жалкое посвистывание и хлюпанье.
– Я хотел бы побеседовать с вами, мистер Хартрайт, – продолжил он в конце концов. – Побеседовать о гении. Насколько я знаю, вы описываете жизнь Тернера?
Я не ответил, а ждал, чтобы он обнаружил свои истинные намерения до того, как заговорю я.
– Пожалуйста, мистер Хартрайт, – прохрипел он. – Вы должны мне помочь. Я больной человек. Каждое слово дается с трудом. Я не могу ими бросаться.
– Да, – произнес я.
– Замечательно. Мне довелось видеть его. Видеть кое-что, о чем вы больше ни от кого не узнаете.
– Каким образом? – спросил я. – И кто вы?
– Можете называть меня Симпсоном. Пока этого вполне достаточно.
– На самом деле вас зовут иначе?
– Разве имя, которое я сам себе выбрал, более реально, нежели то, которое дали мне родители?
«Он прав, – подумал я. – Разве Дженкинсон менее реален, чем Хартрайт?»
– Все это мне пришлось забросить много лет назад, – продолжал он, – когда неосмотрительность вынудила меня покинуть Англию. С тех пор я жил в Венеции, а если и приезжал сюда, то только под псевдонимом.
Он вздохнул – осторожно, чтобы не спровоцировать приступ кашля. Заговорив снова, он перешел на шепот.
– Вы слышите меня, мистер Хартрайт?
– Ну да.
– Мне легче говорить вот так, если вы не возражаете. Меньше усилий. И не нужно часто останавливаться.
– Хорошо.
– Так вот, – прошептал он, – вы понимаете, что человек в моем положении должен всегда соблюдать осторожность. Приходится добывать самые подробные сведения о своих компаньонах по путешествиям и при этом ничего о себе не сообщать. Кругом шпионы. Агенты. Вы понимаете?
– Да.
– И вот однажды я пересекал Альпы в Маунт-Кенис, и в карете моим спутником оказался субъект маленького роста, который сразу же возбудил подозрения. Он не произносил ни слова, если только с ним не заговаривали, а отвечал очень кратко. Большую часть времени он смотрел в окно и делал зарисовки, словно готовился к военной кампании.
И снова ему пришлось помолчать. Я был озадачен. Зачем он тратит силы, рассказывая мне все это? Неужели он думает, что я не наслушался бесконечных рассказов о нелюдимости и странностях Тернера?
– Пришлось потратить день или два, – снова заговорил незнакомец, – и я понемногу выяснил, кто он. Инициалы «Д. М. У. Т.» на его саквояже. Письмо, вложенное в его дорожный альбом. Краткие обмены репликами, когда он ненамеренно поведал о своем знакомстве с лордом Эгремонтом и большинством академиков.
С тех пор мы неоднократно путешествовали вместе. Конечно, я никогда не разговаривал с ним, а он не узнавал меня. Узнав, что я проник в его тайну, а он так и не сумел разгадать моих секретов, он пришел бы в ужас.
– Какие там тайны, – сказал я, – по крайней мере, у него.
Его голос стал совсем слабым, и ответ прозвучал как еле слышный вздох:
– О да! Великая тайна, мистер Хартрайт. Тайна гения.
Несмотря на холод, мою кожу обдало жаром.
– Я часто наблюдал за ним в Венеции. Иногда – когда он считал, что его никто не видит. Он был весьма примечательным человеком, я могу это засвидетельствовать. Поглядите из окошка на заре – и вот он, уже занят рисованием. Наймите гондолу для вечерней прогулки – и будь я проклят, если вы вновь на него не наткнетесь: рисует и рисует, пока последний луч солнца не погаснет. А потом – потом ему надо удостовериться, что солнце снова взойдет и завтра.
– Снова взойдет?
Мой собеседник опять помолчал. Мне пришлось стиснуть кулаки, иначе я бы просто вытряс из него дальнейшие слова. Он вдохнул воздух – медленно, осторожно.
– Вы же знаете, каковы солнцепоклонники. Их божество насыщается только кровью, а в противном случае приходит в ярость и не возвращается.
– Кровью!
– Я говорю про девочек, мистер Хартрайт. Осведомленные люди были в курсе. Я сам видел, как одну из них вытаскивали из канала: на голову наброшен капюшон, а на руках и лодыжках – следы веревки. Ее удерживали под водой, пока она не захлебнулась.
Какое-то время я не мог говорить. Не мог двигаться. А потом услышал собственный шепот:
– Зачем вы мне об этом рассказываете?
Ответа не последовало. Я ждал. Секунд через пятнадцать я ощутил: что-то слепо ерзает по моему колену. Опустив руку, я нащупал пальцы Симпсона. Холодные, будто камень. В тот же момент они поползли к моему запястью.
Я отшатнулся, распахнул дверь и вывалился из кареты.
Это не сон. На том месте, где стояла карета, виднеется конский навоз.
Неужели это правда?
Может ли это быть правдой?
Кто такой Симпсон?
Мог ли Кингсетт подослать его?
А не Кингсетт ли он?
LXII
Лора Хартрайт – Уолтеру Хартрайту
20 декабря 185…
Среда
Прошлой ночью мне приснилось, что ты повстречал умную женщину, которая смогла говорить с тобой обо всем, чего я не понимаю, и она увела тебя от меня.
Сны часто бывают правдивыми, не так ли?
Лора
LXIII
Из дневника Уолтера Хартрайта
21 – 22 декабря 185…
Четверг
Записать. Я должен записать.
Упорядочить хаос.
Сегодня я посетил женщину-медиума. Ожидая в гостиной, я не мог примириться с тем, что все-таки пришел к ней. Глядя из окна на толпу, кружащую по Брук-стрит, я подумал: сейчас несложно выбежать из этого дома и затеряться среди прохожих.
Но тут появилась горничная:
– Миссис Маст ждет вас, сэр.
Она проводила меня в небольшую приемную, находившуюся в глубине дома. Занавески были уже опущены, а газовые лампы – зажжены. В камине горел нежаркий огонь, и воздух казался холодноватым.
За столом, разместившимся в центре комнаты, сидели две женщины. Одна – немолодая и худощавая, с длинным лицом и крупным носом, очень угловатая и седая – казалась отлитой из железа. Вторая была лет на тридцать моложе – пухлая и подвижная, с розовыми щеками и ясными глазами.
– Мистер Хартрайт, мэм, – доложила горничная.
– Здравствуйте, мистер Хартрайт, – сказала младшая из женщин и по-мужски пожала мне руку. – Я Евфимия Маст.
– Здравствуйте.
– А это – моя мама.
– Здравствуйте.
– Мама будет мне ассистировать, – пояснила миссис Маст. – Садитесь, пожалуйста.
Она говорила живо и по-деловому, с отчетливо-гнусавым американским акцентом, который и не пыталась смягчать. Пока я придвигал стул, она осведомилась:
– Вы прибегали ранее к подобным консультациям, мистер Хартрайт?
– Не такого рода.
– А почему, смею спросить, вы пришли ко мне?
– Я хочу, – неужели именно я это произношу? – вступить в контакт с умершим человеком.
Я прикусил язык. Ранее я решил не упоминать о своих целях: ведь если миссис Маст – всего лишь искусная фокусница, обогатившаяся на людском легковерии, – а я почти не сомневался в этом, – она вполне способна сконструировать нужный «дух», руководствуясь тем, что я ненамеренно о нем сообщу. Но потом я немного расслабился: пока известен только пол духа; невероятно, чтобы даже самый опытный обманщик мог извлечь из этого пользу.
– Мы не называем их «мертвыми», – деловито, словно инженер, советующий говорить «поршень», а не «плунжер», поправила меня миссис Маст, – мы их зовем «ушедшими». Он относится к близким людям, которых вы утратили?
– В каком-то смысле – да.
– Ну что же, я сделаю то, что в моих силах, мистер Хартрайт, но, надеюсь, вы понимаете: гарантий я не даю. Я всего лишь проводник. Некоторые духи не в состоянии связываться с нами с Той Стороны. А некоторые не хотят связываться. – Внезапно она стала серьезной, мрачной. – Очень важно, чтобы вы осознали это, прежде чем мы начнем.
Я кивнул.
– Вы впечатлительный человек, мистер Хартрайт, – по тону миссис Маст можно было заключить, что это качество столь же очевидно и неустранимо, как цвет моих глаз, – а впечатлительные люди иногда сильно тревожатся, когда я вхожу в транс. Позвольте объяснить. Мое физическое тело останется здесь, однако контролировать его будет другое существо. Скорее всего – один из моих вожатых с Той Стороны: Бегущий Олень или Мопс. Поговорите с ней, словно она – ваш друг. Поначалу ситуация покажется вам странной, но ее ничто не удивит, обещаю вам. А я сама – что бы вы ни увидели и ни услышали, – я этого не замечу. Поэтому не нужно думать, будто происходит неладное и мне требуется помощь. Предоставьте событиям развиваться естественным путем, и в нужный момент я возвращусь.
Миссис Маст ждала моего ответа. Я колебался. Но потом снова кивнул. Если я не могу хотя бы притвориться, что верю в реальность духовного мира, к чему было приходить сюда?
– Отлично. Вы принесли какую-нибудь принадлежавшую ему или связанную с ним вещь? Иногда это помогает.
Насколько я знал, такое требование было обычным; предвидя его, я перед выходом из дома сунул в карман одну из кистей, отданных мне Гадженом. Но теперь я раздумывал. Кисть – ключ, и важный ключ. Стоит ли заходить так далеко?
Миссис Маст, видимо, заметила мои колебания и попросила:
– Пожалуйста, отдайте мне это.
Я протянул ей кисть, поклявшись себе ничего больше не открывать.
– Спасибо.
Она взяла кисть обеими руками и ласково погладила пальцами. Спустя несколько мгновений, дабы лучше сосредоточиться, она закрыла глаза. Я заметил, что старшая женщина внимательно за ней следит, время от времени бросая на меня предостерегающие взгляды, означающие: «Молчите». Приблизительно через минуту миссис Маст начала клониться набок и потряхивать головой, будто путешественник, заснувший в поезде. Ее мать, как по сигналу, встала и, двигаясь столь тихо, что я едва ее слышал, погасила лампы и уселась подле дочери. Единственным источником света стали теперь угасающие огни в камине, и с того места, где я сидел, были видны только неясные силуэты обеих женщин.
Внезапно миссис Маст принялась бормотать. Поначалу слышался только поток стонов и бессмысленных слов, как будто она говорила во сне. Потом миссис Маст охватили сильные корчи, и я услышал два неясных женских голоса, исходившие из ее горла, но вовсе ей не принадлежавшие.
– Ты…
– Мой…
– Турок…
– Я помогаю…
– Не ее…
Но вот миссис Маст внезапно склонилась на плечо матери. И один из голосов совершенно отчетливо произнес:
– Здесь. Ее пет. Она ничего не знает. Я знаю.
Казалось, говорит девочка лет одиннадцати-двенадцати.
Не американка. Откуда-то с севера – может быть, из Йоркшира или Ланкашира, хотя некоторые слова произносились с низким, гортанным призвуком, напоминавшим иностранный акцент. Общее впечатление было столь странным, что я поневоле содрогнулся.
– Приступайте, – шепнула старшая женщина, – спросите ее о чем-нибудь.
Почему я не мог вымолвить ни слова? Чего я боялся?
– Приступайте, – прошипела пожилая дама.
– Кто вы? – спросил я.
– Мопс, – ответил голос.
– А почему вы со мной разговариваете?
– Я иду. Для нее.
– А кто она?
– Вы знаете. Миссис Уоссер. Уоссернэйм. Маст. Я иду и ищу их для нее. Она думает, это она или кто-то другой, но это всегда я.
– Вы хотите сказать, что вы ищете духов?
– А, ну да.
Голос зазвучал удивленно, словно подобное занятие было само собой разумеющимся.
Где я уже слышал этот выговор?
– Почему вы туда попали?
– В смысле, на другую сторону?
– Да.
– Я утонула.
Утонула.
Вот оно. Сумасшедшая старуха из Отли, вспоминающая о подруге детства.
Я обливался холодным потом. Я сказал:
– Как это случилось? Кто-нибудь…
– Утонула. – В ее голосе прозвучало раздражение, словно тема была ей неприятна. – Я утонула.
– Мопс – ваше настоящее имя?
Я не помнил, как звали ту самую подругу, но полагал, что вспомню имя, если услышу его.
– Мопс. Мобс. Мэг.
Мэг. Теперь я вспомнил: подругу звали Мэри. Похоже, очень похоже, едва ли это простое совпадение, но все-таки – не то же самое.
– Мэг? – переспросил я на всякий случай.
– Я хорошая девушка, хорошая, – заявила она, как будто не поняла меня. – Я могу вам помочь. Я знаю, что вы хотите.
Меня охватило раздражение, но поддаваться ему было нельзя. Я стиснул зубы.
– И что же мне нужно?
– Вы хочет он.
Казалось, меня намеренно выводят из себя, но – помня о своем решении – я не говорил ни слова и ждал продолжения.
– Я видит… холст, – произнесла она неуверенно, помолчав. – Я вижу краску…
«Холст и краску увидит каждый, – подумал я, – кто уже увидел кисть».
– Я видит имя… букву, с которой начинается имя… Я думаю – «Т».
Я вздрогнул. Но потом успокоил себя: ничего удивительного, ведь «Т» – обычная буква, и с нее вполне может начинаться хотя бы одна часть любого английского имени.
– Правильно?
– Может быть, – сказал я.
– Или это… это… «Д»? Да, думаю – вот оно! «Д». А потом – «Е». Нет, «F».
Я снова вздрогнул. И на сей раз непроизвольно воскликнул:
– Дженкинсон!
– Да! – произнесла она (хотя я по-прежнему не мог решить, кто же она такая). – Все вместе – «Джен». О, держитесь!
– В чем дело?
– С-с-с!
Пауза. И затем:
– Вы или он?
– Что?
– Это «Джен»? Ваше имя или его?
Я не имел сил ответить. Спустя мгновение она сказала:
– Я нащупываю.
И мне вновь показалось, что до меня доносится нечто вроде отдаленной беседы между ней и кем-то еще. Но сейчас второй голос был мужским, хрипловатым и резким.
Как это ни жутко, я должен признаться: именно таким мне представлялся голос Тернера.
Я заставил себя не думать о том, где я нахожусь и что делаю, а решил, подобно репортеру или ученому, просто слушать и запоминать сказанное, не вдаваясь в рассуждения о смысле. Но, как я ни старался, мне были слышны только обрывки беседы.
– Спит.
– Вкус.
– Почему не?…
– Понять.
– «О?»
– Виндзор.
– Узурпировать.
– Мощно (можно?).
Минутные колебания. Потом голос девушки:
– К вам никто не обращается.
Сейчас я отчетливо ее слышал; судя по возмущенному тону, она продолжала с кем-то спорить.
– Спросите его, – сказал я, – спросите его…
– Что? – сердито бросила она.
– Спросите о его профессии.
Пауза. Затем:
– Х…х…худож…
Художник. Впрочем, и этот ответ ей могла подсказать кисть.
– В каком жанре?
– Миссис, миссис Уоссер…
Я сердито тряхнул головой.
– Что он рисует?
– Ой… ой…
– Это все?
Тишина.
– Попросите его назвать одну из своих картин.
– Вон… вон…
– Где?
– Нет же! Вон!
– А, волны? Вы про волны говорите? Про воду?
– Да… так… ак… ак'рель.
Я понял: если не переменить тактику, я рискую сойти с ума. И произнес:
– Лу.
Девушка подождала продолжения. Но я молчал, и она произнесла:
– Что имеется в виду?
– Знал ли он женщину по имени Лу?
– Гм…
Она словно пыталась что-то понять, и нотки озабоченности, прозвучавшие в ее голосе, странно контрастировали с безмятежной неподвижностью лица миссис Маст.
– У реки?
– Да.
Послышалось нечленораздельное бормотание, а потом – смешок.
– Что такое? – спросил я.
– Он говорит «Воды Лу».
Она снова рассмеялась. Я не сразу сообразил, почему. Но затем меня пробрала странная дрожь, в которой смешались страх и возбуждение: в ее произношении эти слова напоминали «Ватерлоо», так что ответ, без сомнения, был очень «тернеровским». Конечно, это могло оказаться простым совпадением или следствием особой ловкости миссис Маст, которая не только угадала, с кем я пытаюсь войти в контакт, но знала о пристрастии Тернера к «наполеоновским» каламбурам и бесконечным упоминаниям о воде и поэтому заставила «дух» изъясняться таким же образом. Впрочем, поначалу я действительно поверил, что общаюсь с Тернером.
Одна лишь мысль об этом – или надежда на это – сделала меня безрассудным.
– Это правда… это правда, – выговорил я, совершенно позабыв о миссис Маст и ее матери, – что он связал ее и надел капюшон на ее голову?
Молчание.
– Что он говорит?
– Он не говорит ничего.
Я начал умолять. Я едва не заявил, что молчание сведет меня с ума. И лишь усилием воли взял себя в руки.
– А как насчет Сэндикомб-Лодж, в таком случае? – спросил я. – Почему он выстроил именно такой подвал?
Молчание. Я набрал побольше воздуха.
– Очень хорошо, – сказал я. – Последний вопрос. Только один. Что он знает о человеке по имени Симпсон?
Ответа не последовало. Я ждал, решив ничего больше не говорить. И пока я выжидал, в моем воображении возникла картина столь яркая и детальная, словно ее намеренно передо мной водрузили.
Полотно Тернера «Улисс, насмехающийся над Полифемом».
Но я не просто разглядывал развернувшееся передо мной зрелище, а стал его частью. Все вокруг меня пребывало в движении: кривлялись фигуры на корабле; лошади возносили ввысь солнце; гигант в агонии сжимал руками безглазое лицо.
Я прошептал:
– Вы здесь?
Ничего. Только глубокая тишина, которая становилась все мертвеннее и безнадежнее.
Памятуя о наставлениях миссис Маст, я не вмешивался и не двигался. Но минуты сменяли одна другую, и я задумался о том, все ли идет, как полагается. И когда в конце концов пожилая женщина, сохранявшая до тех пор спокойствие и неподвижность, внезапно переместила положение и заглянула в лицо дочери (впрочем, в темноте я мог ошибиться), я понял: что-то не так.
А затем, без предупреждения, произошло то самое. Менее чем в футе от меня вновь раздался мужской голос. На этот раз прозвучал только шепот и только два слова, совершенно отчетливые:
– Оставьте меня!
Я нашел в себе силы спокойно дождаться, пока миссис Маст с теми же стонами и бормотаниями пришла в сознание. Ее мать зажгла лампы, и передо мной вновь возникли знакомые очертания и цвета здешнего мира. Я умудрился выдавить из себя вежливый ответ, когда миссис Маст спросила, принес ли сеанс пользу. Я предложил оплатить его и вручил ей две гинеи, ибо миссис Маст сообщила: она не берет платы, но охотно принимает пожертвования от тех, кому оказала содействие, дабы иметь возможность трудиться и далее, принося утешение страждущим.
Но, оказавшись на улице, я начал плакать – всхлипывать, трястись и подвывать столь неудержимо, что прохожие бросали на меня дикие взгляды и сходили с тротуара, огибая стороной.
Моя гордость сломлена. Завтра я повидаюсь с Раскиным.
Пятница
Запись.
Просто запись.
Я нанял кэб до Дэнмарк-Хилл.
– Мистера Раскина нет дома. Вы найдете его за работой в Национальной галерее.
Еще один кэб, до Трафальгарской площади. Полуживой служитель, который делает вид, будто не понимает меня. Но, уловив бешенство в моем взгляде, ведет меня в подвал.
В подвале темно, влажно и тесно. Вдоль стен в два-три ряда выстроились ящики. В слабом свете газовых ламп на стенах можно заметить плесень и пятна сырости.
Раскин работает за столом при свете масляной лампы. Перед ним – груды записных книжек, целые сотни: тронутых плесенью, порванных, истертых до дыр, изъеденных мышами и сыростью. Раскин занят развязыванием одной из пачек и не обращает на нас никакого внимания.
– Мистер Хартрайт, – хрипит служитель.
Раскин поднимает голову. Его голубые глаза сияют, как и обычно, однако лицо побледнело от усталости. Минуту он всматривается, пытаясь меня узнать, и переводит вопросительный взгляд на служителя.
Однако служитель уже ушел и затворил дверь.
– Биография Тернера, – поясняю я. – Несколько месяцев назад я приходил к вам по поводу биографии Тернера.
– А, да-да, конечно. – Раскин привстает и, вытянувшись над столом, касается моих пальцев. – Как поживаете?
Я не отвечаю, и он меня не торопит. Он опускается обратно на стул и устремляет глаза на свою работу.
– Вы сказали, что я могу снова поговорить с вами, когда продвинусь в поисках.
Не глядя на меня, Раскин кивает. Он вынимает из раскрытой записной книжки страницу, сдувает с нее пыль и кладет на лист чистой писчей бумаги. Я не вижу ничего, кроме ярко-оранжевого круга света, вырывающегося из темноты, но и этого достаточно, чтобы выбить меня из колеи. Чтобы устыдить меня.
– Почему вы не дома и не заняты приготовлениями к Рождеству, как все прочие люди? – спрашивает Раскин, взяв следующую страницу и осматривая ее.
У меня нет сил, чтобы спросить его о том же.
– Я в отчаянии.
Он вздыхает.
– Не могу сказать, что это меня удивляет.
– Да. Вы меня предупреждали.
– Разве?
В помещении есть еще два стула. Я опираюсь на спинку одного из них, в надежде, что он предложит мне сесть.
– Иногда, – припоминаю я его слова, – мы обманываемся или позволяем другим внушать нам обманное убеждение, что мы способны на некое великое дело, которое нам не по силам.
– И я так сказал? Помилуй меня Бог. – Раскин указывает взмахом руки на заваленный бумагами стол и растягивает некрасивый рот в улыбке. – Если лицемерие – смертельный грех, то, боюсь, мои перспективы сомнительны.
– Это оказалось сильнее меня. Я нуждаюсь в вашей помощи.
Раскин смотрит на меня прямо.
– Тяжкое состояние для любого человека, – медленно произносит он. – И если дела обстоят именно так, я действительно вам сочувствую.
– Где же правда о нем?
– Ах, правда! – Он угрюмо качает головой. – И вы надеетесь узнать правду о человеке, который не желал изъясняться прямо и говорил загадками? В таком случае вам грозит сумасшествие.
– Кажется, я уже помешался.
Он пристально всматривается в мои глаза и кивает.
– Правда о Тернере, – произносит он, – неоднозначна. Она еле уловима. Конечно, намеки на правду содержатся в картинах, но едва ли можно составить по ним исчерпывающее представление. Правду о Тернере нельзя разложить на простейшие элементы и простейшие утверждения. Она пребудет недосягаемой, неподвластной нашим попыткам облечь ее в слова.
Я чувствую, что вот-вот потеряю сознание. И падаю на стул. Раскин, казалось, этого не замечает.
– Вероятно, то же самое можно сказать о любом из нас. Надеюсь, и обо мне. Однако любого из нас можно представить чем-то вроде гобелена, и нити, из которых этот гобелен соткан: честность, бесчестие, ум, тупость, – отчетливо видны. А в случае Тернера сама ткань смята, скручена, разодрана. Рассматривая одну нить, вы никогда не поймете, составляет она неотъемлемую часть целого либо появилась из-за случайной прихоти ткача. Или же такая нить – ложный намек, намеренно вплетенный в ткань, дабы озадачить вас и запутать.
Он замолкает. Рассматривает свои пальцы. Брезгливо стряхивает с них известковую пыль.
– Вам известны, конечно, заблуждения надежды?
Диковатое, но достаточно понятное выражение.
– Если я и не был знаком с ними раньше, то в последние месяцы вынужден был познакомиться.
Раскин не может удержаться от улыбки.
– Я не имел в виду ваш личный опыт, мистер Раскин, но magnum opus Тернера.
– «Заблуждения надежды»?
Он кивает.
– Вы не слышали об этом творении?
– Нет.
Он поднимает густую бровь. Очевидно, в его мнении я падаю еще ниже, если подобное возможно. Он закрывает глаза, припоминая что-то, и возглашает:
– Это первые строчки надписи на полотне тысяча восемьсот двенадцатого года – «Ганнибал, переходящий Альпы». Безусловно, Тернер и раньше подписывал свои картины стихами, но выбирал обычно стихи других поэтов, хотя часто цитировал их неправильно или совсем искажал. А здесь имеется подпись: «Рукописное. Заблуждения надежды». И она стала появляться на его полотнах опять и опять, каждый раз – под новыми стихами. Какое же напрашивается объяснение?
Мои мысли блуждают слишком далеко, и я не сразу нахожу ответ.
Раскин повторяет:
– И каков же смысл?
– Ну… у Тернера… Тернер написал поэму. Он не опубликовал ее. И выбирал из нее отрывки, которые годились для подписей.
– Точно. Тернер, несомненно, знал, что создастся такое впечатление. И все-таки – это неправда.
– Поэмы не было?
– Не было как единого целого. Когда требовалось, Тернер всего лишь составлял строчки или заимствовал их у других писателей. Этот ложный след, вы согласны?
Раскин поднимает палец и ведет им по незримому полотну.
– Всплеск цвета здесь – и здесь тоже – и вам кажется, что они нанесены одним и тем же длинным мазком, но это не так. Иллюзия.
Я едва нахожу в себе силы спросить:
– В таком случае, ничему нельзя доверять?
Раскин пожимает плечами и вглядывается в меня с любопытством, словно впервые увидел. Потом произносит:
– Чем вы встревожены, мистер Хартрайт?
И я рассказываю. Рассказываю о Фэрранте и Харгривсе; о нашем обеде на Фицрой-сквер и о моем последующем похищении – о Люси, о капюшоне, о веревках. Я рассказываю ему о Тревисе, о записной книжке Мэриан и о моих растущих подозрениях по поводу Истлейков (тут Раскин не может сдержать холодной улыбки). И о встрече с Симпсоном, и о том, что я не уверен, не приснился ли он мне; и о сеансе у миссис Маст. Я не знаю, чему верить, говорю я Раскину.
Впрочем, не желая выглядеть до конца экстравагантным, я не упоминаю о посещении двух проституток.
Кажется, Раскин даже не удивлен. Он кивает и молча на меня смотрит.
А я ощущаю облегчение, ибо рассказал очень много и не был остановлен, опровергнут или осмеян. Впрочем, груз того, что не сказано, продолжает терзать мои внутренности, как крошечный горячий уголек.
Боже, если бы освободиться и от этого! Поведать все до конца, признаться: я обнаружил в себе тьму и страх, о существовании которых даже не подозревал. И не слышать протестов в ответ – какое облегчение! Лишь такого облегчения я жажду.
Но оно недосягаемо. Даже сейчас, выводя эти строки, я знаю это.
О Боже.
Писать. Писать. Записывать.
Раскин встает. Он осматривает ящики у стен, находит нужный и осторожно достает его. Потом приносит к столу и, порывшись в кармане в поисках ключа, отпирает.
– Им двигали, несомненно, глубокие, греховные страсти и заблуждения, – говорит Раскин, – и, пожалуй, я не в силах понять их. Ясно лишь то, что все они – плод безверия и отчаяния. Ибо наш век – век отчаяния; век, чье разъедающее влияние одинаково пагубно и для величайших, и для простых умов.
Он открывает ящик, вынимает небольшой альбом и раскрывает его на последних страницах. Набросок за наброском: мужчина и женщина в постели. Ничего завершенного – контур ягодиц, вскинутая нога, рука, сжавшая обнаженное плечо, а лица не видны. Впрочем, понятно, почему не видно лиц. Запечатлены нелюди – и даже не тела людей, – а только акт во всей своей наготе.
– Да, – говорю я, – это чудовищно. Но есть ли свидетельства того, что он… он был способен на… на?…