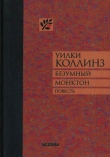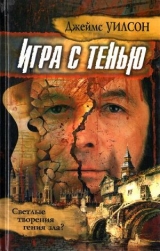
Текст книги "Игра с тенью"
Автор книги: Джеймс Уилсон
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
VIII
Уолтер Хартрайт – Лоре Хартрайт
Бромптон-гроув
11 августа 185…
Пятница
Дорогая моя!
Я пишу тебе, а твое письмо лежит рядом. Когда я заглядываю в него и читаю: «Я так горжусь тобой, Уолтер», эти слова жгут меня, как пощечина, потому что я уверен – если бы ты сегодня меня видела, то ни в коем случае не смогла бы гордиться. Видишь ли, я только что вернулся от Раскина. Я не знаю, что думать о нем и о том, что он сказал мне, – но я боюсь, он выставил меня дураком, чему я сам поспособствовал, и в результате меня терзают уныние и смятение.
Прежде всего, меня сбила с толку сама личность Раскина. Разве не удивительно, что знаменитое имя рисует в нашем воображении образ, созданный из бог знает каких обрывков, мелочей и деталей, но тем не менее достаточно сильный, чтобы олицетворять человека, с которым мы еще не знакомы. До сих пор, даже не задумываясь над этим, я представлял себе Раскина лохматым дикарем, который прячется где-то во тьме (в пещере или подземелье), подстерегая в засаде и смертельно поражая неосторожных незадачливых художников. Возможно, этот образ был вызван моим собственным страхом: когда я выставлял свои работы, я всегда боялся, что он заметит их и обольет презрением; и еще – стишком в «Панче». Помнишь его?
Пишу я полотна, их хвалят охотно,
Немедленно их раскупают,
А как вступит Раскин с разносом ужасным,
Купить их никто не желает.
И подумай только, если бы я с ним не встретился, этот привычный фантастический образ так и остался бы в моей голове, и наши внуки представили бы его своим внукам в качестве реального портрета великого человека!
Теперь они, как и я, будут от этого впечатления избавлены, потому что переворот, произошедший во мне за последние двенадцать часов, полностью уничтожил все мои прошлые идеи и отправил их в изгнание, из которого им никогда не вернуться.
Первый сюрприз ожидал меня еще до встречи с самим Раскиным. Его дом номер сто шестьдесят три по Деннмарк-Хилл оказался высоким, беспорядочно выстроенным старым зданием, которое не прячется в тени, а демонстрирует себя миру с грузным самодовольством провинциального лорд-мэра. Там есть привратницкая (где мне пришлось назвать цель своего прихода плотному человеку с подозрительными глазами, изо рта которого пахло лакрицей, когда он спрашивал: «Это к мистеру Джону Раскину, да?» – и прежде, чем я успел отозваться, он посмотрел на меня и ответил на свой собственный вопрос: «Да, это будет к мистеру Джону»), дорожка для экипажей, заросшие плющом стены и укрывшаяся в глубине тяжелого портика входная дверь, к которой надо подниматься по лестнице с перилами. В общем, своим размером и позой Джона Булля – ноги расставлены, руки в боки – этот особняк больше напоминал дома наших соседей в Камберленде, любителей охоты на лис, чем жилище самого знаменитого в мире художественного критика на краю величайшего в мире города.
Лакей, открывший дверь, был вполне обычного вида, но на мгновение у меня возникло странное впечатление, что сумрачный квадратный вестибюль за ним заполнен бледными старообразными лицами (поручиться за это было трудно, потому что мои глаза еще не привыкли к мраку), которые рассеялись, увидев меня, словно испуганные вторжением кролики.
– Мистер Раскин дома? – спросил я.
– Мистер Джон Раскин? – мрачно повторил он, будто пародируя привратника.
– Да, – ответил я, про себя гадая, сколько всего слуг тут может быть и у всех ли есть мнения по поводу искусства.
Он поднялся наверх; как только он ушел, появились еще двое из кроликов (как я их назвал): старушка в чепце и черном платье и коренастый старик с неровно остриженными седыми волосами и густыми бакенбардами, одетый в темный пиджак и саржевый жилет в крапинку. Они не были похожи на слуг, и в их поведении было что-то хозяйское, но они все же держались в конце вестибюля, будто боялись предъявлять свои полные права, смущенно улыбались мне и снова отворачивались. Они были похожи на процветающих владельцев гостиницы, дом которых принадлежит им, но в его стенах они должны учитывать мнение других.
– Мистер Хартрайт, – раздался мягкий мелодичный голос.
Подняв голову, я увидел человека, спускающегося по лестнице. Сначала он показался невероятно высоким, но когда спустился в вестибюль и встал вровень со мной, я увидел, что он просто очень худ, а длинный узкий голубой сюртук облегает его тонкую фигуру и подчеркивает все ее вертикальные линии. Он был примерно моего возраста или чуть старше, с румяной кожей, густыми светлыми волосами и бакенбардами и нависшими бровями. Было что-то кокетливое и даже женственное в том, как он двигался, и в том, с каким явным старанием он уложил часовую цепочку и завязал галстук; но этому противоречили его острый нос и глубоко посаженные голубые глаза, которые придавали ему встревоженный и недовольный вид зверя, потревоженного в своем логове.
– Как я рад вас видеть, – сказал он, беря обе мои руки в свои.
Я заметил, что его нижняя губа слегка изуродована, но улыбка более чем смягчала это впечатление, за секунду превращая его лицо из раздраженного в приветливое. Он повернулся к старикам и вежливо сказал:
– Папа, мама, это мистер Хартрайт. Он пришел поговорить о Тернере.
Я, конечно, слышал о сложностях в его браке, но все равно не мог понять, как в зрелом возрасте, на пике своей славы, он отказался от роли мужа и вернулся к роли сына. Я вспомнил то, что Дэвенант рассказал мне о Тернере и его отце, и то, что Мэриан узнала от миссис Бут, и задумался, не является ли неспособность к нормальной семейной жизни признаком гения.
– Как поживаете? – спросил старик. Когда он и его жена неловко подошли, чтобы пожать мою руку, я наконец понял, что означает странная смесь их гордости и почтительности, и внезапно почувствовал себя школьником, приглашенным в гости к талантливому, но излишне чувствительному товарищу.
– Не согласитесь ли прогуляться со мной по саду, мистер Хартрайт? – сказал Раскин. – Я все утро был в гуще боя, и дым застит мне глаза, а грохот пушек не дает думать.
Не дожидаясь ответа, он поспешно вывел меня в переднюю дверь, будто старался сбежать прежде, чем родители ему запретят.
– Что за бой, если я могу поинтересоваться? – спросил я, когда мы выходили к дорожке у крыльца. – Новая критическая статья?
– Я пытаюсь закончить последний том «Современных художников», – сказал он. – Но, к сожалению, я пришел к печальному выводу, что вся моя критическая и историческая работа до сего дня не имеет практически никакой ценности.
– Ну, право же… – сказал я.
– Мысль грустная, – отозвался он, – особенно для тех, кто, как я, посвятил свою жизнь одной теме. Но когда я оглядываюсь и вижу весь груз безмолвных бед нашего мира, и понимаю, насколько малую его часть я сумел поднять своими рассуждениями о Веронезе, о Тернере и готике… – он покачал головой.
– Но «Современные художники», – сказал я, – для многих стали источником знаний и доставили удовольствие тысячам людей. Миллионам. – Признаюсь, мне стало слегка стыдно при мысли, насколько ничтожную часть его работ прочитал я сам, но этот стыд не смог помешать мне прибавить: – Включая и меня.
– Очень мило с вашей стороны пытаться меня утешить, мистер Хартрайт, – сказал он и, остановившись, устремил на меня пронзительный взгляд. – Но, вы уж простите, вы не производите впечатление бедствующего человека. Во всяком случае, в том смысле, который я имею в виду. Когда я говорю о бедах, я имею в виду бессчетные массы страдающих людей, которые окружают нас, которых мы видим – и в то же время не видим – каждый день и которых все наши идеи и заботы почти никак не касаются.
Мы обошли дом, и он наклонил голову, чтобы войти в темный тоннель, остро пахнущий влажными листьями, который образовывали прижавшиеся к стене густые старые кусты лавра.
– И именно поэтому, – сказал он, и в тесном пространстве его слова позвучали приглушенно, – я начал обращать внимание на вопросы политической экономии.
Должен признаться, что я был удивлен и, в общем-то, польщен его откровенностью, но, когда я следовал за его сутулой фигурой сквозь полумрак, к чувству благодарности примешивалось легкое отвращение – хотя в тот момент я не смог бы объяснить его.
– Конечно, вы можете сказать, что мне самому не на что жаловаться, – сказал он с усмешкой, когда мы вышли из-за дома. Он вяло махнул рукой в сторону газона перед домом, где росли деревья, а переплетающиеся дорожки уходили прочь от нас, и в сторону сада, огородов и ряда сельскохозяйственных зданий за ними. – Собственное молоко и свиньи, – сказал он, – и персики из теплиц, и луга для лошадей. Все, что может понадобиться смертному, кроме реки и гор.
Я оглянулся и увидел на его лице улыбку, но почти немедленно он покраснел, похоже, смутившись.
– Но хватит обо мне, мистер Хартрайт, – сказал он, внезапно снова срываясь с места. – У меня сегодня вечером лекция, поэтому мне придется уйти в четыре. Так скажите мне, как продвигается ваше великое начинание?
– Оно едва сдвинулось, – сказал я. – Но я поговорил с несколькими знакомыми Тернера.
– Вот как, – сказал он. – И с кем же?
Я назвал имена. Он никак не ответил, так что я продолжил:
– А моя сестра посетила его экономку.
– Ах да, добрая миссис Бут, – пробормотал он. – Разъяснила она тайну или добавила тумана?
По его внимательному быстрому взгляду я понял, что это какое-то испытание, и его хорошее мнение обо мне зависит от того, дам ли я правильный ответ; но поскольку я не знал, какой ответ правильный, то беспомощно сказал:
– Я не знаю.
Он не ответил, только кивнул и, остановившись у зеленой калитки в стене, вывел меня в огород. Вокруг периметра шла мягкая травянистая тропа, окаймленная фруктовыми деревьями и розовыми кустами, а кое-где и скамейками с деревянными сиденьями.
– Покой, – сказал он, оглядываясь. – И последние благословенные лучи солнца.
Мы сидели на скамье под кустом ползучих роз, который был до сих пор усыпан цветами. Раскин молча смотрел на два яблочных дерева у противоположной стены, будто собираясь с мыслями. Наконец он сказал:
– Вы ведь знаете, что вы не один, мистер Хартрайт? Что в этом винограднике уже работает другой?
– Вы о мистере Торнбери? – сказал я.
Он кивнул.
– Позвольте спросить, почему вы уверены, что лучше подходите для этого дела?
Это был вопрос деликатный, и я поколебался, прежде чем ответить.
– Ко мне обратился друг Тернера, который питает некоторое доверие ко мне и никакого, к сожалению, – к мистеру Торнбери.
– Могу я спросить, какой именно друг?
– Боюсь, этого я вам сказать не могу.
– Понятно. – Он постучал пальцами, кивая, будто отбивал ритм мелодии, звучавшей у него в голове.
Я выбирал слова осторожно, но не мог не чувствовать, что даже для моего слуха они звучали слабо и неубедительно. Поэтому я не был особенно удивлен, когда он продолжил:
– Иногда, мистер Хартрайт, мы обманываемся или позволяем другим внушать нам обманное убеждение, что мы способны на некое великое дело, которое нам не по силам. Я говорю это как друг и знаю по собственному опыту. Я считал Тернера своим учителем. Я почитал его. Я лично знал его в последние десять лет его жизни. Большую часть этого времени и потом, когда он умер, я не думал почти ни о чем, кроме него и его работы. И все же мне теперь кажется, что я его совсем не знал.
Чтобы не показаться глупцом, я промолчал. Он вытянул руку и коснулся белой розы, свисавшей над его плечом. Капля влаги сорвалась с лепестка, на котором притаилась, и скатилась по пальцу.
– Возможно, вы знаете, мистер Хартрайт, что первый том «Современных художников» был задуман как защита Тернера от его критиков. Это была, как я прекрасно понимаю, юношеская попытка, порыв, вызванный заблуждениями молодости. Книга имела некоторый успех, но она, как мне кажется, не дала Тернеру ни капли удовлетворения. Как бы холодно и одиноко ему ни было, моя поддержка его не согрела. Прошло полтора года, прежде чем он впервые упомянул при мне книгу; и тогда он все-таки поблагодарил меня по-своему – как-то вечером пригласил к себе после обеда и угостил стаканчиком шерри в подвальной комнате, холодной, как могила, которую освещала одна сальная свеча. Но он никогда не скрывал, что, хотя я считал его, как считаю и сейчас, величайшим пейзажистом в истории мира, я все же не уловил значение и цель его работы. Боюсь, он был прав.
В огороде появился тощий седой человек в белой рубашке, толкавший перед собой тележку. Увидев нас, он остановился и снял свою подъеденную молью войлочную шляпу.
– Добрый день, Пирс, – сказал Раскин.
– Доброе утро, сэр.
– Пожалуйста, не обращайте внимания на нас с мистером Хартрайтом, – сказал Раскин, и тот продолжил свой путь. Раскин снова повернулся ко мне.
– Но я так мало видел… – Он покачал головой. – Это я обнаружил только прошлой зимой, когда взялся за каталогизацию его рисунков и набросков – которые, как и следовало ожидать в Англии, хранились в пыли и плесени в подвале музея Саут-Кенсингтон.
Внутри меня возникла электрическая волна возбуждения и добежала, покалывая, до кончиков моих пальцев.
– Что вы обнаружили? – спросил я.
Он вздохнул.
– Я обнаружил такой пессимизм, мистер Хартрайт. И такое мужество! – Он внезапно развернулся и поднес розу к самому моему лицу: – Тернер видел цветок во всей его красе более истинным глазом, чем любой другой из живущих. И в то же время, – он погрузил палец в лепестки, раздвигая их, – он видел червоточину внутри и не уклонялся от нее. Посмотрите повнимательнее на любую его картину, и в самом сердце ее вы увидите темный ключ.
Что-то в его тоне, когда он это сказал – зловещая дрожь в голосе, печальные, как у охотничьего пса, глаза, – вызвало у меня желание рассмеяться. Однако я победил это желание и спросил:
– Ключ к чему?
Он не ответил, только важно поднял палец и бросил на меня суровый сожалеющий взгляд, будто учитель, поправляющий на редкость тупого ученика, который снова не понял чего-то очень простого.
Я постарался не выдать раздражения.
– Вы говорите о каких-то конкретных работах?
– Их больше девятнадцати тысяч, – сказал он. – Вы должны сами увидеть их. Я могу дать вам записку.
– Спасибо.
– И вот лучший совет, который я могу вам дать: если вы надеетесь познать Тернера, надо погрузиться в его работы.
– Но что насчет него самого? – настаивал я. – Его характера? Его вкусов? Его привычек?
Ответ последовал не сразу. Он поднял руку и подозвал садовника, который как раз проходил мимо с нагруженной тачкой:
– Пирс!
– Да, сэр? – сказал тот, останавливаясь и щурясь в нашу сторону.
– Пойдите в дом и попросите Кроули найти автопортрет Тернера, и…
– Прошу прощения, сэр, найти что?
– Автопортрет Тернера, – повторил Раскин (слегка раздраженно, как мне показалось). – И принести его сюда.
– Да, сэр.
– Так что вы говорили? – спросил Раскин, когда тот ушел, а потом, прежде чем я успел заговорить, продолжил: – Ах да, его характер. Ну что ж, все, что я могу сделать для вас, – это то, что я сделал для мистера Торнбери, а именно – назвать основные, по моему мнению, его качества.
– Это бы мне очень помогло, – сказал я.
Он глубоко вздохнул, а потом, глядя вперед, будто слова были написаны перед ним на каком-то невидимом щите, медленно произнес:
– Честность. Щедрость. Нежность. Чувственность. Упрямство. Раздражительность. Неверность. – Он повернулся ко мне. – И никогда не забывайте, что он жил и умер один и без надежды, уверенный, что никто не поймет ни его самого, ни его мощи.
«Ну и что мне с этим делать?» – подумал я.
– Простите меня, – сказал Раскин серьезно. – Я опять выражаюсь слишком загадочно? Боюсь, это мой вечный недостаток. И что хуже всего, я иногда грешу противоположным, – он внезапно рассмеялся, – и свожу друзей с ума болтливостью.
На лице его снова отразилась мальчишеская искренность, и я подумал, что никогда еще не слышал, чтобы человек так часто и эмоционально говорил о своих недостатках. Но, глядя в его прозрачно блестящие глаза, я внезапно понял, почему это столько же тревожило меня, сколько обезоруживало: под верхним слоем открытости и тепла лежало змеиное хладнокровие, напоминавшее, как ни странно, арктические земли, чья поверхность летом тает, но почва под ней замерзла навеки.
– Признаюсь, – сказал я, – я довольно-таки смущен.
– Простите, если это моя вина, – отвечал он. – Я просто хотел указать пустыни, которые вам придется пересечь, и пики, на которые придется подняться на вашем великом пути.
– Боюсь, – сказал я, улыбаясь и стараясь перевести все в шутку, – вы считаете, что дело мне не по плечу и я паду на пути.
Он не поспешил успокоить меня, как я, признаюсь, ожидал, а снова устремил взгляд вдаль, постукивая пальцами по колену. Через несколько секунд он наклонился вперед и слегка коснулся моей руки.
– Думаю, будет лучше всего, – сказал он, – если вы продолжите свои исследования и повидаетесь со мной еще раз позже. Возможно, тогда мои слова покажутся вам более понятными.
Он говорил с такой невыразимой снисходительностью, что я ощетинился и не смог полностью скрыть следы раздражения, когда спросил:
– И как вы предлагаете мне тем временем действовать?
– Действовать? – сказал он, будто мысли его уже упорхнули куда-то и ему пришлось усилием воли вернуть их назад. Он подумал немного, потом продолжил: – Вы скоро обнаружите, что мало кто имел даже слабое представление о его истинной натуре. Вам стоит написать полковнику Уиндэму в Петуорте, отец которого хорошо знал Тернера…
– Вы имеете в виду третьего графа Эгремонта? – сказал я, стремясь показать, что я не полный невежда. Я вспомнил из библиотечных расследований, что Тернер провел некоторое время в Петуорте при жизни третьего графа. Раскин только устало моргнул, сумев одним этим движением превосходно показать, что он находит мое вмешательство утомительным и не собирается останавливаться из-за этого хотя бы на секунду.
– Полковник может помнить какие-то семейные истории о Тернере, – продолжил он, – как и Хоксуорт Фокс из Фарнли, сын другого его покровителя и сам истинный любитель искусства и истинный друг Тернера.
– Могу я сослаться на вас? – спросил я осторожно.
– Конечно, – сказал он. – И сходите на Мэйден-Лейн; чтобы узнать Тернера, вы должны видеть, где он родился и вырос – Он нахмурился, словно ему пришла в голову новая мысль. – Вы сразу собираетесь вернуться в Лондон, мистер Хартрайт, после того, как мы здесь закончим?
– Да.
– Тогда, если хотите, я могу вас отвезти. Я еду на Ред-Лайон-сквер.
– Спасибо.
Он достал часы из кармана, посмотрел на них и кивнул.
– Но я должен предупредить вас, что мне надо готовиться, – сказал он, вставая и смахивая лепесток с рукава. – Так что я буду вести себя так, будто вас тут нет, и вы должны обещать не обижаться.
Мы двинулись вместе к дому, занятые каждый своими собственными мыслями, и дошли до газона, когда увидели, что к нам спешит слуга с тонким пакетом, завернутым в белый муслин, в руках.
– О боже, Кроули, – воскликнул Раскин, – что это такое?
– Пирс сказал, что вы просили это принести, – ответил тот, протягивая пакет.
Раскин посмотрел на него с мгновение, а потом сказал:
– Вы правы, просил. Положите его в экипаж; он развлечет мистера Хартрайта.
Он не преувеличивал; всю дорогу мы провели словно в разных мирах: он доставал предметы из коробки – куски стекла, яблоко, шар на цепочке – и сверялся в записной книжке или рисовал (очень красиво, должен заметить) розу на краешке страницы, пока думал; я сидел напротив него и сначала смотрел в окно, пока мы ехали по Воксхолл-роуд и через мост, а потом достал картину Тернера и развернул ее.
К моему удивлению, на ней был не мужчина, а мальчик, напряженные глаза которого прямо и с некоторой дерзостью смотрели из-под темных бровей. Нос у него был длинный и мясистый, а в рисунке полных неулыбчивых губ чудился намек на похотливость. Он был одет по моде семидесятилетней давности – в коричневом сюртуке и белом галстуке, тщательно завязанном на шее, а волосы его были аккуратно разделены посередине и расчесаны двумя крыльями. Сзади был написанный от руки ярлык: «Тернер в возрасте ок. 24 лет, автопортрет. Дар Ханны Дэнби».
– Кто такая Ханна Дэнби? – спросил я.
– Его экономка на улице Королевы Анны, – пробормотал Раскин, не поднимая головы.
Я снова посмотрел на картину. Меня уже и так нервировал разговор с Раскином, а сейчас я снова был смущен, потому что опять вместо того, чтобы углубить уже имеющиеся знания о нем, я обнаруживал совсем другую версию его жизни. Это был портрет не шута из рассказа Трэвиса, не славного парня Дэвенанта и не непонятого мученика Раскина. Это был кто-то совсем другой, кто словно бросал мне вызов своим загадочным автопортретом – предлагал разгадать его и заранее объявлял, что я проиграю. На мгновение меня охватило что-то вроде паники. Я сумел взять себя в руки, только когда рассудил: если он нарисовал себя в таком молодом возрасте, неудивительно, что портрет не похож на того Тернера, каким его запомнили позже.
Когда мы подъехали к Ред-Лайон-сквер, Раскин наконец оторвался от своих дел, закрыл коробку и сказал:
– Ну, здесь, мистер Хартрайт, нам придется распрощаться.
Я обернул картину тканью и протянул ему.
– Я покажу ее своим слушателям, – сказал он, – чтобы вдохновить их.
Кучер приоткрыл дверь; выходя за Раскином, я спросил:
– А есть другие его портреты?
– Очень мало, – сказал Раскин. – Он не любил, когда его рисовали. Кажется, он несколько раз ходил в фотостудию Майелла на Риджент-стрит. Можете разузнать там.
И вот мы расстались; он был уже на девять десятых в своей лекции, а я так задумался, что забыл поблагодарить его.
Всю дорогу домой мои мысли ходили ходуном; снова и снова я спрашивал себя:
«Что ты собрался сделать? Куда это тебя приведет? Что, если у тебя не получится?»
И я до сих пор не нашел ответа. Уже почти четыре утра, и, хотя я уверен, что не усну, мне необходимо лечь, иначе я никогда не смогу собраться с мыслями. Так что позволь мне закончить это письмо поцелуем и тем, что я знаю точно: я люблю тебя.
Уолтер