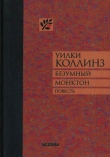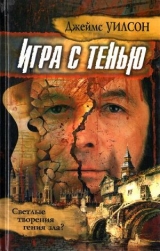
Текст книги "Игра с тенью"
Автор книги: Джеймс Уилсон
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
– Спасибо вам еще раз.
Молодой человек мгновение колебался; затем, коснувшись пальцами козырька фуражки, произнес:
– Очень хорошо, мисс, – и пошел своей дорогой.
Хейст по-прежнему хранил молчание. Он сверлил меня маленькими оценивающими глазами, нервно теребя носовой платок, плотно обернутый вокруг пальцев левой руки. Затем, не вымолвив ни слова, он резко отступил в сторону и пропустил меня внутрь.
Я последовала за ним в тесную и абсолютно пустую прихожую. Он захлопнул входную дверь и направился вверх по лестнице, а оторвавшаяся подметка одной из его туфель шумно захлопала по деревянным ступеням.
– Это жилье – не для леди, – произнес он, обернувшись ко мне через плечо, когда мы достигли лестничной площадки. – Оно не годится и для джентльмена. Не годится даже для собаки.
Хейст резко указал на комнату, окна которой выходили на улицу. Мгновение я думала, что он приглашает меня войти, но затем поняла: жест всего лишь подтверждал его слова, ибо комната оказалась тоже совсем пустой, а хозяин уже поднимался на следующий этаж.
Я шла за ним, охваченная растущей тревогой, поскольку с каждым новым шагом – то из-за призрачного следа сундука, оставшегося на выцветших обоях, то из-за одинокого крюка, на котором некогда висела картина, – с каждым мгновением становилось яснее, что дом совершенно пуст, и мы в нем одни. А когда мы достигли самого верха и я узрела прямо перед собой простую узкую дверь с задвижками и висячим замком, моя тревога переросла в настоящий страх. Внезапно – как я ни пыталась с собой бороться – мне припомнилась история Синей Бороды. Вовсе не ожидая увидеть за дверью трупы убитых жен, я все-таки не могла не задуматься о том, почему он меня сюда привел, и осознала: если Хейст вознамерится причинить мне вред, я не смогу ни защититься, ни позвать на помощь. Однако было очевидно, что пытаться уйти бессмысленно. Если Хейст задумал неладное, он поймает меня прежде, чем я убегу; но если все это напрасная тревога, я упущу единственный шанс узнать о Тернере нечто новое. Кроме того, поведение самого Хейста успокаивало меня. Будь у меня серьезные основания опасаться, он мог заметить мою тревогу и попытался бы ее рассеять; а он тем временем рассеянно извлек из кармана ключ, отпер дверь и распахнул ее, почти не замечая моего присутствия и предоставив меня собственным мыслям.
Мы вошли в длинную комнату с низким потолком, непритязательно-простую, как большинство чердачных помещений, но все же не лишенную некоторого комфорта. Скудный огонь за скромной каминной решеткой немного согревал воздух, а красивый старинный стул перед камином, казалось, был неким оазисом в пустыне окружающей нищеты и тягот. Были здесь и книги, почти все – с истрескавшимися переплетами и выцветшим золоченым тиснением. Среди сотни малознакомых названий я заметила издания пьес Шекспира, «Энеиду», вордсвортовского «Возничего»; все они были втиснуты в миниатюрный книжный шкаф, искусно устроенный под низким скошенным потолком.
– Некто сообщил, что вы хотите прочитать отцовский дневник, – сказал мистер Хейст, уставившись в окно мансарды.
– Некто! Вы имеете в виду сэра Чарльза Истлейка? Он не ответил, но взял из коробки подле очага нечто напоминающее отломанную ножку стула, положил ее на угли и наклонился, пытаясь раздуть огонь. Он не предложил мне сесть, и поэтому, не зная, что сказать или сделать, я ждала у дверей и осматривалась вокруг. Несмотря на очевидную бедность и пустоту, в комнате ощущалось стремление к опрятности и уюту, и благодаря этому она не выглядела совсем уж убого. Матрас, служивший кроватью, скрывался под чистой белой накидкой, а стопки бумаг на полу и на маленьком столе лежали в определенном порядке – хотя я и не понимала, в каком. Единственной деталью, выбивающейся из общей картины, было огромное полотно без рамы, пристроенное на дальней стене комнаты под странным углом (слишком большое, оно не помещалось на плоскости стены). Казалось, оно принадлежит иному миропорядку и было вовсе не к месту в этой жалкой комнате, будто великан, попавший в лачугу. Картина изображала короля Лира на пустоши, с воздетыми руками и мокрой от ливня бородой, бредущего средь бури, под расколовшей небеса молнией.
Я ощутила на себе взгляд мистера Хейста.
– Это работа вашего отца? – спросила я.
Он кивнул:
– Все, что мне оставили судебные приставы. Я укрыл ее здесь, встал на верхнюю площадку лестницы, вооружившись кочергой, и сообщил: если они попытаются войти, то мало им не покажется. Я отогнал их, жалких слабаков, но не могу утверждать, что они не попытаются вернуться.
Так вот зачем здесь висячий замок, подумала я: Хейст всегда его запирает, прежде чем спуститься к посетителю. Меня охватила волна облегчения и странноватой признательности картине, столь замечательно разъяснившей мне ситуацию. Внезапно я почувствовала, что готова счесть это полотно шедевром, но взглянула на него снова и не справилась с разочарованием. Что-то с картиной было определенно не так: возможно, из-за странности ее расположения.
– Она производит сильное впечатление, – произнесла я.
Если Хейст и расслышал нотки колебания в моем голосе, то предпочел их не заметить.
– Мой отец был гением, – сказал он. – Но быть гением в Англии, конечно же, недостаточно.
– Неужели?
Он потряс головой.
– Если ты хочешь преуспеть, ты должен уметь и пресмыкаться, и подлизываться, и держать язык за зубами. Как тот самый человек.
– Какой человек? – переспросила я, мгновенно догадавшись: он говорит про сэра Чарльза. – Почему бы вам не назвать его по имени?
– Подойдите сюда, – сказал он, переходя к окну. – Вы знаете, что это такое?
Я вытянула шею, пытаясь понять, куда он указывает; по тот дом располагался под острым углом, и я могла бы увидеть его только с того места, где стоял Хейст. Заметив мои затруднения, он подвинулся.
– Большое здание. Каменное, – уточнил он.
Я разглядела над крышами лишь смутный серый квадрат.
– Национальная галерея? – спросила я.
Он кивнул.
– И Королевская академия. А знаете, что находится позади нее?
Я отрицательно покачала головой.
– Исправительный дом Сент-Мартин. Они не могли бы охарактеризовать ситуацию точнее, даже если бы вырезали над входной дверью слова: «Вот что ждет человека гениальных способностей, если он ни перед кем не пресмыкается». Так что он вынуждает вас сделать?
– Простите?
Внезапно он двинулся на меня.
– Тот человек! Зачем он послал вас сюда?
Меня охватило негодование. Я хотела резко сказать, что домыслы его беспочвенны и сэр Чарльз руководствовался только добрым ко мне отношением, но побоялась еще больше рассердить Хейста. Если бы дошло до гневной перепалки, он наверняка взял бы надо мной верх, поэтому я отошла в глубь комнаты и мягко произнесла:
– Разве он не разъяснил это в письме?
– Значит, биография?
Я кивнула:
– Биография Тернера.
И я все ему рассказала, прикинув, что малейшая нечестность с моей стороны только подогреет его подозрения. И, полагаю, оказалась права, ибо, когда я договорила, он если и не выглядел полностью убежденным, то и не разразился немедленными возражениями, а погрузился в задумчивое молчание и машинально теребил обмотанный вокруг левой ладони платок.
Это был неподходящий момент, чтобы продолжать настаивать; поэтому я оставила Хейста наедине с его мыслями и вновь огляделась вокруг, пытаясь отыскать объяснение обуревавшей его ярости и тому печальному состоянию, в котором он пребывал. На глаза мне попались бумаги на столе. Разного размера и вида, они были оформлены и разложены таким образом, что, без сомнения, составляли текст журнальной статьи или дневник, который готовили для передачи в печать. Несколько разделов, как и подобает статьям, имели заглавия – «Честный человек», «Его высочество болтун». А на верхнем листе значилось: «Монокль». Видимо, решила я, это заглавие публикации. Впрочем, о подобном сочинении я никогда не слышала.
– Два шиллинга в день, – произнес Хейст неожиданно.
Я не могла взять в толк, о чем он говорит, – возможно, о цене журнала или о жалких грошах, которыми оплачивается его труд. Я повернулась к нему с улыбкой, больше напоминавшей глупую ухмылку. Хейста, без сомнения, обуревал какой-то внутренний разлад, его челюсть дергалась, и он так дергал носовой платок, что ладонь под ним совсем побелела.
– Арендная плата, – сказал он.
– Арендная плата?
– За дневник.
Краска прилила к моим щекам. Я не сомневалась, что Уолтера никогда не вынуждали платить за информацию, и возможность чего-либо подобного не приходила мне в голову. Неужели Хейсту хватило наглости сделать столь оскорбительное предложение только потому, что я – женщина?
– Я отнюдь не занимаюсь коммерческими сделками, – произнесла я холодно.
Он начал дрожать – то ли от страха, то ли от раздражения.
– Когда человек получает в наследство отцовский дом, никто не его осуждает, если он вознамерится его сдать.
Это звучало справедливо, я не могла отрицать. И все-таки (сказала я себе гневно), разве дневник и дом – одно и то же? Однако когда я попыталась пояснить, в чем состоит разница, то не сумела быстро подыскать походящую формулировку и неуверенно произнесла:
– Но дневник – не дом.
Хейст напыжился и выпятил грудь. Впрочем, я больше огорчилась за него, нежели испугалась: в его глазах таились тоска и отчаяние, и он не мог унять дрожание рук. В самом деле, он походил на большую напуганную собаку, которая демонстрирует агрессию, надеясь на поживу, но готова убежать прочь, если неприятель проявит твердость. Видимо, Хейст заметил мое сочувствие, ибо внезапно заговорил более настойчиво и жалобно:
– Я потерял все, мисс Халкомб. Даже свою семью.
– Вашу семью?
Он кивнул.
– Моя жена, в отличие от меня, совсем не годилась для подобной жизни. Она старалась, но не нашла в себе сил приспособиться. В результате она стала изгнанницей и уехала с нашими девочками в Суррей, к сестре.
– О, как ужасно! – воскликнула я, вспомнив, какое действие произвели на Лору и ее детей всего несколько недель разлуки с Уолтером – и это при том, что они не страдали от нищеты и ни минуты не сомневались в его возвращении.
– И они должны там оставаться, – продолжил мистер Хейст, – пока обстоятельства не изменятся к лучшему.
– А есть какая-то надежда? – спросила я, понимая, что ослабляю подобным вопросом собственную позицию, но будучи не в силах ожесточиться и продемонстрировать безразличие, как, возможно, поступил бы мужчина.
– Нет, если некоторые… продолжат свое дело, – сказал он с гримасой, напоминающей улыбку, правда, блеклую и натужную. Он махнул рукой на кипу бумаг на столе. – Но они не отнимут у меня надежды, как сумели отнять ее у отца.
– А что это такое? – спросила я.
– Новое начинание.
– Журнал?
Он кивнул.
– Они постараются заткнуть мне рот, как это бывало раньше. Но даже если они и преуспеют, то ненадолго. Я просто начну новое дело. А потом еще одно, если потребуется. И еще одно.
Помешательство это или героическая стойкость непонятого человека? Я не могла разобраться, но меня охватило ужасное любопытство, и хотя я опасалась спровоцировать поток беспочвенных жалоб и фантастических утверждений, все-таки решила, что необходимо узнать больше.
– А на какую тему вы пишете? – осведомилась я осторожно.
– О, моя тема! Моя тема всегда одна и та же, мисс Халкомб, – тупость, бесчестие и разврат. – Он издал короткий, лающий смешок, похожий не на выражение веселья, а на крик боли. – Видно, таково мое предназначение – бороться с пороком до конца дней моих.
Был он ненормальным или нет (упоминание сэра Чарльза Истлейка в числе своих «тупых» и «развращенных» врагов определенно свидетельствовало о помешательстве), я не могла не восхититься его отвагой и решимостью перед лицом несчастья и не посочувствовать его горестям.
– Прекрасно, – сказала я, улыбаясь как можно любе шее – Я принимаю ваши условия.
Его лицо мгновенно утратило напряженность, и на нем появилось совсем иное выражение – облегчения и триумфа.
– Где дневник? – спросила я.
Хейст указал на шесть томов разной толщины, разместившихся на верхней полке шкафа. Я прикинула, что на быстрый просмотр каждого из них, с сопутствующими записями, у меня уйдет день; и еще дня два-три я потрачу на выписки для Уолтера. Проявляя щедрость (и, сознаюсь, избегая стеснительной необходимости просить сдачи), я достала из кошелька соверен и протянула Хейсту.
– Вот, – произнесла я. – Забираю дневники на десять дней.
– Забираете?! – возопил он, внезапно обретая прежнюю решительность. – Вы не можете забрать их, мисс Халкомб. Вы должны читать их здесь.
Это было возмутительно, ни с чем не сообразно, невозможно; и все-таки я знала, что сама спровоцировала Хейста, проявив доброжелательность и тем самым поощрив дальнейший натиск. Несмотря на всю мою неуверенность и нежелание, настало время проявить твердость.
– Нет, – ответила я. – Где я буду заниматься?
– Я найду для вас стул, стол и поставлю их внизу.
– У вас слишком мало мебели даже для себя, – заметила я. – А если, – я расхохоталась, демонстрируя мнимую осведомленность, – если появятся судебные приставы?
Он затряс головой и собрался возразить; но прежде чем он заговорил, я продолжила:
– А кроме того, как вы намереваетесь отапливать комнату?
– Я куплю уголь. Вы должны добавить мне денег на уголь, – ответил он; однако угрожающие нотки, звучавшие в его голосе, уже сменились униженно-просительными и готовы были в любой момент превратиться в отчаянно-молящие.
– Мистер Хейст, – сказала я, – я не собираюсь работать в этом доме. Сегодня я пришла сюда с добрыми намерениями и предложила вам условия, которые считаю справедливыми. Боюсь, вы должны согласиться или отказаться от сотрудничества.
– Это все, что я имею! – воскликнул он жалобно, сдернув с руки носовой платок и в тревоге накручивая его на указательные пальцы. Как я успела заметить, тыльную сторону его ладони покрывали подживающие царапины, будто он ободрал ее о кирпич.
– Но что вас так беспокоит? – спросила я. – Вы считаете, что это происки сэра Чарльза, который хочет завладеть дневниками вашего отца и уничтожить их?
Он не смог удержаться от судорожного вздоха, словно его внезапно ударили, из чего я заключила, что моя загадка верна.
– Если бы намерения сэра Чарльза действительно были таковы, – заговорила я снова, – и он готовился бы к бесчестным действиям – хотя, уверяю вас, это не так, – неужели он не нашел бы лучшего выхода, чем прислать к вам меня?
Не находя слов, он молча смотрел на меня.
– Если вы их мне доверите, я обещаю не спускать с них глаз; но если вам этого недостаточно, мне придется уйти с пустыми руками.
Он был в таком отчаянии, что я побоялась, не швырнет ли он мне деньги, не набросится ли на меня в приступе ярости. Однако он молчал и не двигался. Заметив беспросветную тоску в его взгляде, я едва не утратила твердость, но взяла себя в руки, холодно попрощалась, повернулась и вышла из комнаты.
Спускаясь по лестнице, я испытывала облегчение и разочарование; эти чувства, одинаково меня терзавшие, усиливались с каждым новым шагом. Спустившись вниз, я вновь ощутила внезапный страх, ибо надо мной раздался звук задвигаемых засовов, а затем – шум преследующих меня шагов. А если Хейст попытается задержать меня? Подобрав одной рукой юбку и схватившись другой рукой за перила, я заторопилась. Я уже добралась до двери и судорожно дергала цепочки и задвижки, когда Хейст достиг площадки первого этажа и прокричал:
– Подождите!
Но я не стала ждать. Захлопнув за собой дверь, я выскочила на улицу и спешно двинулась вперед. Я остановилась, чтобы перевести дыхание, только на углу, перед домом с ярко освещенными окнами, где звучали голоса и смех.
Ног тут-то Хейст меня и нагнал. Я считала, что нахожусь в безопасности, и не заметила его приближения. Ощутив, как он прикоснулся к моей руке, я едва не завизжала от ужаса.
Впрочем, обернувшись, я поняла: причин пугаться не было. Плечи Хейста покорно поникли, а лицо утратило пыл и гнев, став мертвенно-бледным. Он просительно протягивал мне дневники.
– Вот, – произнес он.
Я вручила ему соверен и наняла кэб.
До сих пор я их не открывала. А если, после стольких испытаний, я ничего в них не найду?
На сегодня достаточно. Я начну читать дневники завтра.
Воскресенье
Скверные новости. Письмо от миссис Кингсетт: ее мать очень больна. Я могу заглянуть к ним, когда ей станет легче, но едва ли это возможно в ближайшие недели – если (нельзя не думать о подобной перспективе, учитывая ее возраст) она вообще почувствует себя лучше. Ругаю себя за то, что вела себя в Мальборо-хаусе так глупо и не сумела узнать побольше.
Помолилась в церкви о выздоровлении леди Мисден. Конечно, эта молитва и о моих личных интересах. Надеюсь, Бог меня простит.
До сих пор не в состоянии заставить себя открыть дневники. В данный момент они – моя единственная надежда; и за разочарованием последует бессонница, которую никто не сможет исцелить.
Завтра утром. Клянусь.
Понедельник
Упущенные дни – упущенные недели – упущенное время – и так мало нового (по крайней мере, до сих пор) о Тернере. И все же мое уныние не беспросветно: за неимением другого, попробую узнать нечто полезное о художественном мире пятидесяти-семидесятилетней давности.
И каков оказался этот мир! Он совсем не похож на нынешний! Вот и первое упоминание о Тернере, 18 апреля 1793 года.
Обедал в Олд-Слотер Чоп-Хаус с Перреном, а после с 7 до 8 был в Академии. Затем Перрен, Хинд и Ларкин зашли ко мне на чай, и мы кончили тем, что проговорили половину ночи. Перрен пребывает в сильном возбуждении из-за «юного гения», Уильяма Тернера, работы которого видел накануне. Мальчик, еще не достигший восемнадцати лет, награжденный Большой серебряной палитрой за пейзажную живопись – «светлая надежда британской школы» и так далее и тому подобное. Я заметил, что в таком случае Тернер должен подготовить себя к разочарованиям, ибо через пару лет, когда новизна потускнеет, он обнаружит, что им пренебрегают, и другой «юный гений» готов занять его место.
– Неважно! – кричит Ларкин (полагаю, пьяный, ибо они с Хиндом выпивали вместе, однако Ларкин не развеселился, а впал в сентиментальность и легкомыслие). – В ближайшие годы нам не придется радеть о будущем британской живописи, да и вообще не придется радеть о чем-либо, поскольку история с нами покончит, и мы станем ничем, как до нас стала ничем Венеция.
– О, какая клятая чушь! – ревет раскрасневшийся Хинд.
– Мир перевернулся, а ты слепец, если этого не видишь! – не унимается Ларкин, все больше распаляясь. – Прошло всего двадцать лет, а кто мог представить, что за это недолгое время мы потеряем Америку, а французский король – голову!
– А что, – говорит с мрачным смешком Хинд, – и здесь есть немало голов, которых могла бы постичь та же участь, да и наши головы ничем их не хуже.
Если бы в этот момент Перрен не вернул нас к веселью и не начал петь, дело могло бы закончиться стычкой.
Что касается меня (прости меня, Боже!) – даруйте мне успех, и мир может переворачиваться, падать, рушиться где-то рядом – мне все равно!
Это заставляет меня думать, что я права относительно «Гибели Карфагена» Тернера. Эта картина – предупреждение Англии. Конечно, он написал ее много позже, однако впечатления юности врезаются в память на всю оставшуюся жизнь. Возможно, появившись на свет в стране, раздираемой войнами, революциями и поставленной на грань выживания, он так и не избавился от страхов, сопутствовавших его детству и юности.
Далее – ничего существенного (кроме сведений об испытаниях и разочарованиях, постигших Хейста) вплоть до 1799 года.
1 декабря
Пустой день. Не работал, как следовало бы.
Вечером встречаюсь с Перреном у лорда Мисдена. Он сообщает мне, что юный Тернер избран в младшие члены, Королевской академии и переехал из Ковент-Гардена на Харлей-стрит, поскольку собратья-академики убедили его в большей респектабельности этого места.
Это болезненное для меня известие, если задуматься о разнице в возрасте и перспективах, поскольку, по сообщению Перрена, Тернер, всего двадцати четырех лет от роду, заявляет, что завален заказами и не знает, как с ними справиться. В то время как я, будучи на девять лет его старше, обремененный детьми и женой, вообще не имею заказов ивынужден добывать средства для содержания этого весьма непрезентабельного жилища, рисуя кота домовладельца.
Боже, даруй мне силы бороться и преуспеть в моем великом деле. И охрани меня от греховной зависти. Аминь.
Бедняга Хейст. Когда я читала эти строки, то не могла не вспомнить о его сыне, о скверной маленькой мансарде и о странном, непомерно большом изображении короля Лира. Из всего этого следовало, что мольбы Хейста остались без ответа.
Однако он, по крайней мере, упоминает лорда Мисдена! Это внушает надежду – конечно, только в том случае, если леди Мисден выживет.
Не помолиться ли о ней снова? И не оскверняем ли мы наших молитв своими непомерными желаниями?
В следующее воскресенье необходимо спросить об этом мистера Палмера.
Завтра я вновь направляюсь вслед за Хейстом в восемнадцатый век.
Вторник
Все утро – с Хейстом. Порой я с трудом выдерживаю это чтение, так бесконечен поток провалов, несчастий и разочарований. И, что еще хуже, зачастую они не только ужасны, но и ужасно комичны, и я не могу удержаться от смеха, даже когда плачу, и начинаю упрекать себя в бесчувственности.
Записи за тысяча восемьсот первый год почему-то отсутствуют, за исключением короткого отрывка, датированного тридцать первым декабря.
31 декабря
А что остается, как не покаяться в пороках, слабостях и недостатках, одолевавших меня в прошлом году, и не молить о даровании мне больших сил на год будущий?
Вечером перечитал Рейнольдса – о поэзии и живописи. Поэзия, утверждает он, «простирает свое влияние почти на все страсти», включая «важнейшее из наших чувств – тревогу о будущем». Она «захватывает нас, пробуждая любопытство, постепенно увлекая наш ум происходящим событием, удерживая в напряженном ожидании и затем потрясая внезапной катастрофой». Живопись, напротив, «более ограничена в средствах и, пожалуй, не располагает ничем, что можно сравнить или хотя бы соотнести с возможностью и умением направлять ум, постепенно овладевая вниманием. Живопись должна достигать своих целей одним ударом; все возможные проявления любопытства необходимо удовлетворить сразу же…»
Моя картина должна ответить на этот высший вызов – изумить зрителей, ошеломить – единым, неотвратимым ударом достичь того впечатления, которое могут произвести на ниx десять, двадцать, сто страниц поэтического текста.
Но впечатлятся ли они? Увы! Боюсь, что пет. Боже, помоги мне стать достойным святого предназначения, ради коего Ты призвал меня.
Не был ли и Тернер почитателем Рейнольдса? Не посещали ли подобные мысли и его голову?
В 1802 году вновь появляется и сам Тернер.
27 мая
Сегодня днем, когда я уже распростился с надеждой увидеть его снова, зашел сэр Джордж Бъюмонт. К моему удивлению, он вел себя так, будто в наших отношениях не было ни неловкостей, ни охлаждения и они сердечны, как никогда. Войдя в мастерскую, он долго стоял перед Лиром; и сердце мое так колотилось в ожидании его суда, что, спроси он меня о чем-то, я бы, наверное, не ответил. Но он не высказал никаких суждений, а всего лишь спросил, видел ли я нынешнюю выставку Королевской академии.
Едва найдя в себе силы заговорить – ибо я стал сомневаться, в здравом ли он уме, – я сообщил, что не видел выставки. А затем язвительно осведомился, не соблаговолит ли он высказать свое мнение об этом. Он, несомненно, не понял, о чем я спрашиваю, поскольку предельно вежливо сказал: «И в самом деле, Хейст. Таместь несколько хороших вещиц; однако мне не нравится направление юного Тернера и его подражателей. Их работам недостает завершенности». (Мог ли я не ощутить при этом какого-то мрачного удовлетворения?)
И затем, так u не сказав о моей работе ни слова, он удалился и оставил меня в такой растерянности, что я даже не попытался его окликнуть.
Двумя годами позже, в 1804 году.
19 апреля
Зашел сэр Джордж в сопровождении Перрена, переполненного Тернером и его творчеством. Он не далее как вчера присутствовал на открытии частной картинной галереи Тернера. Перрен был возбужден, словно ребенок, который только что лицезрел короля. «Она семидесяти футов длиной, Хейст, и двадцати – шириной и расположена позади его дома на Харлей-стрит, по соседству с улицей Королевы Анны». И далее в том же духе, словно перечисление архитектурных подробностей – самая интересная в мире тема. В конце концов, к моему облегчению, сэр Джордж остановил его, сказав: «Все это замечательно, Перрен; но ему не стоило выставлять столько полотен одновременно. И небо на его пейзажах написано слишком энергично и не гармонирует с другими деталями».
– Неужели, – спросил пораженный Перрен, – вы не видите никаких достоинств в его работах?
– Они обладают достоинствами, – сказал сэр Джордж, – но эти достоинства ложны. В их создателе есть некая извращенность – он груб, неестествен и, для пущего эффекта, отвергает заветы старых мастеров. А это опасно, поскольку он способен увлечь па ложный путь и других, ибо нельзя отрицать его поразительного мастерства. Вот потому-то все, кто наделен вкусом и чувством, должны противостоять ему.
На щеках Перрена проступили красные пятна, и я видел, что он хотел бы с ним поспорить, но решил придержать язык – без сомнения, опасаясь потерять выгодный заказ. Однако слова сэра Джорджа придали мне сил, и, собрав всю свою смелость, я наконец прямо спросил его о своем Лире. Ведь эта работа твердо основывалась на тех самых вечных принципах, которые он только что так превознес, и, пусть он пока нe высказывал мнения о картине, не были ли его предшествующие слова залогом одобрения?
Видимо, поначалу его изумило то, что я затронул эту тему. Но потом он встал и разглядывал полотно минуту или больше. Потом он изрек:
– Картина слишком велика, Хейст.
Слишком велика! Я с трудом поверил собственным ушам! Следуя примеру Перрена, я должен был вести себя осмотрительно, но меня охватило негодование, и слова сами собой сорвались с моих губ:
– Не припомните ли, сэр Джордж, что когда-то именно вы сочли мой замысел слишком мелким и попросили сделать его величественным, как жизнь?
Однако он уклонился от прямого ответа, сказал просто:
– У меня для такого недостаточно места, – и удалился.
Мгновение спустя Перрен просунул в дверь голову и произнес со смехом:
– Вы должны выстроить для этой картины галерею.
И вновь исчез, прежде чем я успел ответить.
Можно ли было сильнее оскорбить художника? Мое отчаяние и ярость были столь велики, что я хотел вышибить себе мозги или, схватив нож, изрезать картину в куски, но моя бедная Алиса услышала шум и удержала меня.
Она мой ангел-утешитель. Благослови ее, Боже, и вознагради, вопреки всему, мои труды.
Минуло двадцать три месяца, а он все еще не закончил своего Лира! Сколько же времени он над ним работал? Как редко столь долгий труд приносит столь малый плод! Впрочем, не малый, а не вполне удовлетворительный – ведь, если речь идет о картине, которую я видела и мансарде, никто не может пожаловаться на ее недостаточный размер. Картина слишком напыщенна, фигуры непропорциональны – целое почему-то производит меньшее впечатление, нежели отдельные детали. Я не согласна с сэром Джорджем Бьюмонтом относительно Тернера, но вполне понимаю, почему он не желает восхищаться творением Хейста.
Однако почему его мнение о Тернере столь отлично от моего? Из-за вполне понятного благоговения перед прошлым? Стиль старых мастеров – идеал для Бьюмонта (а их, в свою очередь, несомненно, осуждали за недостаточное следование устоявшимся традициям своего века). Все недостаточно традиционное считается «ложным», но для меня творчество Тернера уже освящено временем, оно излучает естественную красоту, которой так недостает слабосильным произведениям современников.
Конечно, есть неизбежные исключения (иначе я должна была бы восхищаться и картиной Хейста). И все же нельзя отрицать, что мир Хейста таит очарование – очарование эпохи Регентства, претенциозной и элегантной, когда Айлингтон еще оставался деревней, а щеголи франтили в Уоксхолле; очарование, которое не может разрушить даже сознание того, что время было развращенное, жестокое и, по свидетельству дневника Хейста, так же полно страданиями, как и нынешнее. Почему мы столь противоречивы?
Среда
Почти десять пустых лет – пустых и для меня, и для Хейста, ибо он нигде не упоминает о Тернере и (за исключением сообщения о рождении сына) не пишет ни о чем, кроме долгов и неудач. Но наконец в записях за 1813 год я прочитала:
15 февраля
Поворачивая на улицу Королевы Анны, встретил Кэлкотта, который, без сомнения, вышел из первого дома. Дощечка над дверью гласила: «Бенджамен Янг, дантист», и потому я подшутил над ним, воскликнув:
– Как! Неужто вы обломали зубы о ногу сэра Джорджа? Он слабо улыбнулся и ответил:
– Пожалуй, в вашем предположении куда больше истины, чем вы думаете. Нет, я только что посетил Тернера, – и он указал на дверь, которая располагалась рядом и, как я решил, вела во владения дантиста. – Это вход в его галерею.
– Я полагал, что галерея Тернера находится на Харлей-стрит.
– Он переехал сюда, за угол, и снял соседний дом; а вход устроен через помещение дантиста, чтобы посетителям было удобнее. Сейчас это имеет существенное материальноезначение, ибо, подыскивая покупателей для своих картин, он должен искать их именно здесь.
Я спросил его почему, и он ответил:
– Из-за сэра Чарльза Бъюмонта. Ведь он так бесповоротно на нас рассердился – на Тернера, сбившего нас с правильного пути, и на меня, который дал себя сбить, – что всемерно мешает людям покупать наши произведения. В результате ни один из нас давно не может продать что-либо с академической выставки. В прошлом году он публично меня игнорировал и отговорил лорда Браунлоу от покупки одного из моих пейзажей. И даже у Тернера, несмотря па его репутацию, есть проблемы с его «Ганнибалом, переходящим Альпы».
– Но это, – возразил я, – не имеет к сэру Джорджу никакого отношения. Это все последствия мелких и злобных интриг Выставочного комитета, обуреваемого завистью и раздорами.
Кэлкотт мне ничего не ответил. Они всегда так: не отвечают, а оскорбляются, ибо мысль о том, что недостатки могут быть присущи самой Академии, а не ее покровителям и знатокам живописи, уязвляет их самолюбие. Он пожал плечами и холодно заявил:
– В любом случае, я намерен ничего не выставлять в этом году, и Тернер собирается поступить так же.
И он удалился, полный самоуверенности.
Возможно, мне не следовало так говорить; однако даже сейчас я не в силах видеть величайшую несправедливость и не кричать о ней. Ибо для чего же предназначен такой институт, как Королевская академия, если не для того, чтобы выискивать повсюду таланты и поддерживать их во славу искусства и нации? А что происходит взамен? Академия действует как закрытый клуб, единственная цель которого – продвигать собственных членов (когда они не слишком заняты войной друг с другом), например, выдвинуть кого-либо на должность профессора перспективы и далее ничего от пего не требовать. Поэтому истинно одаренные люди оттеснены и обречены на страдания, а их соперники занимают те места, которые по праву должны были бы принадлежатъ другим.
Читая последний абзац, я поразилась тому, насколько изменился тон Хейста – словно вместо дневника он внезапно вознамерился писать некий трактат. И поэтому я не слишком удивилась, когда наткнулась на запись, датированную одиннадцатым ноября того же года: «Сегодня взялся за свою сатиру на Академию». И далее, спустя три месяца: «Сегодня моя сатира опубликована. Боже, помоги ей достичь цели».