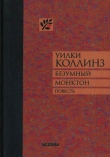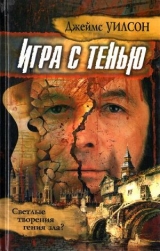
Текст книги "Игра с тенью"
Автор книги: Джеймс Уилсон
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Он подписал сатиру псевдонимом (на редкость благоразумный для Хейста поступок), объявив конечной своей целью «полное переустройство сего порочного сообщества». Хочется надеяться, что он не пострадал из-за этого. Но, слишком хорошо зная теперь его, я все же опасаюсь, что он пострадал.
Четверг
Письмо от мисис Кингсетт. Три дня назад ее мать скончалась. Огромная потеря для нее и, сознаюсь, – ужасное разочарование для меня. Моя голова переполнена фамилиями, которые я узнала от Хейста, – Кэлкотт, Бьюмонт, Перрен. Читая дневник, я питала ложные надежды на то, что смогу поговорить с кем-то, кто знал их не понаслышке. И, конечно, я рассчитывала услышать от леди Мисден и о самом Тернере.
Но стоит ли жалеть о себе, когда другие заслуживают куда большего сочувствия? Сама миссис Кингсетт подает мне достойный пример, поскольку (трогательно слышать об этом) даже в горе не забывает обо мне и о моей неизмеримо меньшей утрате и приглашает заглянуть к ним на следующей неделе, дабы я могла взглянуть на письма и бумаги леди Мисден, прежде чем они будут распределены или уничтожены. Я поеду и выражу ей свою признательность.
Весь день и вечер с Хейстом. Сейчас я добралась до 1827 года. Ничего более о Тернере – да и вообще ничего существенного, за исключением непрестанных несчастий, усугубляемых редкими проблесками похвал или надежды получить заказ, которые возносят Хейста достаточно высоко, дабы неизбежное последующее разочарование повергло его в еще большее отчаяние. Конечно же, его инкогнито как автора сатиры на Академию раскрыто, и он обнаруживает, что единым махом умудрился ожесточить против себя почти всех, кто мог бы помочь его карьере.
И по мере того, как год сменяется годом и очередной грандиозный план рушится, все отчетливее и отчетливее вырисовывается перед ним «огромная мировая Несправедливость», и Хейст продолжает бесстрашно провозглашать ее причиной всех своих бед.
Однако есть два интересных места, которые до некоторой степени объясняют странное поведение его сына. 15 мая 1814 года Хейст записывает:
Зашел молодой английский художник по имени Истлейк. Он еще почти мальчик, но имеет больше вкуса и рассудительности, нежели люди, вдвое его старшие. Он совсем недавно вернулся из Парижа, и, когда он стоял перед моим «Цезарем», я догадывался, что за мысль складывается в его голове: «Наконец-то! Английская историческая картина, которую не стыдно поместить подле итальянских и французских полотен!»
И 1 июня 1828 года:
Милосердный Боже! Насколько растленны даже, казалось бы, благородные души! Истлейк посетил меня перед отъездом в Италию, дабы «засвидетельствовать свое почтение», как он выразился. Но его истинные цели стали очевидны, когда я попросил его присоединиться к моей миссии. Ибо, признавая, что Академия «далека от совершенства», он стал уговаривать меня отказаться от публичных на нее нападок, мотивируя это «бессмысленностью и ненужностью причиняемых людям обид».
– Как! – вскричал я. – Неужто святость Искусства – ничто? И защита этой святости – «не нужна»?
Осознав тщетность своих уговоров, он вскоре ушел, не сказав ни слова о моем «Пилате». Да и нужно ли отдавать должное силе моего искусства, если ты избран в младшие члены Королевской академии и надеешься стать полноправным?
О Боже.
Пятница
Сейчас вечер, половина девятого, и минуту назад я закрыла последнюю страницу дневников Хейста. Я предполагала, что не узнаю ничего нового о Тернере, поскольку в последние годы жизни у Хейста хватало энергии и времени только на инвентаризацию собственных страданий: тюремное заключение за долги; отчаянные мольбы о помощи; отверженность и многочисленные публичные унижения. Я чувствовала себя так, словно сидела у постели тяжелобольного, который доживал последние дни, и беспомощно наблюдала за угасанием дорогого, но капризного друга, пока смерть не унесла его.
Его не стало, но две последние записи, датированные 1837 годом, памятны мне до сих пор.
11 января
Призвал к себе Артура и заставил пообещать: что бы со мной ни случилось, он продолжит сражаться за справедливость и за то, чтобы, возвратить моему имени то уважение, которое завоевано моей непрестанной сорокалетней борьбой. Он снова вел себя как мальчик, плакал и просил меня подумать о нем и о его матери и не совершать опрометчивых поступков. В одиннадцать он ушел, поклявшись возвратиться утром с хорошими новостями. Хоть какая-то надежда и обещание помощи.
Боже, сохрани меня среди тревог этой ночи.
12 января
Итак, я наконец-то решился. Мысли о моей бедной семье удерживали мою руку, но теперь я убедился: когда утихнет первая боль, их жизнь станет легче, ибо они освободятся от гнетущего их тяжкого груза.
Боже, прости меня. Аминь.
Я не хотела думать о том, что за этим последовало, но не смогла избавиться от этих мыслей.
Суббота
Я опасалась ночных кошмаров, навеянных судьбой бедного Хейста, но – как часто бывает – мой спящий мозг преподнес мне сюрприз. В мои сны проник именно тот эпизод из дневников, который я сочла совершенно обыденным и почти позабыла.
Во сне я оказалась на улице и увидела перед собой две двери. Одна – вход в приемную дантиста; другая дверь, хотя и без таблички, вела, как я знала, в галерею Тернера. Пока я колебалась, размышляя, стоит ли входить, дверь сама собой отворилась, и я шагнула внутрь. Я не испугалась, лишь слегка разозлилась на то, что Тернер, оставаясь невидимым, каким-то образом умудрился впустить меня в дом.
Прихожая была темна и совершенно пуста. Я миновала ее, ожидая найти дверь, ведущую в галерею; но вместо этого увидела только лестницу, спускающуюся в неосвещенный подвал. И вновь, сходя вниз, я не испытала страха, а только растущую досаду по поводу присутствия незримого Тернера.
Внизу я увидела арку из грубого камня, а под ней – нечто вроде пещеры или грота, выдолбленного в голой скале. Ее озарял льющийся откуда-то сверху тусклый беловатый свет, и вкрапления слюды поблескивали в граните, словно созвездия на ночном небе, придавая пещере жутковатую, завораживающую красоту. Мне показалось, что она не больше погреба, но вскоре я поняла: впечатление обманчиво. Дойдя до края пещеры, я обнаружила небольшой проход влево, а за ним – ее продолжение. Когда я пригнулась, чтобы войти, из тени выступила фигура мужчины, неясная и парящая, будто летучая мышь, и тут же исчезла со стремительностью испуганного животного, удирающего в укрытие. Едва различив очертания этой фигуры, я почему-то поняла, что это не Тернер, а Уолтер. И мое раздражение сменилось самым настоящим гневом: Уолтер явился сюда раньше меня и не желает открыть мне тайну.
В конце концов, миновав бессчетные закоулки и повороты, передвигаясь по проходу, который с каждым шагом становился все темнее и уже, я увидела впереди мутный желтый свет и мгновением позже оказалась в восьмиугольной комнате. На каждой из восьми стен висело по картине, и, хотя все они переливались золотыми, красными, оранжевыми оттенками, столь знакомыми мне по работам Тернера, я не узнавала ни одного полотна. Пока – именно так! – не дошла до седьмой картины, ибо то был «Залив Байя».
«Наконец-то! – осенило меня. – Я смогу понять!» Подойдя поближе, я принялась внимательно изучать холст. Картина была в точности такой, какой я ее помнила. С морем, благоуханными холмами и могучим деревом; со змеей, кроликом и напоминающими череп руинами. С фигурами…
И тут я резко остановилась: фигура Аполлона, несомненно, находилась на том же месте, но Сивилла исчезла.
Я пробудилась в еще большем раздражении и не могла отделаться от малоприятного ощущения: и Тернер, и Уолтер водят меня за нос, а я подыгрываю им, не умея разглядеть нечто, находящееся прямо передо мной. Оно было тут, словно хорошо знакомое высказывание, смысл которого уже почти ясен, и оно вот-вот прозвучит вслух, и все-таки уловить его невозможно.
Я замерзла, сидя за столом, поэтому взяла свой дневник и тетради и устроилась с ними в кровати. Я начала размышлять о картине, просматривая ее описание, сделанное мною собственноручно в Мальборо-хаусе и пытаясь понять значение исчезнувшей фигуры. Но, как я ни старалась, ничего не приходило в голову. Поэтому пришлось отвлечься от этой проблемы и сконцентрировать внимание на улице Королевы Анны.
Почему мне приснился этот сон? Не получила ли я подсказку или, по моему глубокому убеждению, не рассеявшемуся даже после пробуждения, ключ к какой-то загадке? Конечно, в реальности галерея должна быть совсем другой – она расположена на первом или втором этаже, и свет в нее проникает через окна. Случайно ли в моем сне галерея оказалась в подвале? Или, как это часто бывает в сновидениях, она смешалась с Сэндикомб-Лодж и с тем, что пережил там Уолтер? Тогда, безусловно, мое раздражение и разочарование объяснимы: ведь напряженность закралась в мои отношения с Уолтером именно тогда, когда он впервые предстал передо мной незнакомцем, избегающим откровенного разговора. (И если быть до конца честной, я должна признать: именно в тот день я тоже обнаружила, что не могу быть откровенной с ним.)
Я отыскала заметки, сделанные во время первой беседы с мисс Флетчер, и положила их рядом с заметками о встрече Хейста и Кэлкотта. Читая их в первый раз, я выделила только один существенный факт: согласно утверждению мисс Флетчер, отец Тернера ежедневно проделывал путь из Твикенхема на улицу Королевы Анны, дабы присматривать за галереей.
Почему это кажется важным? Непонятно. Вновь перечитав свои записи, я уже была готова сдаться, но вдруг обратила внимание на даты.
По словам мисс Флетчер, Тернер перебрался в Сэндикомб-Лодж в 1813 году.
По словам Хейста, в 1813 году Тернер только-только переселился на улицу Королевы Анны.
Итак: он переехал в два дома в одно и то же время. А потом, подобно тому, как камни внезапно скатываются с речного обрыва, мне вдруг пришло в голову: это не исключение, а часть общей закономерности. Разве перед своей кончиной Тернер не жил в Челси, сохраняя тем не менее дом на улице Королевы Анны и пытаясь убедить весь мир, что он живет именно тамі А в молодости (если поверить озлобленному граверу Фарранту) – не содержал ли он дом на Харлей-стрит и еще один – на Нортон-стрит, куда удалялся в обстановке секретности? Несомненно, некоторые семьи владеют городским домом, где они проводят часть времени, и при этом имеют жилье за городом. Но у Тернера не было семьи (за исключением отца), и он никогда не устраивал свою жизнь подобным образом. Более того, на протяжении всей жизни сразу два его дома находились в городе, поскольку загородным жильем мог считаться только Сэндикомб-Лодж. Тогда, вероятно, дело в женщинах? Не имеют ли мужчины привычки селить своих любовниц отдельно, в домах, специально для них предназначенных? Может ли это стать объяснением?
В случае с Нортон-стрит – возможно. Да и с Челси тоже; правда, едва ли миссис Бут годится на роль «любовницы», хотя они с Тернером и не были обвенчаны. Но Твикенхем, без сомнения, – совсем иное дело, ибо, согласно категорическому утверждению мисс Флетчер, в этом доме не было ни души, кроме старика отца и самого Тернера. Поневоле приходит в голову, что подобное стремление проживать в двух местах одновременно – не просто дань сиюминутным обстоятельствам, а следствие неких глубинных причин.
И каковы же они? Желание оставаться загадочным, всеми силами препятствуя тому, чтобы окружающие знали о твоем истинном местонахождении?
Слишком фантастично? Но вспомним рассказ сэра Чарльза о поездке Тернера в Бельгию. Не объясняется ли его тогдашнее поведение именно так?
Не знаю, насколько все это важно, и даже – имеет ли это смысл, но не могу не ощущать удовлетворенности: я наконец хоть что-то выяснила.
Воскресенье
Сегодня утром во время церковной службы молилась о Хейсте, о его несчастном сыне и о леди Мисден. Никто не сочтет мои нынешние побуждения недостойными.
Вторник
Вечером чувствовала себя слишком усталой, чтобы заняться дневником, и поэтому сегодня описываю вчерашний день. Вспоминать об этом дне, надо сказать, не хочется, поскольку он не пробуждает иных ощущений, кроме усталости, огорчения и неловкости. Однако вспомнить придется, иначе я забуду подробности.
Кингсетты живут в одном из тех больших домов к северу от Гайд-парка – они обильно украшены, оштукатурены, построены недавно и выглядят так, будто вылеплены из глазури и раскиснут под первым же дождем. Снаружи все квадратное и ослепительно белое; внутри, по контрасту, все мрачное, задрапированное, и лакеи с непроницаемыми лицами семенят вокруг так неслышно, будто опасаются произвести случайный шум и, непростительно нарушив этикет, пробудить от смертного сна леди Мисден. Когда появилась миссис Кингсетт и заговорила со мной обычным голосом, он прозвучал неуместно громко.
– Я рада видеть вас снова, мисс Халкомб, – произнесла она просто, и мы обменялись рукопожатием. Вокруг глаз мисис Кигсетт залегли тени, из-за черного платья она казалась мертвенно-бледной, однако сумела улыбнуться – с проблесками настоящей симпатии и даже, подумалось мне (хотя тогда я не поняла почему), с некоторым облегчением.
– Вы очень добры, – сказала я.
Она быстро покачала головой, словно даже беглое напоминание о горе могло лишить ее самообладания, и притронулась к моей руке.
– Мне было трудно решить, где вас устроить, – начала миссис Кингсетт, возвращаясь вместе со мной в холл. – Но в конце концов я решила, что в библиотеке вам будет удобнее.
Однако она ошибалась. Я поняла это в то мгновение, когда мы пересекли порог: библиотека оказалась чужим государством. В ней царила леденящая и при этом напыщенная атмосфера (камин по величине напоминал небольшой греческий храм, но кучки тлеющих в нем углей не хватило бы даже на то, чтобы обогреть спальню), густо пропитанная затхлым сигаретным дымом, который висел палевой дымкой перед наполовину занавешенным окном и мешал дышать. В центре комнаты стоял квадратный стол, покрытый суконной скатертью и загроможденный газетами, коробками из-под сигар и раскрытым номером «Панча». Вдоль стен действительно выстроились ряды книг, но они выглядели столь чопорными и нетронутыми, что трудно было не подумать: так же как и я, они совершенно чужды повседневной жизни клубного джентльмена и играют роль декоративного украшения или призваны подтверждать формальный статус библиотеки, которая на самом деле служит курительной комнатой.
От миссис Кингсетт, вероятно, не укрылась моя неуверенность, поскольку она, почти извиняясь, произнесла:
– Боюсь, обстановка далеко не идеальна, однако надеюсь, вы поймете, что при нынешнем положении вещей устроить все должным образом затруднительно.
– Конечно, – согласилась я. – Но не помешаю ли я вашему мужу?
– Он сам настоял на этом, – произнесла она так мягко, что ее речь напомнила шипение испуганной змеи.
Я подняла на нее взгляд: она сжала зубы и вцепилась в свое запястье, будто старалась сохранить самообладание. Впрочем, вскоре она расслабилась и произнесла громче:
– И все же я уверена, что вы здесь удобно устроитесь.
Она провела меня в дальний конец комнаты, где у окна разместились маленький стол и стул. Возле стола горела обычная лампа, а на полу стояли два длинных ящика. Они были доверху наполнены бумагами, целой кипой переложенными сюда из вместительного сундука. Приблизившись к ним, я почувствовала: миссис Кингсетг осталась где-то позади. Я обернулась и увидела, что она остановилась и уставилась в пол, словно не хотела испытать при виде бумаг своей матери мучительную боль.
– Боюсь, я даже не попыталась привести их в порядок, – произнесла она.
– Может быть, вы разрешите мне помочь вам? – сказала я. – По крайней мере я могу разложить все в хронологическом порядке.
– Вы очень добры, – устало откликнулась она, – но вы потратите массу времени. Маурициус полагает, что их нужно просто сжечь.
– О нет! – вскричала я, не сумев сдержаться.
Конечно, я не имела права высказывать собственное мнение, поскольку, со всех точек зрения, дело было чисто семейным. Однако меня ужаснула перспектива подобного бессмысленного варварства, равно как и тот факт, что эта тонкочувствующая женщина смирилась (а безнадежная покорность ее голоса свидетельствовала об этом) с непререкаемым решением мужа. Ведь минуло только три месяца с тех пор, как мы познакомились в Мальборо-хаусе. И, кажется, тогда именно миссис Кингсетт контролировала ситуацию, а ее муж вынужден был приспосабливаться – пусть неохотно – к ее пожеланиям.
Неужели кончина матери не только повергла миссис Кингсетт в ужасное горе, но (неким странным и непонятным мне образом) изменила распределение сил в пользу ее мужа?
– В любом случае, надеюсь, вы найдете что-нибудь интересное, – произнесла мисис Кингсетт тем же ровным тоном и отодвинулась к дверям, словно я вновь затронула нежелательную тему и тревога заставляет ее удалиться. – Позвоните, если вам что-то потребуется.
И, небрежно махнув рукой в сторону шнурка над очагом, она исчезла.
Я села за стол и внезапно ощутила себя одинокой и уязвимой девочкой из сказки, которая попала в замок великанов и боится с ними встретиться. Пусть мои страхи были беспочвенными – не сам ли мистер Кингсетт, по уверениям его жены, предложил меня здесь устроить? – я не могла не думать о том, что он разгневается, если увидит меня в библиотеке, и вдвойне разъярится, если застанет за чтением писем своей тещи. Прошла, наверное, минута, прежде чем я взяла себя в руки, нагнулась к ближайшему ящику (должна сознаться – с неприятным ощущением, что я вторгаюсь в чужую жизнь) и вынула из него толстую пачку бумаг.
Но в следующий момент моя тревога испарилась или, точнее, словно зубная боль после врачебного вмешательства, отступила под воздействием куда более глубоких эмоций. В моих руках оказалось послание от Лея Ханта; и еще одно – от лорда Элванли; и три или четыре письма от людей, о которых я никогда не слышала, но, по-видимому, столь же значительных; и официальное извещение о коронации короля Уильяма. Если быть точной, то эти документы терялись среди множества вполне обыденных, которые можно увидеть повсюду, – писем адвоката, счетов и сложенной страницы из «Тайме», где я не нашла ничего, заслуживающего внимания, – но на этом фоне они выглядели еще более эффектно, более значительно.
Мои пальцы дрожали, будто у ребенка, который вытаскивает на ярмарке лотерейный билет. Снова запустив руку в ящик, под верхними разрозненными листами я нащупала три или четыре плотно связанные пачки. Скорее всего, это именно то, что леди Мисден считала своей самой большой драгоценностью. Охваченная дрожью, я вытащила наугад одну из пачек и положила перед собой на стол.
Она была перетянута выцветшей красной лентой вроде тех, которые используют обычно для юридических документов, и состояла приблизительно из сорока писем, написанных одной и той же рукой. Последнее, лежавшее сверху, было датировано одна тысяча восемьсот двадцать третьим годом; самое давнее – тысяча восемьсот вторым. Письма в промежутке распределялись по небольшим пачкам разной величины: тысяча восемьсот четвертый, шестой, девятый и одиннадцатый годы. Теперь меня удивляет, почему я не обратила серьезного внимания на подобный порядок лет и на то, что он мог означать; однако я сосредоточилась на выяснении авторства.
Под большинством посланий стояла короткая подпись – «Каро», но, добравшись до самых первых, я отыскала два или три письма, подписанных «Кэролайн Бибби»; и еще одно, датированное тысяча восемьсот третьим годом, которое оканчивалось так: «Не могу выразить, с каким нетерпением жду следующей недели, когда наконец смогу подписаться: не просто „верный друг", но „любящая сестра"». Сведений о том, что произойдет на следующей неделе, нигде не нашлось, но по этой фразе и по заботливому тону письма я заключила: ожидалась, скорее всего, свадьба леди Мисден, а Кэролайн Бибби – сестра лорда Мисдена.
Я достала записную книжку, положила возле нее карандаш и взяла первое письмо. Я твердо решила бегло просматривать страницы и останавливаться, лишь увидев упоминания о Тернере, но уже через две минуты с головой ушла в подробное чтение и наслаждалась каждым словом. Наконец-то передо мной был тот яркий мир, который я надеялась найти у Хейста. Прогулки по парку и лодочные путешествия в Гринвич; завтраки и бальные ассамблеи; вечеринки, наводненные французскими émigrés; молодящиеся франты и благородные банкроты, модники в таких тугих панталонах, что они едва могут сидеть и стоять, а только расстроено семенят прочь, если их костюм критикуют или они проигрывают в остроумном обмене репликами, – и все это описано с занимательной простотой и изяществом. На протяжении одного дня Каро (я с самого начала не могла называть ее иначе и вскоре стала воспринимать как свою подругу, пишущую для моего удовольствия) играет в вист с герцогиней, которая любит только собак и азартные игры, и не укладывается в постель, но засыпает, где придется, сморенная усталостью, так что поутру слуги понятия не имеют, где ее искать; навещает пожилого мужчину в усыпанном бриллиантами парике, с нарумяненным лицом – коллекционера табакерок, умоляющего ее прибыть на вечернее свидание в его garçonnière; a затем, по пути в театр, в Вестминстере ее останавливает вооруженная камнями толпа, которая путает ее экипаж с каретой лорда Кастлриджа, а обнаружив ошибку, пишет на дверцах – «Свобода». И при этом ничто не способно вывести ее из равновесия, шокировать или лишить чувства юмора.
Я как раз начала читать описание вечера в клубе «Ол-мак» и, увлекшись, позабыла, где и зачем нахожусь, когда внезапно осознала, что больше не одна в комнате. Я подняла голову: в дверях стоял мистер Кингсетт. Я не смогла толком разглядеть его лицо, поскольку мои глаза, привыкшие к свету лампы, не сразу приспособились к полумраку, но его поза – застывшая фигура в проеме полуоткрытой двери – была позой человека, который намеревался войти в пустое помещение и теперь ошеломлен тем, что здесь уже кто-то есть. Я напомнила себе: если его жена не солгала, мистер Кингсетт должен знать о моем присутствии, и произнесла как можно беззаботнее:
– Добрый день.
Он не ответил, но продолжал глазеть на меня еще несколько секунд, потом затворил дверь, взял со стола газету и уселся на стул подле камина. Казалось, он читает, однако для чтения было, несомненно, слишком темно.
– Вы испортите глаза, мистер Кингсетт, – сказала я, надеясь, что мой голос звучит доброжелательно, но не фамильярно. – Почему бы вам не позвонить и не попросить зажечь лампы?
И вновь он не ответил. Поэтому я продолжила:
– Может быть, вы позволите мне зажечь их для вас?
Я не сомневалась, что уж теперь-то он должен отреагировать – но мистер Кингсетт просто-напросто продолжал изображать читающего человека, и, казалось, вовсе меня не слышал.
Я решила не дать себя запугать и возвратилась к работе; но присутствие мистера Кингсетта ужасно меня нервировало, а его поведение так оскорбило, что я почти не могла сосредоточиться. Внезапно этот мир снова приобрел реальные очертания, а мир Каро – казавшийся до того романтическим воплощением моих лучших мечтаний, словно прекрасная театральная постановка, – стал отдаленным и чуждым, будто Китай или Япония. Несколько раз, дочитав предложение, я сознавала, что ничего не поняла, и начинала читать заново.
Промучившись подобным образом с тремя или четырьмя письмами, я уже задумывалась, стоит ли продолжать, когда, перевернув страницу, увидела слова: «Галерея Тернера». Я посмотрела внимательнее, дабы избежать ошибки, а потом, вновь охваченная воодушевлением, переписала весь отрывок:
Так или иначе, моя дорогая, я полагаю, что ты можешь считать себя счастливой, поскольку находишься там, а не здесь. Единственное événement достойное внимания, которое ты, к сожалению, пропустила, – открытие галереи Тернера, поистине блистательное. Никогда ранее я не видела столько выдающихся работ одного и того же мастера, собранных в одном месте. Когда входишь, то возникает впечатление, словно тебя приняли в исключительно привлекательном семействе – из которого ранее тебе были знакомы лишь две тетки и младший сын, – а теперь все вместе собрались в одной комнате. И здесь же – grand génie собственно персоной, который все это породил, он вьется над своими творениями, как птица, нe решающаяся запеть, но тем не менее демонстрирующая гостям своих любимцев.
Sur ce sujet-là, я была потрясена, узнав от мистера Перрена, которого мы встретили у выхода, что мать Тернера скончалась менее педели назад в Вифлиемской больнице. Тернер всегда молчалив (кстати, сообщи мне, когда он будет в более оживленном расположении духа), и когда я припомнила события этого дня, то мне пришло в голову, что, пожалуй, Тернер был еще молчаливее, чем обычно, однако по его внешности и манере держаться вы бы никогда не догадались о недавно постигшем его прискорбном ударе.
Закончив переписывать, я вновь обратилась к дате – 21 апреля 1804 года – и отложила карандаш, чтобы продолжить чтение. Проделывая все это, я заметила краем глаза какое-то движение и, полуобернувшись, увидела мистера Кингсетта, встающего со стула. Я страстно надеялась на его скорый уход; но он, напротив, взял из коробки на столе сигару, зажег ее и неторопливо направился в мою сторону. Приняв безразличный вид, я демонстративно углубилась в работу, но когда мистер Кингсетт остановился за моим плечом, не могла больше это игнорировать, и подняла глаза.
Он стоял, почти повернувшись ко мне спиной, засунув одну руку в карман и томно держа сигару другой, словно вознамерился всего лишь пройтись, дабы выглянуть из окна, и совершенно не замечает, что его наблюдательный пункт располагается всего в шести дюймах от другого человеческого существа. Я растерялась: вести себя так, будто мистера Кингсетта нет, казалось нелепым, но если я заговорю с ним и он вновь меня проигнорирует, то я попаду в куда более странное положение. И только когда мои глаза заслезились от сигарного дыма, я решилась заговорить: продолжая молчать, я примирялась с нарушением общепринятых норм поведения и, таким образом, оказывалась вне их действия.
– Не хотите ли вы, чтобы я передвинулась? – спросила я. – Боюсь, что я вам мешаю.
Мистер Кингсетт обернулся и глянул на меня, изумленно нахмурившись, словно услышал нечто невероятно оскорбительное. В следующий момент, не вымолвив ни слова, он придвинул свою голову к моей так близко, что мне пришлось изогнуть шею, дабы избежать прикосновения его щеки, и принялся внимательно читать мои записи.
Мгновение мне казалось, будто я сплю: подобное шокирующее поведение хозяина дома, куда меня пригласили в гости, было совершенно внове и не имело объяснения. Минуту я подозревала, что он пьян в стельку, однако – как ни несло от него табаком – в его дыхании не ощущалось ни доли алкоголя, а его бесцеремонность не имела ничего общего со стихийной агрессивностью пьяного. Она выглядела идеально выверенной и обдуманной и потому – еще более страшной: ибо пьяница, по крайней мере, вполне понятное зло; и его поступки, и сопутствующий им беспорядок – предсказуемы. Но когда трезвый человек готов действовать столь возмутительно, предугадать последствия невозможно.
Я попала в худшую ситуацию, чем у Хейста, внезапно подумалось мне: здесь у меня нет шансов убежать, нет возможности торговаться или хоть как-то исправить положение, если и дальше меня будут подвергать оскорблениям. Осознав это, я почувствовала прилив храбрости: мне, несомненно, необходимо немедленно защитить себя, иначе никакой надежды сладить с мистером Кингсеттом не останется.
Я подвинула к себе записную книжку и закрыла ее.
Он коротко вздохнул, но ничего не сказал и не взглянул на меня. Рука, державшая сигару, слегка подрагивала, просыпая столбик пепла на груду писем. Он засунул сигару в рот, а затем неторопливо нагнулся, чтобы взять мои записи.
Я опередила его и положила на обложку свою руку.
И тут он впервые посмотрел мне прямо в лицо. Я твердо выдержала его взгляд. Вероятно, я должна была испугаться, но в тот самый момент, когда я увидела его поросячий нос, вялый рот и выражение глаз – вполне осмысленное, но неуверенное и озадаченное, – я поняла: моя воля сильнее. Спустя мгновение мистер Кингсетт отвернулся и медленно покинул комнату – стремясь сохранить достоинство, с выражением усталого безразличия, казалось, говорившего: «Мне все равно, ваша записная книжка не стоит того, чтобы пытаться ее заполучить».
Но я знала, что моя победа – временная. Я так и не сумела понять, какие мотивы им двигали, но можно было не сомневаться: спровоцировав подобную стычку, он едва ли отступит. Он дважды подумает, решила я, прежде чем снова перейдет в открытое наступление, и постарается сорвать на мне злобу именно в тот момент, когда я буду не в состоянии защититься. Поэтому, скорее всего, он выждет, пока я уйду, а после спрячет или уничтожит бумаги либо откажет мне от дома. Я быстро прикинула, нельзя ли уговорить миссис Кингсетт, чтобы она, как и Хейст, разрешила мне взять письма с собой. Впрочем, ее муж, конечно же, запретит их забирать, поскольку он определенно поставил своей целью держать и меня, и письма в этой комнате, хотя наше обоюдное присутствие, вне сомнений, выводит его из себя. А если миссис Кингсетт под моим воздействием и решится поступить по-своему, я только окончательно испорчу их взаимоотношения и увеличу ее горести.
На какое-то время я позабыла и о Тернере, и об Уолтере т могла думать только о моем поединке с мистером Кингсеттом и о том, каким невыносимым окажется поражение (острота моих переживаний по этому поводу была поразительной). И почти мгновенно я поняла, что нужно делать: я должна оставаться здесь столько, сколько потребуется, и не уходить, не завершив дела.
Я вытащила часы: половина четвертого. Оглядев ящики, я попробовала прикинуть, сколько времени может занять просмотр их содержимого. Если знакомиться с бумагами совсем бегло, решила я, то на каждый ящик уйдет часа по два. Допустим, еще пару часов – в зависимости от того, много ли обнаружится, – займет переписывание нужных отрывков. То есть придется работать до девяти. Кажется, Кингсетты обедают около семи и наверняка ожидают, что к этому времени я уйду. Но если мистер Кингсетт пренебрегает условностями, то и я их отброшу. И я твердо пообещала себе не двигаться с места, пока миссис Кингсетт лично не попросит меня удалиться или меня просто-напросто не вышвырнут.
Раздумывать было некогда, следовало действовать безотлагательно. Я просмотрела оставшиеся письма Каро, болезненно сожалея о тех сокровищах, которыми вынуждена пренебречь в своем одностороннем поиске, и, не найдя больше упоминаний о Тернере, связала письма в пачку, отложила ее в сторону и взялась за следующую. На сей раз, однако, я не только не разобрала имени автора, но – из-за корявости и неразборчивости почерка – с трудом могла прочитать одно слово из трех. Я попыталась прояснить смысл написанного, используя уже разобранные буквы как образцы для расшифровки прочих, но вскоре поняла, что не могу позволить себе такой роскоши, быстро собрала листки и связала их.