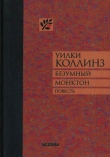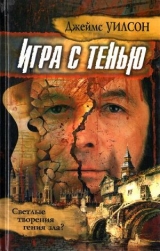
Текст книги "Игра с тенью"
Автор книги: Джеймс Уилсон
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
– Я – искусствовед, мистер Хартрайт, а не детектив. И могу только повторить, ведь я уже говорил об этом ранее: творчество Тернера пронизано таинственной тьмой, и это – тьма смерти. И еще одна темная полоса пронизывает всю его жизнь – беспросветная тьма Англии.
Помолчав, он горестно качает головой.
– Мне трудно представить, что он мог бы сделать, если бы его окружили любовью и сочувствием. Однако мы одарили его презрением. На протяжении шестидесяти семи мучительных лет мы терзали его дух – так же, как терзали дух лучших детей нации. И мы продолжаем измываться над ним, хотя он уже умер.
– Вы имеете в виду – из-за завещания?
– Ах да, завещание. Мы именуем его завещанием, ибо завещание подразумевает закон и деньги, то есть то, что вполне нам понятно. Но это – все, что мы в состоянии понять. Ведь Тернер всколыхнул в бытии слепой, измученной страны куда более глубокие смыслы – едва доступные нашему показному здравомыслию; такие, о существовании которых мы едва догадываемся. Тернер провидел наш конец, а мало кто отважится увидеть его в истинном свете. И хуже того: он осмелился любить свет – свет, на котором не проставлена цена; свет, стоимость которого нельзя высчитать усилиями всей маленькой бухгалтерской конторы, вставленной в нашу голову. И мы наказали его за это. В чем бы он ни провинился, истинная вина лежит на нас самих.
Я едва могу дышать. И шепотом произношу:
– Но во что же верите вы?
– То в одно, то в другое – как и большинство людей. Но я стараюсь добиваться предельной осознанности. Противоречить самому себе – это всего лишь принимать жизнь во всех ее противоречиях. – Он снова встает. – Разрешите кое-что показать вам.
Он берет со стола лампу и через лестничную площадку ведет в комнату, находящуюся в другой части дома. Там темно, горит только масляная лампа. К стене прислонены составленные вместе полотна.
– Это его последние работы, – говорит Раскин приглушенно, словно мы вошли в помещение церкви. – Последние творения величайшего из наших гениев. Посмотрите, как мы их ценим. – Он проводит пальцами по поверхности одной из картин и оборачивается ко мне. На пальцах блестит влага. – Посмотрите, что они могут рассказать нам о нас самих.
Раскин дает мне лампу и медленно расставляет полотна, одно за другим, дабы я хорошо их разглядел.
Я никогда не вндел
Пиши.
Ничего. Водовороты пустоты. Мазок.
Водовороты. Вас втягивает пустота.
Кружение.
Ничего.
Кружение.
Ничего.
LXIV
Из письма Мэриан Халкомб
23 – 26 декабря 185…
Суббота
Я не покончу с собой.
Но я знаю, почему люди это делают.
Ничто разумное меня от этого не удерживает.
Сегодня мы предполагали отправиться в Камберленд, чтобы присоединиться к Лоре и родным для празднования Рождества.
Вместо…
Ночью меня разбудил звук отворяющейся двери. Комнату слабо освещал камин. Мимо огня прошел мужчина, остановился и посмотрел на меня. Всего лишь нечеткий силуэт, но я тут же его узнала, – хотя увидеть его здесь и в такое время было столь же странно, как посмотреться в зеркало и узреть вместо собственного лица – чужое.
– Уолтер? – спросила я.
Он не ответил. Мне показалось, что я сплю, и я потянулась за коробкой спичек, намереваясь зажечь лампу. Уолтер немедленно кинулся ко мне и накрыл мою руку своей:
– Нет.
– Почему? – удивилась я. – Уолтер, что ты делаешь?
Уолтер промолчал и, отвернувшись от меня, присел на мою кровать. Спустя мгновение его плечи сгорбились, голова упала, и он начал всхлипывать.
– Что произошло?
Уолтер подался вперед, обхватив голову руками, плача почти беззвучно.
– Что случилось?
Он хотел заговорить, но не мог выровнять дыхание. Я погладила его по спине.
– Расскажи!
Прошло с полминуты, прежде чем он произнес:
– Бессмысленно.
– Что бессмысленно?
– Жизнь.
– Твоя жизнь? Или моя?
– Вс… – начал он и тут же осекся, хватая ртом воздух.
– Ну вот! Ты довел себя до икоты, – сказала я ласковым голосом, которым, как я слышала, говорил и сам Уолтер, утешая плачущих детей.
Но вместо утешения я спровоцировала новый взрыв рыданий.
– Нет ничего бессмысленного, – заторопилась я, сменив тактику. – Ничего!
Но, не представляя, как продолжить это утверждение, я ощущала неловкость, словно врач, пытающийся исцелить рану, которую не видит.
Поначалу Уолтер не отвечал, а потом внезапно повернулся и склонил голову мне на грудь.
Так ребенок тянется к матери. Так муж тянется к жене.
И, будто мать и жена, я стала его успокаивать. Не раздумывая. Я прижала его голову к моей щеке. Я гладила его по волосам. Я шептала: «Тсс, ну же, ну».
Уолтер затих. Я подумала, что он заснул; но вскоре ощутила: его руки сомкнулись вокруг моего тела и стали ласкать меня, как никто еще не ласкал.
Господи Боже, и о чем я только думала? Что он не в состоянии причинить мне вред? Что вполне нормально, если брат ласкает сестру подобным образом?
Правда заключается в том, что я вообще ни о чем не думала. Я просто подчинилась некоему инстинкту, который дремал во мне всю предыдущую жизнь, а теперь пробудился и руководил мною. Я тоже ласкала Уолтера – как никого раньше не ласкала. Я не уловила, когда это началось, и не представляла, когда закончится. Мы оказались вне реальности, будто кто-то отделил нас от мира и поместил в особое пространство, где можно было действовать, не думая.
Пока Уолтер не начал стягивать с меня одеяло.
– Нет, – прошептала я.
Но он не остановился.
– Нет! – повторила я громче, пытаясь оттолкнуть его.
Однако Уолтер был сильнее меня. Через мгновение одеяла оказались на полу, а Уолтер уже рвал мою ночную рубашку.
– Уолт… – начала я, но Уолтер набросил на мои глаза сорочку и не давал сбросить ее.
– Разве ты не любишь меня? – прошептал он.
Я услышала, как его ботинки упали на пол; теперь он пытался раздеться. Однако он действовал только одной рукой, медленно и неловко, и вскоре, в неистовстве, забылся и снял с моего лица рубашку.
Все эти годы я звала его братом.
Но он – не мой брат. Он – …
Он пожирал меня глазами. И видел то, чего до сих пор не касался взгляд мужчины. Но он не походил на мужчину. Его рот стал мокрым. Он задыхался. Он походил на кошку, намеревающуюся начать трапезу.
Я хотела закричать, но зачем? Единственная помощь могла прийти от Дэвидсона. И как он будет оттаскивать от меня Уолтера?
Я молила:
– Уолтер! Пожалуйста!
Уолтер закрыл мне лицо волосами и тянул их так сильно, что я едва не задохнулась.
Я замолчала. Я боялась, что он меня поранит.
Тогда я не знала, какой смысл вкладывает Святое Писание в слово «одержимость». Я полагала, что это всего лишь замена слова «сумасшествие».
Однако Уолтер был одержим. Демон подменил его, овладел его желаниями и волей. Не тот демон, назначение которого – уничтожать невинность, доверие и надежду, но демоническое существо, которое вселяется в сумасшедшего и обращает его ко злу.
И он вселился не только в Уолтера, но и в меня.
Разве происходящее не стало адской пародией на мои собственные – пусть и невольные – мысли? Разве я, втайне от себя, не мечтала иногда о чем-то подобном и, пробуждаясь, не представляла на мгновение, что Уолтер – рядом? Я и жалела себя, и кляла собственную глупость – но не могла себя возненавидишь, ибо, страдая в одиночестве, я, как умела, следовала стезе нашего Спасителя и шла за ним, взвалив на себя крест. Он умер, дабы спасти мир, и смерть моего «я» ограждала от бед тех, кого я любила.
Однако меня лишили и этого утешения. Ибо к обуявшим меня ужасу и боли примешивалось – не могу отрицать – некоторое удовольствие. Извращенное, вроде черной мессы, издевательство над радостью, о которой я грезила.
Мало того, что Уолтер предал меня, свою жену и детей. Я тоже должна их всех предать.
Уолтер закричал. То был не его голос, но вой отчаявшегося чудовища. А потом он застыл совершенно неподвижно, и я подумала: демон исчез, оставив его бесчувственным или мертвым.
Я слишком много плакала и не имела сил заговорить или позвать на помощь, но все-таки обрела возможность двигаться и оттолкнула его.
В тот же миг, не вымолвив ни слова, Уолтер встал и покинул комнату.
Мое ощущение времени искажено. Как и ощущение всего на свете.
Через минуту постучала миссис Д.:
– Простите, мисс, но мы обеспокоены…
Чем же?
Я взглянула на часы: половина одиннадцатого.
– Извините, я нездорова, – ответила я.
– О Боже. Принести вам что-нибудь, мисс?
– Нет. Благодарю вас.
– Я вызову доктора Хэмпсона?
– Я хочу просто отдохнуть.
– Хорошо.
Шаги удаляются, затем возвращаются.
– Мистер Хартрайт предупреждал, что уйдет рано, мисс?
– Мне ничего об этом не известно.
– Но сегодня утром он не спустился к завтраку. А Дэвидсон говорит: его нет ни в спальне, ни в мастерской.
Я вымылась. Я мылась и мылась. Но я не решилась посмотреть на себя в зеркало.
Не могла даже молиться.
Позже
Уже больше половины пятого. Снова миссис Д. Уверена ли я, что мне ничего не нужно? Да. Еще какие-нибудь просьбы? Да – нельзя ли послать моей сестре телеграмму и предупредить, что мы задерживаемся? Хорошо.
Пауза. Потом: мистер Хартрайт до сих пор не возвратился. Как я полагаю, потребуется ли ему обед? Я не знаю.
Надеюсь, нет.
Пусть ходит голодный. Пусть осознает: двери этого дома для него навеки закрыты. Пусть поймет, что его деяние лишило его защиты общества, домашнего уюта, любви домочадцев, уважения друзей.
Пусть он страдает.
Еще позже
Ровно полночь. Уолтера до сих пор нет.
Я чувствую себя так, будто провела без отдыха две бессонные ночи подряд. И начинается третья бессонная ночь.
И у каждой ночи – свой настрой. У первой – ужас. У второй – ярость. У третьей…
Что?
Я застыла на краю безбрежного океана, уходящего за горизонт. Проживи я хоть тысячу лет, я не смогу пересечь его.
Какая печаль.
Бродит ли он где-то, замерзший и жалкий, почти сумасшедший? Терзаемый ужасом содеянного, не знающий, что предпринять?
Или он мертв?
Шесть часов назад подобное предположение меня бы только осчастливило. Шесть часов назад я бы с радостью его убила, если б под рукой нашлись средства.
Дабы знать: он наказан. И никогда более не страдать из-за необходимости видеть его, говорить с ним. И убедиться: в итоге именно моя сила победила.
Но сейчас я не могу не вспоминать о нем: о прежнем Уолтере, а не о том, каким он предстал прошлой ночью. Или, точнее, о многих Уолтерах – ведь за минувшие десять лет он был для меня другом, учителем, доверенным лицом, коллегой и братом. И во всех его ипостасях я вручала именно ему – и никому другому – заботу о моей чести и жизни.
Что же подвигло его на этот поступок?
Должна ли я винить себя в чем-то?
Воскресенье
Я едва могу держать ручку.
До сих пор я не знала ни такой ярости, ни такого стыда.
Прошлой ночью он не вернулся. Сегодня утром, в девять часов, я заставила себя спуститься в мастерскую, предположив, что Уолтер мог пройти через садовые ворота и отправиться в мастерскую, а не в дом.
Но он не приходил. Воздух был холодным и затхлым. Огромная мрачная картина стояла на мольберте и казалась не более завершенной, чем раньше. Дотронувшись до ее поверхности, уже подернутой пленкой, я ощутила: краска еще влажная,
Когда я отходила от картины, то задела ногой что-то тяжелое под рабочим столом Уолтера. Я не. поняла, что именно, поскольку предмет скрывала старая простыня, которую Уолтер использовал вместо покрывала. Я нагнулась и приподняла ее.
Под ней, притиснутый к ножке стола, помещался маленький ящик для деловых бумаг.
Я вытащила его. Ящичек был блестящий, чистенький, очень легкий, и поначалу я решила, что он пуст. Возможно, Уолтер совсем недавно его приобрел и еще не использовал. Либо вынул содержимое и унес с собой.
Однако, ставя ящичек на место, я услышала, как что-то скользнуло по его дну и ударилось о стенку.
Не просто листы бумаги. Слишком твердый предмет.
Дневник?
Я обыскала комнату в поисках ключа. Открыла ящики, заглянула в треснувший кувшин, где Уолтер держал свои кисти, подняла ковры. Ничего.
Я отнесла ящичек в дом и велела Дэвидсону вскрыть его. Поначалу тот отказывался, но когда я сказала: «Это может спасти жизнь мистера Хартрайта», – немедленно отыскал кочергу и принялся за дело с энтузиазмом, ибо чрезвычайно, хотя и втайне, тревожился об Уолтере и ощутил большое облегчение, получив возможность ему помочь. Когда ящичек взломали, я забрала его в свою комнату и заперла дверь.
Внутри не обнаружилось ничего, кроме простой записной книжки. Я наудачу открыла ее. И увидела строчки: «Посторонние могут читать прочие записи. Но никто не должен читать этого».
Я чуть вздрогнула, почувствовав горечь мести.
И сказала себе, что должна оставаться бесстрастной, подобно доктору, обследующему пациента с одной только целью: определить, какая болезнь так ужасно его изменила.
Но я не смогла выполнить свое решение. Читая первые страницы, я держала себя в руках, но затем наткнулась на строки, которые моментально обрушили все мои хрупкие намерения и заставили дрожать и плакать. Добравшись до того места, где описывались события, произошедшие после похищения моего ридикюля, я ощутила приступ тошноты, и меня вырвало в умывальный таз.
И до сих пор не могу осознать до конца все те подробности, о которых прочитала.
Однако теперь я хотя бы отчасти понимаю, что заставило Уолтера действовать именно так, как он действовал.
И я, без сомнения, должна разделить ответственность
Закончив читать, я снова пошла в мастерскую. Нашла скальпель, которым Уолтер точил карандаши, приблизилась к отвратительной картине и кромсала ее до тех пор, пока она не превратилась в ворох цветных обрывков.
Потом я собралась с силами и написала Лоре:
«Уолтер неважно себя чувствует.
Должен на некоторое время остаться в Лондоне.
Приедет сразу же, как только сможет».
Бедная моя сестра.
Позже
После раннего ланча (состоявшего лишь из тарелки супа и хлеба, которые подкрепили, однако, мои силы и убедили миссис Дэвидсон, что я вполне способна выйти из дома) я возвратилась в свою комнату и облачилась в траурное платье. Больше всего я боялась случайных прикосновений, поскольку моя кожа стала чрезвычайно чувствительной, и я ощущала дурноту из-за самого легкого касания. Траурная одежда, как я предполагала, сможет меня защитить, ведь люди инстинктивно сторонятся проявлений горя. И если я внезапно заплачу (а в последние дни это случалось нередко), черная вуаль извинит и отчасти скроет мои слезы. Дождавшись на лестничной площадке, пока Дэвидсоны скроются в кухне (объяснять им, почему я так одета, было мне сейчас не по силам), я тихо сошла вниз и вышла на улицу.
Я не имела определенного плана, но не сомневалась в том, что любые действия – пусть и бесполезные – предпочтительнее пассивного сидения в комнате, наедине с мучительными переживаниями и с дневником Уолтера перед глазами. Я рассчитывала обрести бодрость, пройдя через парк, но, когда оказалась на улице, поняла, как холодно вокруг и как скользко под ногами. И все-таки я дошла до конца дороги (там меня не могли видеть домашние) и огляделась в поисках кэба.
Но никаких кэбов поблизости не оказалось. Или, вернее, повсюду виднелись кэбы, которые мне не подходили: все они были уже наняты. Я наблюдала, как экипажи почти непрерывным потоком следовали мимо: мужчины направлялись по делам; матери возвращались из магазинов с подарками для детей; слуги, посланные впопыхах за бутылкой шерри, стаканами или окороком на завтра, торопились исполнить поручение.
Все в делах. Все спешат. Куда же двинусь я?
Переминаясь с ноги на ногу и потирая руки, спрятанные в муфту, минут пятнадцать я предавалась размышлениям. Я уже не надеялась найти выход и отчаялась отыскать средство передвижения, которое доставило бы меня к цели, когда на противоположной стороне улицы остановился двухколесный экипаж, и женщина, нагруженная свертками, вылезла из него. В то же мгновение я поняла, что делать.
Перебежав через дорогу, я окликнула кэбмена:
– Вы свободны?
Он кивнул.
– Куда вам, мисс?
– На Фицрой-сквер. А потом – куда я вам скажу.
Возница поглядел на меня с любопытством, но снова кивнул.
– Зависит от того, сколько у вас денег, – сказал он с небрежной самоуверенностью человека, который отыщет нового пассажира куда быстрее, чем я – другой кэб. – Садитесь.
Я, конечно же, вовсе не собиралась заезжать к Элизабет Истлейк. Уолтер мог находиться где угодно, но не у нее. Кроме того, я находилась в таком состоянии, что леди Истлейк выудила бы все мои секреты за десять минут, а я не имела никаких шансов узнать о ее тайнах.
Однако именно с дома номер семь на Фицрой-сквер начались наши поиски, и я ощутила безотлагательную необходимость увидеть этот дом снова – вновь повидать все те места, куда приводил нас розыск сведений о Тернере. Возможно (впрочем, я не отдавала себе в этом отчета), причиной тому стала моя наивная вера в совпадения: я надеялась найти Уолтера именно там, где мы с ним уже встречались, – так после смерти матери ребенок продолжает искать ее везде, где она когда-то бывала. Впрочем, я хотела вырваться из затянувшегося заточения в темнице своего внутреннего мира, увидеть мир реальный, – прочный, незыблемый мир из камня и кирпича, из улиц и людских толп, обрести ясность мысли, подобрать ключ к тайным размышлениям Уолтера и понять, где его искать. И, кажется, я поступила правильно.
За последние несколько дней я неузнаваемо переменилась. Раньше, собираясь навестить знакомые места, я в общих чертах представляла, что я при этом буду ощущать – восторг или печаль, облегчение или сожаление. Ныне мои чувства совсем оскудели, и все же я не могла предсказать, какая их часть окажется затронутой. Я опасалась, что вид Фицрой-сквер вызовет у меня тревогу, подавленность и даже – вопреки принятому решению – желание довериться Элизабет Истлейк. Но я никак не ожидала, что меня охватит ярость.
Внушительных размеров окна, чисто выметенные ступени, широкие парадные двери – все выглядело так же, как и всегда, словно величие и самоуверенность не позволили им заметить ту катастрофу, которая разразилась две недели назад, когда я побывала здесь в последний раз. Я была потрясена. Мне хотелось разбить стекла – расцарапать деревянные панели – испортить идеальную покраску.
Но я не вышла из кэба. Почти с ненавистью я всматривалась в особняк леди Истлей к, но уже через несколько секунд велела вознице ехать на улицу Королевы Анны. Дом Тернера располагался на прежнем месте, хотя (в отличие от жилища Истлейков) испытал все причитавшиеся ему житейские превратности. Он выглядел заброшенным и обветшалым, а окна покрывал основательный слой грязи, из-за чего они напоминали унылые бельма слепца. Неужели позади дома до сих пор помещается галерея, та самая галерея, где предавались восторгам и спорили Кэлкотт, Бьюмонт и Каро Бибби? Я представила себе их и подумала о том, что все эти яркие люди, так горячо пылавшие, столь яростно отстаивавшие свою правоту, стали за минувшие сорок лет добычей холода и забвения, словно человеческое бытие – не более чем проблеск спички, вспыхнувшей и мгновенно погасшей. И все же их жизни, судьба Тернера и наши с Уолтером злоключения успели сплестись воедино, и я отправилась за этой разматывающейся нитью, подобно Тезею, – правда, добравшись до конца нити, я вовсе не рассчитывала убить чудовище.
Эта нить провела меня сквозь Оксфорд-стрит, заполненную неспешным потоком транспорта; по Нью-Бонд-стрит, чьи ярко освещенные, украшенные веточками плюща и остролиста магазины, казалось, дразнили меня обещанием невинного веселья. Последовав за нитью на Пикадилли, я увидела Марстон-румс и на мгновение вспомнила о женщине, которую повстречал здесь Уолтер: наверное, сейчас она собирается на ночную работу – одевается, опрыскивает себя мускусом. А потом мы двинулись через Сент-Джеймс, Пэлл-Мэлл и миновали Марльборо-хаус, где нам впервые открылись невероятная красота и грозное очарование полотен Тернера.
А далее нить повела меня на Трафальгарскую площадь, обвилась там вокруг зданий Национальной галереи и Королевской академии и еще более запуталась: вобрала в себя и махинации сэра Чарльза, и страстное самоотречение Раскина, и отчаяние Хейста; и дальше – вполне естественное движение – повернула к дому Хейста, где я остановила кэб. Окна нижнего этажа были заколочены, и мысль о том, что сын Хейста окончательно проиграл битву с судебными приставами, заставила меня содрогнуться (острота моих ощущений вновь оказалась удивительной, ибо я едва удержалась от слез). Однако, взглянув наверх, я различила едва заметный огонек в окошке мансарды и, непонятно почему, неожиданно приободрилась.
Я вышла из кэба и всмотрелась в крошечный мерцающий огонек (горела не газовая лампа, а свеча) – так моряк, застигнутый штормом, смотрит на огонь далекого маяка. Вот человек, который лишен всего, что для многих составляет смысл жизни, – и он нашел в себе силы бороться. Меня охватило желание вбежать в дом и присоединиться к нему. Со времени нашей последней встречи судьба низвела меня до его положения, а возможно, даже ниже, ибо у Хейста, по крайней мере, не отняли честь. Может быть, подумалось мне, мы займемся общим делом? По-монашески строгая жизнь и совместный труд, преследующий великую цель, – вдруг они станут моим крестом и возвратят мне самоуважение?
Кэбмен, должно быть, расслышал мои всхлипывания и заметил, что я едва удерживаюсь от рыданий.
– Что-то не так, мисс? – спросил он.
Я покачала головой и забралась обратно в экипаж.
– Отвезите меня в Твикенхэм, – с трудом выговорила я.
Он уставился на меня. Я взяла кошелек и потрясла им, словно погремушкой.
– Да не об этом я подумал, мисс, – произнес он наконец и уселся на свое место.
И нить опять повела нас: мы проехали вдоль северной стороны парка – совсем недалеко от того дома, где меня оскорбил мистер Кингсетт и где он, несомненно, продолжал мучить свою жену, и двинулись в сторону Хаммерсмита, где когда-то жил Тернер. Все дороги здесь были забиты людьми, спешившими домой, праздновать лучший в году праздник; восхищенные дети стояли перед сияющими витринами магазинов и глазели на апельсины и яблоки, на тазы с золотыми и серебристыми рыбами, выставленными прямо на тротуары.
А потом – в Брентфорд, через Чизвик, мимо дома Амели Беннетт (погруженного в темноту, и это испугало меня, но я вспомнила, что здоровье мужа вынуждает Беннеттов проводить зимы у моря). И вот – Твикенхэм.
Я попросила кэбмена остановиться перед Сэндикомб-Лодж. И стала смотреть на игрушечную дверь и окна, одно из которых освещала газовая лампа; на чистенькие белые стены, на темные кусты, обступавшие стены со всех сторон. И подумала о том, чего сейчас не было видно: о подвале, где началось сумасшествие Уолтера; о зарешеченном подвальном окне, которое напомнило мне о «Заливе Байя» и привело (как я верю до сих пор) к пониманию тайны души Тернера; и к пугающему открытию тайны собственной любви.
Нахлынувшая боль пересилила все: способность говорить, плакать, двигаться. Но, парализованная болью, я осознала: худшее еще впереди, ибо мне предстоит пройти весь путь до обители Минотавра. Подобно ребенку, который готов притронуться пальчиком к чему угодно, но только не к больному месту, я кружила вокруг да около, не решаясь взглянуть правде в лицо.
И в этот момент я, кажется, поняла, где мне искать Уолтера.
Мы поехали назад – вдоль реки, через Челси, мимо коттеджа миссис Бут (Боже милостивый! И я могла думать, что деликатность помешала Уолтеру расспросить о Тернере!) – и прибыли домой. Когда я расплачивалась с кэбменом, он кивнул на мое траурное платье и произнес:
– Я не мог не заметить, мисс. Очень вам сочувствую. Всего пару месяцев назад я потерял собственную дочку.
Движимая внезапным импульсом, я спросила:
– Вы работаете завтра?
Он покачал головой:
– Должен сесть за стол, мисс, со своей миссис и малышами. Я им обещал.
– Конечно, – сказала я. – А потом?
– Ну, – произнес он неуверенно, – я мог бы выехать ненадолго.
– Вы не заедете за мной? Когда сможете?
– Очень хорошо, мисс.
Он пошел прочь, но потом обернулся:
– Счастливого Рождества!
Я ухитрилась проскользнуть в дом, не замеченная Дэвидсонами. Но, вероятно, меня все же услышали, ибо минутой позже раздался стук в дверь:
– Вам что-нибудь требуется, мисс?
– Нет, спасибо, миссис Дэвидсон.
Молчание. А потом:
– Есть новости о мистере Хартрайте, мисс?
Ее голос, переполненный тревогой, которую она не осмеливалась выразить словами, звучал напряженно.
– Пока нет, – ответила я. – Но я рассчитываю узнать что-нибудь завтра.
Боже, помоги мне.
Понедельник
У меня есть фотография Уолтера, сделанная год назад. Глядя на его открытое лицо, можно подумать: тогда он был совсем другим человеком. И все же его черты до сих пор не изменились.
Я завернула снимок в шаль, поскольку собиралась взять его с собой. Потом, ожидая экипаж, перелистала вчерашнюю «Тайме». В реке обнаружены два тела. Я быстро просмотрела описания: беременная женщина и старик в моряцкой одежде. Конечно, я испытала облегчение. И одновременно – что-то вроде невольного разочарования. Ведь смерть – это все-таки определенность. Она избавляет от дальнейших мучений.
Около четырех в дверь наконец-то постучали. Я вышла. Уже стемнело, и над улицей повис густой туман. Возница, разглядевший меня в свете ламп, издал смешок.
– Приветствую, мисс, – произнес он шутовским, но торжественным тоном и притронулся к шапке. – Лучшие пожелания.
Я не смогла засмеяться. Не смогла даже улыбнуться.
– Обед был хорош? – спросила я у него.
Он кивнул и погладил живот:
– Спасибо, весьма удовлетворительный. – Отвесив поклон, он указал на кэб. – И куда теперь, мисс?
В его дыхании я различила запах пива.
– Мейден-лейн.
Ломбард был закрыт, однако усталая женщина как раз собиралась войти в боковую дверь.
– Вам не встречался этот человек?
Женщина сощурилась. И через мгновение кивнула:
– Вчера. Рано утром. Думаю, это тот же парень. Я его помню, он был, ну, странноватый…
– Почему, что он такого сделал?
– Я не про его манеры. Он был джентльмен, о чем тут говорить. Но вот что странно – он сказал: «Мне нужна одежда, самая дешевая». И взял поношенную куртку из вельветина, да старую рубашку, да кашемировые штаны.
– Может, у него не было денег?
– Не думаю, что так. Вам бы посмотреть, в чем он пришел. Очень дорогое. А стоить должно, – она покачала головой, – даже не знаю сколько.
– Он оставил одежду здесь? – спросила я.
Женщина кивнула.
– Я заплачу шиллинг, если вы мне ее покажете.
Она отперла дверь.
Никаких сомнений. Шляпа Уолтера. Костюм Уолтера. Его рубашка без одной пуговицы, которую он оторвал в припадке неистовства.
Я отдала женщине деньги и вернулась к кэбмену.
– Нью-Грэвел-лейн, Уэппинг, – сказала я.
То было скорбное путешествие, постепенно уводившее нас от блеска и суеты Стрэнда в мир такого убожества и отчаяния, что по сравнению с ним даже Мейден-лейн могла показаться процветающей и полной надежд.
Каждый новый шаг нашего пути убеждал меня в том, что я двигаюсь в направлении, избранном Уолтером.
Ибо все это было актом отчаяния.
И пока мы ехали по Флит-стрит и Кэннон-стрит, через Истчип, мимо Тауэра, пока погруясались в кишащую крысами клетку, в моей голове звучал голос Уолтера:
«Думаю, именно там я встретил свою судьбу.
Остается только вернуться туда, найти ее вновь и предать себя ее воле».
Теперь я твердо знала: я найду его здесь.
Но не знала: живого или мертвого.
Минут через сорок мы внезапно остановились. Выглянув в окошко, я не увидела ничего, кроме тумана и блеска отдаленных огней.
– Іде мы? – спросила я.
– На Рэтклифской дороге. Нью-Грэвел – вот там. – Кэбмен прочистил горло. – Что вам там нужно, мисс?
– Я ищу своего брата.
Он тихонько присвистнул.
– Должно быть, с парнем совсем скверно.
– Да, – произнесла я, выбираясь наружу – Найдите местечко, где могла бы отдохнуть лошадь, и передохните сами. – Я вручила ему соверен на тот случай, если попаду в какую-нибудь неприятную историю и не смогу заплатить. – И ждите меня здесь же через час.
– Вы не должны идти туда одна, мисс! – запротестовал он.
Но деньги взял. И когда он снова меня окликнул, то не для того, чтобы попросить одуматься или предложить помощь; он просто поблагодарил:
– Спасибо, мисс!
Как я все это себе представляла?
Мрачные, пустынные, еле освещенные улицы. А сегодня, конечно же, каждый, кто имеет дом и семью, уже возвратился к домашним. За исключением жалких подонков, среди которых я надеялась отыскать Уолтера.
Однако это место оказалось совсем иным. Обитатели Нью-Грэвеллейн и вправду имели жалкий вид, но вместо того, чтобы прятаться в тени и одиноко страдать, они собрались большой толпой, дабы возвестить о своей участи публично. Я услышала производимый ими шум еще до того, как смогла их увидеть: крики и вопли, обрывки песен; визг терзаемой кошки; бычий рев, раздавшийся внезапно из тумана и перешедший в прерывистый хохот. Пивные и трактиры были открыты, и нескончаемый разухабистый поток пьяных мужчин и женщин изливался из дверей, пополняя хохочущую толпу, с таким шумом и безудержностью, будто настал субботний шабаш. Если бы не запертые магазины и не особый, лихорадочный, отчаянный настрой веселившихся, ничто не напоминало бы о Рождестве.
Вероятно, так отмечают Рождество в аду.
Я боялась вызвать подозрения; но, когда я попала в толпу, никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Скоро я поняла, что самое трудное – привлечь чье-то внимание хотя бы настолько, чтобы успеть задать вопрос: окружающие увлеченно пели, вопили и целеустремленно двигались по пути саморазрушения. Смутная вереница лиц – испитых и надутых, бледных и раскрасневшихся от выпивки, изъеденных паршой и обезображенных шрамами – надвигалась на меня из тумана и вновь исчезала. И если бы я даже кого-то остановила, людской поток унес бы нас в разные стороны еще до того, как я успела объясниться.
Вскоре я различила лес мачт, проступивший из тумана, и поняла, что приближаюсь к реке. Здесь толпа немного поредела, и я заметила кучку простоволосых женщин, которые болтали о чем-то, сгрудившись у самой Темзы, будто вороны в ожидании падали. Одна из них обернулась и лениво наблюдала за моим приближением. Я подняла руку, надеясь заговорить с ней.
– Я разыскиваю мужчину, – сказала я.
– Да разве все мы не тем же заняты, милочка? – ответила она.
Остальные женщины рассмеялись, и я почувствовала, как краснею под своей вуалью.
– Вот его портрет, – сказала я, развернув фотоснимок.
Женщина взяла фотографию, повернула, чтобы на нее упал свет уличной лампы, и протяжно, с присвистом, вздохнула.
– Я б тоже его искала, будь у меня такой, – произнесла женщина. Она сокрушенно улыбнулась и стала в этот миг лет на двадцать старше, потому что у нее не было зубов.
– Давай-ка посмотрим на него, Лиззи, – сказала одна из ее товарок.