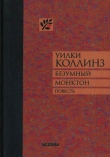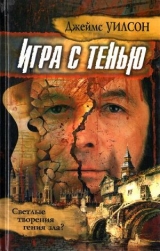
Текст книги "Игра с тенью"
Автор книги: Джеймс Уилсон
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
XLIX
Лора Хартрайт – Уолтеру Хартрайту
Лиммеридж
7 декабря 185…
Вторник
Мой милый мальчик!
Твое письмо совершенно меня напугало. Какое ужасное происшествие! Несчастный незнакомец и его несчастная жена! Мне страшно думать об этом.
Пожалуйста, мой милый, будь осторожен.
Твоя любящая жена
Лора
L
Из дневника Уолтера Хартрайта
10 декабря 185…
Сегодня подготовил холст. Пересмотрел свои рисунки. Сделал два-три подготовительных наброска акварелью.
Но я не в силах приступить к работе.
8 моем возвращении в Лондон есть что-то тревожное. Иногда – точнее, большую часть времени – я вполне в своей тарелке. Но время от времени я, кажется, начинаю смотреть на мир чужими глазами – глазами того, с кем вроде бы навсегда расстался. Но, как выяснилось, он ждал меня здесь и теперь стал еще сильнее.
Возможно, я просто-напросто страдаю от уязвленной гордости. Ибо мне кажется, что мне велели явиться сюда, словно цирковому животному, дабы я проделал трюки перед леди Истлейк и отбарабанил слова Мэриан, как свои.
Я должен заставить себя взяться за картину. Если я справлюсь с этой работой, то узнаю о Тернере больше, чем псе они.
LI
Из дневника Мэриан Халкомб
3 декабря 185…
Слава Богу. Мои молитвы услышаны.
До чего легко меняется наше настроение! Если бы двенадцать часов назад я могла предвидеть, в каких обстоятельствах буду писать дневник, мне, наверное, грозила бы потеря рассудка. Но вместо этого мое сердце преисполнено благодарности – ибо мои потери не идут ни в какое сравнение с тем, что я считала утраченным, однако обрела самым чудесным образом.
Итак, буду верна себе и примусь за работу.
Глядя с этой стороны пропасти, мне трудно узнать себя в той женщине, которая приехала вечером на Фицрой-сквер. Я равнодушно (будто посторонний человек) наблюдаю: вот Уолтер помогает ей выйти из кэба; вот она оглядывает с надеждой входную дверь; а потом целую минуту или больше разглаживает платье, поправляет капор, подбирает юбки, словно смявшиеся складки, сбившаяся прическа, пятнышко грязи – худшее из возможных несчастий. Подобная мелочность достойна презрения; но все-таки я испытываю к этой женщине жалость, ибо знаю, о чем она в своей беспечной невежественности и не подозревает: ее тщеславию вот-вот нанесут удар.
Из приглашения Элизабет Истлейк я заключила, что мы будем обедать наедине с ней и ее мужем, но, войдя в гостиную, с изумлением обнаружила там еще двух гостей. На первый взгляд они могли показаться почтенной семейной парой; седовласые, с безупречными манерами, они, скорее всего, принадлежали к интеллектуальной, а не фешенебельной части знакомых Истлейков. Она оживленно о чем-то рассказывала, а он склонился к ней вежливо, с напряженным выражением лица плохо слышащего человека, который старается не привлекать к этому недостатку внимания; и то, как они стояли, подсказывало: они не очень хорошо знакомы. А когда они прервали беседу и обернулись, дабы быть нам представленными, я поняла, что на самом деле она старше его лет на двадцать. Благодаря живому характеру манеры и внешность женщины оставались не по возрасту молодыми; в то время как мужчина лет пятидесяти (по какому-то странному закону контраста) двигался к старости настолько быстро, насколько позволяли его одеревенелые конечности.
– Миссис Сомервилль, – представил сэр Чарльз, – вы, полагаю, не знакомы с мисс Халкомб.
Я, конечно же, знала ее имя (невозможно провести хотя бы десять минут в компании столь ученой женщины, как Элизабет Итслейк, и не услышать о миссис Сомервилль хотя бы однажды) и, пока мы обменивались рукопожатиями, отчетливо ощутила, какая большая честь – познакомиться с ней. Одновременно я почувствовала разочарование: значит, Истлейки сочли вечер в нашем обществе недостаточно интересным и, принимая пас, всего лишь исполняли очередную публичную обязанность, скрашенную присутствием других гостей.
– Миссис Сомервилль – мистер Хартрайт, – пробормотал сэр Чарльз. – Мисс Халкомб – мистер Кассонс.
В следующий момент мое разочарование сменилось настоящим ужасом. Когда я повернулась к мистеру Кассонсу, в поле моего зрения попала еще одна новоприбывшая пара. Поначалу я не поверила своим глазам, но, посмотрев внимательнее, удостоверилась.
Мистер и миссис Кингсетт.
Не знаю, заметил ли мистер Кассонс мое потрясение, поскольку прочесть что-либо на его лице не представлялось возможным. Он был рослый представительный мужчина, его высокий лоб обрамляли легкие пряди волос, а глаза казались настороженными и неулыбчивыми.
– Здравствуйте, – произнесла я.
– Здравствуйте.
Я болезненно ощущала присутствие Кингсеттов и лихорадочно соображала, как вести себя с ними. Но не имея возможности немедленно отойти от мистера Кассонса и сохранить при этом вежливость, я медлила, ожидая, что он поддержит разговор. Он, однако, не проявлял ни малейшего желания беседовать и продолжал смотреть на меня – упорно, но при этом без всякого интереса, отчего возникло впечатление, будто на самом деле он меня не видит, а ждет, не появится ли из дырки в полу и не промчится ли по ковру мышь либо кролик. Спустя пятнадцать минут я почувствовала себя свободной – ведь мужчина, претендующий на внимание женщины, должен или поддерживать разговор, или отказаться от всяких претензий. Пробормотав извинение, я покорилась неизбежности, то есть повернулась к Лидии Кингсетт.
Я сразу же поняла, что со дня нашей последней встречи ничего не переменилось. Она выглядела еще более измученной, чем обычно, а ее руки, сжавшие мои, были почти ледяными. Впрочем, наша встреча ее, несомненно, порадовала, она даже сумела выдавить из себя улыбку и с трогательным пылом произнесла:
– Мисс Халкомб, мисс Халкомб, я так…
Поймав взгляд мужа, она осеклась.
– Вы – как? – переспросила я чуть фамильярно и рассмеялась, пытаясь ее приободрить. – Продолжайте, рассказывайте.
Миссис Кингсетт замялась, покачала головой, уставилась в пол. Притронувшись к ее запястью, я склонилась к ней, словно к испуганному ребенку:
– Ну же?.
Однако она продолжала молчать. Возникла неловкая пауза, и я ощутила на себе взгляд ее мужа, обжигающий, словно огонь, вынуждающий меня обернуться и выяснить, почему она замолчала. Я попыталась сопротивляться, но любопытство оказалось сильнее.
Увидеть его вновь было достаточно неприятно, словно я вдохнула полузабытый, но отвратительный запах. Но хуже всего было то, как он меня разглядывал – с такой бесцеремонностью, что другие мужчины должны были бы это заметить и вмешаться. Мистер Кассонс, однако, продолжал озирать мир с высоты своего роста, а Уолтер и сэр Чарльз оживленно беседовали, поэтому мне пришлось самой осадить Кингсетта и грозно сдвинуть брови.
К моему изумлению, вместо ответа он высунул язык на дюйм или два; неторопливо, с отвратительной непристойностью, провел по нему пальцем – и продолжал глазеть на меня с бесстыдной ухмылкой. Если бы кто-то заметил его действия (но этого, без сомнения, не произошло), то не мог бы не увидеть в них свидетельства нашей былой близости. Несмотря на полную невинность, я отчаянно покраснела.
На мгновение я остолбенела; а затем, увидев, как он начал продвигаться ко мне, намереваясь протянуть только что облизанную руку, быстро развернулась в другую сторону. На мое счастье, Элизабет Истлейк беседовала с Уолтером, поэтому я без угрызений совести вмешалась в их разговор и отвела ее в сторону.
– Пожалуйста, – попросила я, – попросите мистера Кингсетта не сопровождать меня вниз, в столовую.
– Почему? – спросила она удивленно, бросив беглый взгляд в его сторону.
– Позже я объясню вам, – быстро прошептала я, поскольку мистер Кингсетт изменил курс и снова направлялся к нам.
Леди Истлейк кивнула и, верная себе, незамедлительно обернулась, дабы перехватить мистера Кингсетта И дать мне возможность спастись. Не знаю, что она ему оказала, но, когда спустя несколько минут она шепнула сэру Чарльзу несколько слов и выскользнула из комнаты (вероятно, намереваясь переменить на обеденном смоле карточки с именами), мистер Кингсетт больше не пытался ко мне приблизиться.
Я стояла в углу, молча себя поздравляя. Мои надежды могли не сбыться, а вечер – стать скучным и бессмысленным, но я, по крайней мере, избежала худшего из грозивших мне зол.
Так мне казалось.
Я избавилась от мистера Кингсетта; однако во всех прочих отношениях обед вышел отвратительным, чего я опасалась. В качестве платы за избавление меня посадили рядом с мистером Кассонсом, который на протяжении всего обеда выказывал столь же мало желания разговаривать, как и раньше. Я попыталась пробить стену молчания парой тривиальных замечаний, но с тем же успехом можно было бы швырять камушки в стену замка, ибо мистер Кассонс, несомненно, считал разговоры пустейшим занятием и только фыркал и огрызался, словно я мешала его деловой встрече с супом.
Сэр Чарльз сидел справа от меня и был приятным соседом; но ему самому пришлось спасать миссис Сомервилль от мистера Кингсетта, который – благодаря произошедшей перестановке – оказался теперь между нею и леди Истлейк. Впрочем, Кингсетт хранил почти такое же молчание, как и мистер Кассонс, – но не от равнодушия, а из-за скверного характера. Когда речь заходила о фотографии, линзах и оптических эффектах, общая беседа оживлялась, а поскольку мистер Кингсетт плохо во всем этом разбирался (тема оказалась буквально выше его понимания, ибо леди Истлейк была выше его дюйма на три), то он всемерно старался помешать беседующим. Едва кто-то из его соседей раскрывал рот, Кингсетт вздыхал, начинал ерзать на стуле, постукивать ножом и вилкой; либо рассеянно устремлял взгляд в пространство; либо слушал с глупейшей самодовольной улыбкой, которая заявляла: «Все это ерунда, не достойная моего внимания». Однако основным его занятием стало терроризирование собственной жены: он смотрел на нее с таким нескрываемым отвращением и презрением, что несчастная женщина, почти парализованная страхом и страданием, еле реагировала на многократные попытки Уолтера развлечь ее. Я, не отрицаю, радовалась тому, что не стала объектом неустанных преследований Кингсетта, но не могла не ощущать растерянности и злости – будто меня вынудили стать свидетельницей неравного сражения, но помочь терпящей бедствие стороне я ничем не могла.
Кроме того, меня преследовала еще одна, правда, менее болезненная мысль: как объяснить происходящее Уолтеру? Беспечная и веселая манера поведения Уолтера свидетельствовала о том, что он ничего не замечает, а собравшееся общество восхищает его. Однако пару раз он бросал на меня с противоположной стороны стола изумленный взгляд, вопрошавший: «Неужели ради этого ты вызвала меня в Лондон?» Я не знала, как ответить, и могла только честно признаться: видимо, я переоценила интерес леди Истлейк к моим идеям и ко мне лично. Полгода назад такое предположение показалось бы мне совершенно естественным – более того, я бы поспешила сделать соответствующее признание, ожидая, что леди Истлейк станет меня разубеждать и прольет бальзам на мое раненое самолюбие, – но теперь нас разделила пропасть, и я не могла поступить подобным образом.
И только однажды разговор принял то направление, которого я ждала. Миссис Сомервилль и сэр Чарльз предавались совместным воспоминаниям об Италии, когда (уже минут пять ко мне никто не обращался) миссис Сомервилль решила проявить сострадание:
– Вы знаете Италию, мисс Халкомб?
– Боюсь, не очень хорошо.
– Но это необходимо, необходимо. Я вынуждена жить здесь из-за здоровья мужа. Впрочем, не такая уж это жертва.
Она рассмеялась, а сэр Чарльз улыбнулся и кивнул в знак согласия.
– Архитектура, – продолжила она, – пейзажи… – Она покачала головой, словно возвышенная красота Италии была превыше всяких описаний. – И удивительный свет. Совершенно необычный.
– Да, несомненно, – произнесла я и решила воспользоваться случаем. – Не потому ли Италия так привлекала Тернера?
– О, несомненно, несомненно. Я часто с ним об этом беседовала.
Миссис Сомервилль умолкла и занялась едой. Но прежде чем она снова заговорила, сэр Чарльз мягко спросил:
– А вы, я полагаю, тоже любите Италию, мистер Кассонс?
– Простите?
– Вы любите Италию?
Мистер Кассонс откинулся назад, осмотрелся и вспомнил о своей значимости. У него появился шанс, и он его не упустит.
– Не люблю! – прогудел он чрезмерно громким голосом глухого. – Отвратительная грязь. Коррупция. Италию даже убогой не назовешь.
И он пустился в бесконечные и пространные воспоминания о том, как ему пришлось отправиться по делам (иначе ноги бы его там не было) в Неаполь; и как приобрел там полотно Боттичелли «Мадонна с младенцем», об истинной цене которого продавец, простой крестьянин, не имел ни малейшего представления. И как он решил передать картину Национальной галерее вместе со всей своей коллекцией, известной под названием «Дар Кассонса».
Это, по крайней мере, стало ответом на вопрос, терзавший меня весь вечер: почему Истлейки пригласили к обеду столь угрюмого и необщительного субъекта? Но к тому времени, когда мистер Кассонс завершил свой рассказ, о Тернере окончательно позабыли.
В конце подобного ужина хозяйка обычно либо извиняется вполголоса перед гостьями, либо, сияя радостью, притворяется, будто все в порядке. Элизабет Истлейк не сделала ни того, ни другого, чем очень меня удивила (я думала, что выпавшее на нашу долю испытание не может остаться без комментариев). Впрочем, вскоре я поняла: причиной тому – не беспечность, а деликатность, ведь любые замечания усилили бы страдания миссис Кингсетт, и ей пришлось бы выслушать публичную критику в адрес мужа или делать вид, что ничего не произошло, и вежливо поддерживать беседу, каким бы ни было ее состояние. Вместо того леди Истлейк спокойно помогла ей подняться наверх (миссис Кингсетт по-прежнему пребывала в полуобморочном состоянии и опиралась о железные перила, словно старуха) и, прежде чем вернуться в гостиную ко мне и миссис Сомервилль, устроила ее в тихом уголке будуара.
– Моя бедная Мэриан, – сказала она. – Боюсь, вы ожидали совсем не этого.
– О нет, – откликнулась я, удивляясь собственному двуличию, – все было очень мило.
– Не лгите, – проговорила она с насмешливым упреком (в этот момент я услышала смех миссис Сомервилль, стоявшей рядом со мной). – Вы принесли свои заметки?
– Я…
Взгляд леди Истлейк упал на мой ридикюль; она, должно быть, разглядела выпуклость записной книжки и кивнула.
– Только по вашей просьбе… – начала я.
На ее лице изобразилось раскаяние.
– Я знаю.
– Но это ничего не значит. Возможно…
– Я так огорчена, моя дорогая. – Она импульсивно притронулась к моему локтю, а затем повернулась к миссис Сомервилль: – Боюсь, вам придется развлекать себя самим. – Она коротко глянула на миссис Кингсетт. – Вы же понимаете…
– Конечно.
Она благодарно кивнула и со спокойной сосредоточенностью врача, направляющегося к пациенту, направилась в сторону будуара.
– Я не сомневаюсь, что мы отлично справимся, мисс Халкомб, не правда ли? – произнесла миссис Сомервилль.
Она уселась на диван и погладила обивку рядом с собой:
– Присаживайтесь, пожалуйста. Кажется, сегодня у меня проблемы со слухом.
Я устроилась рядом с ней. Она заговорщицки улыбнулась.
– Только представьте, каково пришлось мужчинам, – сказала она, сделав ударение на слове «мужчины», что подразумевало: «Мы хотя бы не страдали от этого».
Я рассмеялась и подвинулась к ней. Наконец-то, подумала я, появилась возможность получить от этого вечера хоть какую-то пользу. Однако прежде чем я решилась вновь заговорить о Тернере, миссис Сомервилль сама облегчила мне задачу:
– Могу ли я узнать, чему посвящены ваши записки? Я коротко объяснила.
– Истлейки всегда слишком заняты, – произнесла она с мягкостью человека, который пытается оправдать поведение друзей. – Они героически пытаются всюду успеть, действительно стараются, но… – Она качнула головой. – Но я с удовольствием выслушаю ваши соображения, если вы, конечно, мне их доверите.
Я с некоторым трепетом достала записную книжку.
Я начала со своих или, точнее, с наших – придерживаясь версии, согласно которой наши с Уолтером взгляды совпадали, – самых ранних изысканий. И первая же реплика миссис Сомервилль вселила в меня надежду. Когда я заговорила об отношениях Тернера с художественным миром эпохи Регентства и о том, что стало причиной его бережливости, она одобрительно кивнула и пробормотала: «Да-да, как это верно». Моя трактовка характера Тернера – его уязвимости для критики; стеснения по поводу неуклюжей внешности и недостаточно гладкой речи – порадовала ее еще больше. Она с восторгом захлопала в ладоши, когда я произнесла заключительные слова:
– Не удивительно поэтому, что он старался ускользнуть от глаз общества и не огорчался, если люди считали его неудачником и глупцом, но оставляли при этом в покое.
– Блестяще, мисс Халкомб! – вскричала она. – Могу я узнать: эта фраза принадлежит вам или брату?
– Простите?
– «Ускользнуть от глаз общества».
– Полагаю, фраза моя, – ответила я. – Хотя мне кажется, что она не слишком выразительна.
– Вовсе нет, – сказала она. – Фраза очень удачная. Бдительные глаза. Холодные глаза. Пристрастные глаза.
Вероятно, у меня был озадаченный вид. Миссис Сомервилль улыбнулась и дотронулась пальцем до уголка глаза, будто поясняя свою мысль:
– Именно этого он боялся. И это же его завораживало.
Я не до конца ее поняла; однако внезапно, словно пометка, сделанная на странице книги, дабы облегчить дальнейшее чтение, в моей памяти всплыли призрачные очертания одной из кукольных фигур с полотен Тернера.
– И он очень серьезно ко всему относился. Пожалуй, немногие из моих знакомых, если не считать ученых, проявляли такой интерес к оптике, к теории света и цвета. И он так легко схватывал главное. Стоило посмотреть на него у Роджерса…
– Роджера? – переспросила я. Но еще до того, как она ответила, я поняла, что ослышалась. – Вы имели в виду Роджерса?
Миссис Сомервилль кивнула.
– Банкира, – уточнила я, поскольку леди Истлейк неоднократно о нем вспоминала.
– Думаю, он предпочел бы остаться в людской памяти поэтом, – произнесла миссис Сомервилль с задумчивой улыбкой. – Что бы ни происходило, мы регулярно встречались в его доме. Мы с мужем, Хершел, Фарадей, Бэббедж, Том Мор, Кэмбелл. И Тернер мог рассуждать о любом из наших профессиональных занятий с большой осведомленностью.
– В самом деле? – откликнулась я в изумлении, ибо это совершенно противоречило впечатлениям, почерпнутым мною из бумаг леди Мисден.
Она кивнула.
– Многие из великих людей, которых я знала, – а Тернер был, бесспорно, великим человеком – были столь же разносторонними. И это заставляет меня думать, что гений – не столько яркая одаренность в какой-то одной области, но совокупность духовных и интеллектуальных сил, приложимых куда угодно. Выбери Тернер иной путь, и он стал бы успешным ученым либо инженером. Так или иначе…
– Но почему тогда он слыл косноязычным?
Миссис Сомервилль пожала плечами:
– Вероятно, ему было трудно говорить перед большой аудиторией. Но не в компании друзей, когда он чувствовал себя непринужденно. – Она замолчала, остановленная внезапным воспоминанием. – Недовольны были только тупицы, неспособные подняться до его высот. Я помню, как однажды мы отправились на conversazzione, и меня атаковал джентльмен, который мог говорить лишь о капиталах и цене на зерно. Тернер приблизился к нам и извлек из кармана желтый носовой платок.
– Так вот, миссис Сомервилль, – заявил он, к моему удивлению, искусно имитируя грубоватое произношение кокни, – это, по-вашему, что?
– Носовой платок, конечно.
Он спрятал платок в карман:
– И где он?
– В вашем кармане.
– И какого он цвета?
– Желтого.
– Вы уверены?
Я уже начала посмеиваться, поскольку догадывалась, что у него на уме, однако ответила:
– Конечно.
Он погрозил мне пальцем и покачал головой:
– Сознание несовершенства нашего восприятия – одно из необходимых условий изучения природы, поскольку нам известно: ни один из объектов не явлен нам в истинном виде. И все цвета – лишь сиюминутная игра света на поверхностях предметов, да и сам свет – нематериален.
Нет необходимости говорить вам, мисс Халкомб, что во время этого представления мой занудный компаньон переминался с ноги на ногу, закатывал глаза и в конце концов не сдержался:
– Простите, но я не могу не назвать все это, – изрек он, – форменной тарабарщиной.
– Даже так? – спросил Тернер. – Но тогда вам стоит прочитать книгу миссис Сомервилль.
Она рассмеялась, и в глазах ее мелькнула заговорщицкая искорка, словно я участвовала в их с Тернером маленьком розыгрыше, а не пребывала в том же затруднении, как и джентльмен, толковавший о капиталах и цене на зерно (к моему стыду, я должна была признать свое положение таким же).
– Простите, – пробормотала я, – но…
– Тернер процитировал, почти слово в слово, книгу «О физических науках».
– Боюсь, что не вполне понимаю, – сказала я. – Возможно, вы объясните?…
– Я имела в виду специфику научного подхода, – пояснила она, – которая, полагаю, не вполне удовлетворяла Тернера. Хотя он придавал науке большое значение.
– Потому что?… Потому что?… – поторопила я, ожидая услышать еще что-нибудь, прежде чем заговорить самой.
– Потому что мысль, как производное ума, заведет нас слишком далеко, – произнесла миссис Сомервилль, помолчав. – А потом мы исчерпаем ее возможности. Лично я уповаю на веру, ибо соразмерность и взаимосвязанность знаний, почерпнутых нами благодаря математике, вполне убеждает меня в… – она поколебалась, подбирая слова, – в единстве и всеведении Божества. Однако Тернер, подозреваю, был лишен подобного утешения.
– Он был неверующим?
– Мы об этом не говорили, – кратко сказала она. – Но, думаю, Тернер увидел хаос и разрушение, царящие в природе, прежде, нежели осознал ее красоту; вернее, он узрел и то и другое одновременно – как проявление одной страшной силы. И наша неспособность постичь и обуздать эту силу стала для него унизительным проявлением извечной людской бессмысленности.
– Очень интересно, – сказала я.
Я начала излагать собственные соображения, которые вроде бы перекликались с мыслями миссис Сомервилль: детские впечатления Тернера; сумасшествие матери; боязнь стихийных бедствий – столь естественная, человеческая. Однако, к моему огорчению и разочарованию, она слушала меня с возрастающим неодобрением и, когда я закончила, сказала:
– Простите, если я покажусь старомодной, мисс Халкомб, но мне кажется, что биограф должен придерживаться безусловных фактов, а также воспоминаний людей, хорошо знавших того, о ком он пишет. – Миссис Сомервилль говорила сдержанно, но два красных пятна на щеках вьщали ее раздражение. – Вы же, по-моему, не придерживаетесь ни того, ни другого правила, а занимаетесь беспочвенными домыслами.
Я намеревалась защитить себя, но тут вошли мужчины.
Не могу точно сказать, что произошло далее и в какой последовательности; поскольку именно с этого момента (или мне так сейчас кажется) будничный мир внезапно сменился кошмаром, движимым путаной логикой сновидения. Я помню мистера Кингсетта – очень пьяного, спотыкающегося о коврик у камина; помню леди Истлейк, появившуюся из будуара со словами:
– Надеюсь, джентльмены, вы будете развлекать нас, ибо нам стало как-то невесело.
Помню миссис Кингсетт, маячившую за ее спиной, будто призрак.
А потом – все мы сидим, и один из мужчин рассказывает о новом американском медиуме по имени мистер Маст, который потрясающе популярен у модных леди Лондона, «потому что не стучит и не вертит столы, подобно другим, а говорит голосами умерших». Леди Истлейк смеется:
– Люди слишком легковерны.
Но сэр Чарльз упоминает о миссис Такой-то, клянущейся, что с ней говорил ее умерший сын.
– Чем плохо, – говорит сэр Чарльз, – если это приносит ей успокоение?
Леди Истлейк фыркает.
Мистер Кингсетт бросает взгляд на жену и говорит:
– Мы ведь можем постоянно пользоваться услугами мистера Маста, дорогая, разве нет? Чтобы общаться с твоей матерью. Если ты услышишь, как она меня ругает, твое настроение поднимется.
Потом – замешательство: короткие возмущенные вздохи; плач миссис Кингсетт; мистер Кингсетт сообщает, что жена нездорова и должна ехать домой; Уолтер и я хором предлагаем отправиться с ними (мысль о том, что они окажутся наедине, запертыми в кэбе, невыносима); мистер Кингсетт заявляет, что это совершенно излишне; леди Истлейк благодарит нас и настаивает на нашем участии.
Дальше – на улице: мы усаживаем миссис Кингсетт в экипаж Истлейков. А потом ее муж, словно он еще недостаточно меня оскорбил, внезапно обнимает меня за талию и говорит (зачем?): «Пожалуйста, мисс Халкомб, мы и сами прекрасно справимся».
А потом, когда я взяла себя в руки и поставила ногу на ступеньку, происходит то самое: из ниоткуда возникает фигура, и слишком близко от себя я ощущаю темную, теплую массу, окутанную запахом джина и грязной одежды. Сильный рывок у запястья, и моя сумочка исчезает.
Топот шагов убегающего. И еще топот. Уолтер кричит: «Стой, вор!» – бежит следом и скрывается за углом площади.
Я плакала. Меня трясло. Я не могла справиться с собой. Элизабет Истлейк была очень добра; она сидела возле меня, предложила остаться на ночь. Но когда минул час, а Уолтер не вернулся, я поблагодарила ее и отправилась на Бромптон-гроув в надежде найти его там.
Но не нашла.
Я не могла спать. Я сидела за письменным столом и ждала, не послышится ли звук отпираемой двери, – так же, как во время нашей поездки в Сэндикомб-Лодж.
Но царила тишина.
Я старалась не думать о том, что могло случиться, но не могла отогнать от себя образ Уолтера – возможно, раненого, убитого, покалеченного в каком-то ужасном происшествии. И это, без сомнения, стало следствием моих действий.
Если бы я была осмотрительнее. Осторожнее. И не знакомила его с Элизабет Истлейк.
Занявшись дневником, я, наверное, отвлеклась бы, но не могла заставить себя взяться за него.
Я молилась: «Возврати мне его, я буду хорошей. Верни мне обычную жизнь, и я приму ее с радостью; никогда больше не посетую на нудную работу, бремя обязанностей, боль разочарований».
Незадолго до рассвета я вздремнула. Меня разбудил звук, донесшийся из сада. Выглянув в окно, я увидела свет в окне мастерской Уолтера.
Даже не подумав о том, что веду себя как налетчик, я сбежала по лестнице, выскочила на улицу и распахнула дверь.
Уолтер стоял перед большим холстом, покрытым черно-красными мазками. Он был небрит, с синяками на щеках и всклокоченными волосами, с налитыми кровью и неестественно блестящими глазами. Мгновение он, казвлось, не узнавал меня. Затем произнес спокойно:
– Ты должна спать.
– Как я могла спать! Я понятия не имела, где ты!
Я зарыдала и обняла его. Он отложил палитру и потрепал мои волосы, словно я была ребенком.
– Я принес твой ридикюль, – сказал он. – Он там, на столе.
– Бог с ним! Что случилось с тобой?
– Я заблудился, вот и все, – сообщил он мягко. – Расскажу обо всем позже. А теперь, пожалуйста, пойди и отдохни.
Не могу описать, что я почувствовала. Я вышла из комнаты и направилась к себе.