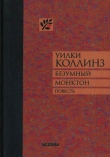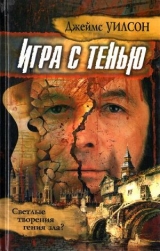
Текст книги "Игра с тенью"
Автор книги: Джеймс Уилсон
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Вернувшись домой, я получила письмо от Уолтера. Почему давно нет от меня писем? Сейчас я не могу ему писать.
Пятница
Очень поздно, но это неважно. Я похожа на генерала, вдохновленного успехом, который сознает, что должен вырвать победу, пока судьба к нему благосклонна.
Первое: мистер Пэдмор. Благодарение Богу, он жив, он в порядке и в здравом уме – или, по крайней мере, был в здравом уме три часа назад. И, главное, он поведал мне значительно больше того, что я надеялась услышать.
Судя по названию, Оливер-билдингс представлялись мне грязными, дурно пахнущими многоквартирными домами. Но на самом деле это несколько одноэтажных зданий богадельни – из красного кирпича, в готическом стиле, разместившихся вокруг покрытой травой площади, загороженной железной решеткой с коваными воротами.
Когда я постучалась в квартиру номер один, мое сердце билось очень сильно, оно едва не выскакивало из груди, и я опасалась, что не смогу заговорить обычным голосом. Впрочем, ответ «Войдите!» прозвучал мягко и успокоительно, и я немного расслабилась. Я поддалась, сознаю, иррациональному чувству. Не было никакой гарантии, что мне ответил сам мистер Пэдмор, ведь, если он умер, его жилье могли предоставить другому постояльцу. И все же, услышав одно-единственное слово, я почему-то уверовала: это именно он, и мы обязательно станем друзьями.
Я вошла и оказалась в чистенькой комнате, которая занимала все внутреннее пространство дома и служила, по всей вероятности, гостиной, кухней и библиотекой одновременно. Очаг представлял собой нечто вроде открытой плиты с небольшой печкой с одной стороны и вместительным камином, до такой степени набитым тлеющими углями, что атмосфера в комнате была удушающей, словно в теплице. Слева помещался книжный шкаф, справа – буфет, уставленный рядами красно-золотой фарфоровой посуды, красиво поблескивавшей в лучах света из окна, располагавшегося позади. В центре комнаты стоял стол с тонкими ножками, покрытый чистой белой скатертью, а на столе – чашки, сахарница и груда бумаг, среди которых я заметила и свое письмо. Вокруг стола – причудливое скопление стульев из дубового и орехового дерева. На одном из них – основательном, старомодном, с коричневыми подлокотниками и растопыренными ножками, предназначенном, казалось, для сквайра-скупердяя из романа Филдинга, – сидел очень старый человек, чрезвычайно худой, занимавший едва ли половину сиденья. Он, несомненно, ожидал меня, ибо тут же осведомился:
– Мисс Халкомб?
Он попытался встать, но, наполовину поднявшись, не смог двинуться дальше. Его поза – вытянутая вперед голова и вцепившиеся в закругленные подлокотники руки – была столь неудобной, что я немедленно попросила его оставаться на прежнем месте; в то же мгновение он с благодарной улыбкой опустился на сиденье.
– Дух бодр, – сказал он, – но вот суставы подводят. Он протянул мне руку: – Здравствуйте!
– Здравствуйте!
Его рука показалась мне легкой и тонкой птичьей лапкой, словно природа, решив не тратиться на столь близкое к могиле тело, превратила его в простейший механизм.
– Я очень рад познакомиться с вами, – сказал он. Вытащив из кармана чистый носовой платок красного цвета, он протянул его мне: – Не соблаговолите ли повесить его на окно возле двери?
– Конечно, – откликнулась я, стараясь говорить как можно естественнее, будто ко мне обратились с самой заурядной просьбой и я этого ожидала.
Однако мое замешательство не укрылось от мистера Пэдмора и, передавая платок, он пояснил:
– Это знак, чтобы подали чаю.
Я зацепила платок за оконную щеколду, где он вяло повис, напоминая поникший флаг. Однако мистер Пэдмор был, по-видимому, удовлетворен, ибо кивнул и сказал:
– Спасибо. Вы присядете?
Усевшись возле него и осознав, что он не просто стар, а невозможно, невообразимо древен, я едва сдержала возглас изумления. Я должна была бы заметить это раньше, если бы мистер Пэдмор не потрудился привести себя в порядок – вероятно, в мою честь. Светло-голубой, прекрасного покроя сюртук с латунными пуговицами сильно его молодил, пока вы не замечали, что он слишком велик для усохшего тела владельца, поэтому на груди и плечах образовались складки. Поредевшие, но красивые и блестящие, будто витое серебро, волосы были старательно уложены на макушке, прикрывая веснушчатый череп. Но более всего поразили меня аккуратные мазки румян на щеках. Признаюсь, я сочла их просто шокирующими; но когда я заметила, как ласковы его глаза, я поняла: вовсе не тщеславие вынудило мистера Пэдмора приукраситься подобным образом, но утонченное стремление выглядеть наиболее достойно. (Циник возразит: оба эти мотива равнозначны. Но ведь тщеславие жаждет восхищения? А мистер Пэдмор хотел всего лишь доставить удовольствие гостю.)
Я приготовилась выслушать длинное предисловие из шуточек и незначительных воспоминаний, столь характерное для старых одиноких людей, но, подтверждая мое доброе о нем мнение, мистер Пэдмор сразу же заявил:
– Моя память все еще тверда, мисс, по крайней мере для стариковских лет. Но я стал быстро, очень быстро уставать. Поэтому не разводите церемоний, а просто спрашивайте, о чем желаете. – Он расссмеялся. – Иначе в тот момент, когда мы доберемся до сути, вы обнаружите, что я сплю.
– Что же, прекрасно. Не сможете ли вы рассказать мне о Ковент-Гардене? Времени вашей юности?
– Ковент-Гарден – о, с удовольствием! Только вообразите: мальчик не старше восемнадцати, не видевший ничего, кроме Гемпшира и Маргейта, внезапно махнул в Лондон, попал в величайший театр страны и получил доступ в лучшее общество. Самые громкие имена тех дней – Чарльз Бэннистер, миссис Гиббс – Он покачал головой, поражаясь своему невероятному везению. – У меня тогда закружилась голова, мисс Халкомб. Запах театра! И даже сейчас – смешайте немного опилок и краски да прибавьте запах двух-трех ламп – не газовых, учтите, а масляных, дымных и теплых, – и мне не сдержать трепета вот тут. – Он указал на живот и усмехнулся.
Я, конечно же, имела в виду не театр, а окружавшую театр атмосферу, но почувствовала, что не могу поправить его, не показавшись грубой.
– Вы жили по соседству?
– Сначала – вместе со своим братом, в Холборне. Но потом я снимал собственные комнаты в Мейден-лейн.
– Неужели? – воскликнула я, стараясь не выдать своего волнения. – А кто были ваши соседи?
– Ну… – Он сощурил глаза, стараясь припомнить. – Внизу у нас располагался немецкий музыкант, как же его звали? Герр, герр… Я забыл. И мастер, делавший флейты, и Поттер, костоправ… И Шуссель, вот-вот, герр Шуссель, жил с ирландкой – она не была его женой, миссис Мэлон…
– А как жители соседних домов? – спросила я.
– О, мы составляли на диво пеструю компанию. Актеры и актрисы; штукатур; поэт; архитектор; два или три трактирщика; экипажный мастер; владельцы магазинов; настоящие… настоящие, – он заколебался, и сквозь краску на его щеках проступил живой румянец, – настоящие распутницы, вы меня понимаете?
– Женщины легкого поведения? Он кивнул:
– Были и такие.
– А не запомнились ли вам какие-нибудь лавочки? Он глубоко вдохнул, а затем прерывисто выдохнул.
– Мисс Халкомб, – произнес он, сопровождая свои слова снисходительной улыбкой, – я чувствую себя так, словно вынужден играть в «Двадцать вопросов», и не могу угадать, что у вас на уме. Умоляю, ради вашего же блага, – будьте со мной откровенны.
И я решилась. На протяжении первых секунд я колебалась и запиналась, но вскоре стала рассказывать о Тернере, Уолтере и моих разысканиях с прямотой и легкостью, которые меня саму поразили, ибо со времени визита в Сэндикомб-Лодж я не могла говорить свободно ни с кем, но теперь, непонятно почему, ощутила доверие именно к нему. Я до сих пор этому удивляюсь, хотя, скорее всего, меня подвигли симпатия и интерес, читавшиеся на лице мистера Пэдмора, и, возможно, уверенность в том, что старый калека из богадельни Хаммерсмит едва ли способен предать меня.
Я только-только закончила, когда без стука вошла низенькая плотно сбитая женщина. На ней были серое платье и кружевной чепчик, а в руках – белый передник, который она начала повязывать, еще закрывая дверь.
– Бетти, – ласково сказал мистер Пэдмор. Переведя взгляд на меня, он указал на носовой платок, вывешенный в окне. – Когда бы мы ни подали этот сигнал, Бетти спешит позаботиться о нас. Бетти, – повернувшись к ней, представил он, – это мисс Халкомб. Мисс Халкомб – миссис Чамберс.
– Здравствуйте, – живо произнесла она, протягивая руку.
Она была лет семидесяти, с овальным лицом, которое сохранило следы былой привлекательности, но ныне выглядело неухоженным и огрубевшим. Когда ее красота стала блекнуть, Бетти, казалось, вовсе перестала о нем заботиться. В ее манерах не прослеживалось ни нахальства, ни подобострастия, из чего я заключила, что она не служанка. Однако, будь она родственницей мистера Пэдмора, он представил бы ее по-другому.
– Я живу недалеко, – сказала Бетти и, словно подтверждая эти слова, указала за окно.
– Да…
Видимо, она заметила мою озадаченность и продолжила:
– Вместе с женщинами.
Сняв с печки чайник, она наполнила его водой из эмалированного кувшина.
– Живя в товариществе, учишься заботиться друг о друге.
– В товариществе? – переспросила я.
Она кивнула и пристроила чайник над огнем.
– То есть вы имеете в виду, что все здешние обитатели – актеры и актрисы? – уточнила я с веселым удивлением, восхитившись странноватым предположением.
– Были актерами, – ответила она. – Все мы пришли в упадок.
Она засмеялась, и к ней тут же присоединился мистер Пэдмор.
– По крайней мере Благотворительное театральное общество воспринимает нас именно так, – прибавила Бетти, снимая с каминной доски коробку с чаем.
Внимание мистера Пэдмора было поглощено ее действиями, и я побоялась, что нить беседы прервется. Но едва я решила продолжить разговор, как он сам сказал:
– Нет, я не забыл.
Он закрыл глаза и некоторое время молча собирался с мыслями. Затем поглядел на меня и произнес:
– Вам повезло, ибо я совершенно отчетливо помню эту лавочку цирюльника.
Не совладав с собой, я издала торжествующее восклицание, изумившее даже меня саму, не говоря уже о миссис Чамберс, которая едва не выронила заварочный чайник. Впрочем, мистер Пэдмор только улыбнулся и кивнул.
– Да, действительно, – продолжил он, – многие из более солидных, нежели я, людей ходили к Тернеру или приглашали Тернера к себе. Поэтому я решил, что мне тоже стоит его навестить. И я отнес ему свои парики, поскольку, по моим наблюдениям, молодые щеголи переставали их носить. А потом я отрастил собственные волосы и отправился к нему уже с ними. – Он потряс головой. – Мне хотелось бы иметь дар художника, мисс Халкомб, дабы изобразить все это для вас. На улицу выходило длинное узкое окно, и на подоконнике стояли ухмыляющиеся манекены в париках, усеянных короткими завитками, вроде цветной капусты. Однако с улицы туда было не попасть, и вы заходили через боковую дверь, со двора… Боюсь, позабыл название…
– Хэнд-корт?
– Да, именно так.
Он опять закрыл глаза и рукой начал чертить в воздухе план.
– Узкая прихожая, лестницы вверх и вниз, лавочка в маленькой темной комнатке слева. Ряды голубых бутылей у стены, а здесь – стол с полотенцами, бритвами и тазом. Винтовая машинка – для завивания, полагаю. И повсюду – пуховки, утюги для гофрирования, заколки, кожаные валики для локонов и еще Бог знает что. И запах. Паленых волос. Мыла. Помады. – Мистер Пэдмор так старался воспроизвести полузабытый аромат, что его ноздри трепетали. – И пудры. Да. – Он внезапно открыл глаза. – Знаете, как пахнет пудра для париков, мисс Халкомб?
Я покачала головой.
– Достаточно приятно, но немного едко… И почти всегда – страшный шум, по крайней мере, когда я бывал там. И внутри, и снаружи. Вода булькает. Щипцы клацают. – Он рассмеялся. – Языки клацают. О да, множество языков.
– Значит, мистер Тернер был очень болтлив?
Он склонил голову и потер мочку уха, словно этот жест мог прояснить его память. Мгновением позже он произнес:
– Знаете ли, я не могу этого вспомнить. Однако кто-то, без сомнения, был болтлив, ведь там всегда слышался гул разговоров. В любом случае, именно так мне вспоминается. – Мистер Пэдмор недоверчиво улыбнулся, словно путешественник, который застыл, чтобы оглянуться назад, и удивился тому, какой длинный путь он проделал. – У нас не было недостатка в объектах для обсуждения – колонисты Америки, санкюлоты во Франции. Хватало и важных персон. – Он чуть наклонился ко мне, словно поверяя секрет. – Однажды я увидел, как из лавочки выходил дородный джентльмен в самом белом из виденных мною белых париков. И мистер Баррингтон, который тогда составлял мне компанию, сообщил: это личный капеллан принца Уэльского.
– Неужели? – произнесла я.
Трудно было представить, чтобы столь возвышенная особа решилась посетить в наши дни грязноватое заведение в Мейден-лейн (или любое заведение, где можно быть узнанным) и толкалась там среди актеров и торговцев, жаждущих выглядеть красиво.
Мистер Пэдмор кивнул.
– И доктор Монро, который…
– Лечил короля! – вскричала я, вспомнив миссис Бен нет.
Он потряс головой и просиял – полагаю, не восхищаясь моими знаниями, но радуясь тому, что мир, в котором он жил, не совсем еще исчез, а человека, прославленного в его дни, помнят и сейчас.
– Знали вы, – спросила я, – что он был одним из первых покровителей Тернера?
Мистер Пэдмор сделал отрицающее движение.
– Но я не удивлен, услышав об этом; насколько я помню, доктор Монро был известен как коллекционер и даже как художник. Он, вероятно, заметил в лавочке рисунки мальчика, ведь старый мистер Тернер имел обыкновение вывешивать их в окне или возле двери и продавать по два-три шиллинга за штуку. А еще, знаете, он был…
Однако в этот момент миссис Чамберс поставила перед нами чашки. Мы замолкли и благодарно следили за тем, как она разливает чай.
– Ну вот, – сказала Бетти, закончив свое дело. – Приятно было познакомиться с вами, мисс Халкомб. – Она сняла с окна носовой платок и протянула мне: – Надеюсь, вас не затруднит вывесить его снова, когда вы соберетесь уходить; я пойму, что мне пора прийти и убрать здесь.
– Дай Бог тебе здоровья, Бетти, – пробормотал мистер Пэдмор, когда она удалилась. – Она такая… такая… – а потом, совершенно неожиданно, его веки моргнули и сомкнулись, а голова качнулась вперед.
– Вы говорили… – начала я громко.
Но мистер Пэдмор не пошевелился.
Мысль о том, что сон придет туда, куда не добралась смерть, и лишит меня насущно необходимых сведений, вызвала панику, и, почти не раздумывая, я подскочила и потрепала мистера Пэдмора по плечу. Благодарение Богу, этого оказалось достаточно. Он вздрогнул, открыл глаза и посмотрел на меня. Кажется, какое-то мгновение он не понимал, кто я; но затем произнес:
– А, мисс Халкомб, мисс Халкомб, простите меня. Мы продвинулись вперед?
– Несомненно, – ответила я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы.
Он издал извиняющийся смешок.
– Боюсь, я поглупел. Совсем позабыл, где…
– Доктор Монро.
– О, да-да. Он был великий покровитель искусств.
– Да, – подтвердила я, терзаясь нетерпением. – Но вы собирались рассказать мне о нем и еще что-то.
– Разве? – Он глубокомысленно нахмурился. – А! Он опекал короля во время его…
– Я знаю об этом!
Я постаралась смягчить свой тон и рассмеялась, однако мистер Пэдмор был смущен и погрузился в озадаченное молчание.
Я дала себе слово более не перебивать его. Вознаграждение последовало через пару секунд, ибо он спросил:
– Больница?
– Какая больница?
– Я должен был упомянуть о ней. Или, возможно, решил, что вы и так знаете? Вифлеемская больница.
– И чем она замечательна?
– Как же, там работал доктор Монро. Директором, доктором или кем-то в таком роде.
Я сознавала, что эти слова имеют особое значение и восполняют некий пробел, которому, казалось, суждено остаться незаполненным, но была слишком озабочена записыванием и не уловила их истинного смысла. В конце концов мистер Пэдмор пришел мне на помощь. С полминуты он смотрел в окно, а потом сообщил с запинками, словно и сам только сейчас это понял:
– И, знаете ли, какое странное совпадение – ведь миссис Тернер тоже сошла с ума и, кажется, окончила сноп дни под его присмотром.
В горле у меня пересохло от возбуждения, и, прежде чем задать вопрос, я заставила себя сделать глоток чая.
– Вы совсем ее не помните?
– Совсем. Думаю, ее держали подальше от посторонних глаз. Она, без сомнения, обладала неуправляемым темпераментом и могла распугать посетителей. Я припоминаю… Я припоминаю…
Он сделал паузу и наморщил лоб, определенно стараясь восстановить в памяти эпизоды семидесятилетней давности. Когда ему все-таки удалось связать их в логическое целое, он удовлетворенно кивнул и продолжил:
– Семья, полагаю, жила в подвальном помещении. И, как я припоминаю, однажды я услышал душераздирающие вопли и стоны, которые доносились из-под лестницы. Мистер Тернер укладывал мои кудри, или что-то в этом роде, – он был бодрый, жизнерадостный субъект маленького роста, вечно подскакивающий на носочках, будто воробей. Поначалу он рассмеялся и попытался превратить все в шутку. Но тут мимо нас вихрем пролетел мальчик, бледный как смерть, и выбежал на улицу; и мистер Тернер, извинившись, отправился вниз, чтобы успокоить жену.
– Когда это произошло?
Мистер Пэдмор пожал плечами и нахмурил брови.
– Восемьдесят девятый, девяностый или девяносто первый. Думаю, с тех пор я ничего о ней не слышал. Но через год или два Тернер сообщил мне, что его сын снял мастерскую в другом конце Хэнд-корт, и, помнится, я подумал: он хочет убраться от матери подальше. – Он помолчал и вздохнул. – О! Насчет Вифлеемской больницы, мисс Халкомб. Жестокий поступок. Полагаю, теперь она стала приличнее, но тогда там был ад. Я могу это засвидетельствовать, ибо навещал однажды несчастного друга, который позже повесился. Зимой его запирали, словно плененное животное, с одним соломенным матрасом вместо постели; летом его тормошили, терзали и окатывали ледяной водой.
Он потряс головой, не в силах выразить возмущение иначе. Глаза мистера Пэдмора заполнились слезами, и он продолжил дрогнувшим голосом:
– Наш Спаситель изгонял демонов, однако оставил своим покровительством тех, кого они одолевали.
– Извините, – произнесла я, – я не хотела вас расстроить.
Он снова содрогнулся и беззвучно заплакал.
– Поговорим о чем-нибудь другом, – предложила я. – О театре. О леди Мисден.
Он кивнул. Но потом, столь же внезапно, как и раньше, глаза мистера Пэдмора закрылись, а подбородок уперся в грудь. И тут же лицо его утратило возбужденное выражение, он замер, и, если бы не дыхание, можно было вообразить, что мистер Пэдмор уже пересек едва заметную границу, которая отделяла его от мертвых.
На сей раз я не пыталась его разбудить. Я повесила носовой платок на окно и ушла.
Возвращаясь в Кенсингтон, я всю дорогу спорила с собой. Ехать или не ехать? Было поздно – я устала – для одного дня я сделала достаточно. И все-таки любопытство возобладало. Уже перед самым поворотом на Бромптон-гроув я остановила кэб и попросила возницу направиться в Мейден-лейн.
Едва мы выехали на улицу, я раскаялась в своем решении. Начинался дождь, и колеса глухо постукивали по грудам опавших листьев, принесенных водой с рынка и наполняющих воздух – я ощущала это даже сквозь закрытые окна – гнилым зловонием. Ватаги детей с бессмысленными лицами глазели на нас. Двое пьяных средних лет, с унылыми и склизкими, будто устрицы, глазами, таращились со ступеней таверны «Сайдер Селлар». Сообразив, каким уязвимым окажется мое положение, если я выберусь наружу, я поспешно умерила свои амбиции и сказала себе: вполне достаточно поглядеть на обиталище цирюльника из кэба.
Но поскольку я знала от Уолтера, что лавочка уже не принадлежит парикмахеру, отыскать ее я могла, только угадав, какая из темных узеньких аллеек, расходящихся от улицы, по которой мы ехали, – Хэнд-корт. А это задача, несмотря на все мои старания, оказалась невыполнимой: некоторые аллейки были безымянными, а названия других, обозначенные на ветхих и покрытых сажей табличках, я не разглядела издалека. Тем не менее, когда мы достигли конца улицы, я попросила кэбмена развернуться и остановить кэб у ломбарда, который я успела заметить по дороге и который сочла достаточно безопасным для себя местом, где я получу необходимые разъяснения. Какими бы сомнительными ни могли показаться мои разыскания, я рассчитывала, что меня быстро поймут и я не привлеку излишнего внимания.
Едва я закрыла за собой дверь, как из глубины помещения появилась девочка лет тринадцати-четырнадцати. У нее были большие карие глаза и хорошенькое бледное личико, уже омраченное подозрениями и расчетами. Она смотрела на меня молча и без улыбки.
– Не могли бы вы, – произнесла я, – подсказать мне, где находится Хэнд-корт?
Она ткнула большим пальцем в низенькую арку на противоположной стороне улицы.
– Спасибо, – сказала я.
– Вы хотите повидать старую Дженни? – спросила она, когда я подошла к двери. – Я провожу вас за шесть пенсов.
– Нет, благодарю, – ответила я (ибо перспектива покинуть этот сумеречный мир и погрузиться в смердящую темноту Хэнд-корт наполняла меня ужасом). – Но вот вам шестипенсовик за беспокойство.
Девочка молча взяла монетку и проводила меня хмурым взглядом, словно опасалась, что я каким-то образом обвела ее вокруг пальца и заставила продешевить.
Попросив кэбмена подождать минуту или две, я поплотнее закуталась в плащ, дабы защититься от всепроникающего дождя, и пересекла улицу. Входом в Хэндкорт служила незамысловатая классическая арка из массивного камня, и сквозь железные ворота, которые ее загораживали, я разглядела кучки людей, толковавших о чем-то в отблесках тусклого света, падавшего из дверей и окон. Я без труда определила, где находилась лавочка цирюльника, ведь мистер Пэдмор сообщил мне, что она была на левой стороне Хэнд-корт, то есть – по левую руку от арки. Впрочем, описанное им «длинное узкое» окно успело исчезнуть; оно уступило место современной витрине с двойным подъемным стеклом, протянувшейся по всей длине дома.
Однако мое внимание привлекло то, что виднелось ниже. Ибо там, под прямым углом к тротуару, располагалось подвальное окно полуэллиптической формы, забранное железной решеткой тюремного вида.
Переклички были очевидны.
Сэндикомб-Лодж.
«Залив Байя».
Четверг
Минуло шесть дней – почти неделя – с тех пор, как я в последний раз открывала дневник. Шесть дней в полутемной комнате, с миссис Дэвидсон подле моей кровати. Шесть дней лихорадки, неутолимой жажды и бредовых сновидений, почти не запечатлевшихся в памяти – кроме непонятного ужаса, навеянного моей собственной простыней, которая казалась мне не просто слишком тонкой и леденящей кожу: она плотно обтянула мой рот и спеленала меня, словно некое извращение, плод дьявольских козней.
Не стоило ездить в Мейден-лейн. Так заявляет доктор Хэмпсон. Это было сущим безумием: промокнуть в столь антисанитарном месте, а ведь я так устала от череды утомительных дней, заполненных чтением, записыванием, недосыпанием. Лихорадка могла стать фатальной. Я должна оценить свое везение и рассматривать болезнь как своевременное предупреждение.
Я стараюсь поступать в соответствии с его рекомендациями и благодарю Бога с открытым сердцем. Правда, слишком часто я думаю не о собственном спасении, а о минувшей потерянной неделе, равно как и о том, что я могла бы избежать этой потери.
Но сегодня, по крайней мере, я смогла написать письмо Уолтеру. Я избавила себя от необходимости излагать все выпавшие на мою долю приключения, мотивируя это тем, что еще слишком слаба. Впрочем, я ни в коей мере не лукавлю, но не могу отрицать и собственного нежелания быть до конца откровенной, хотя и не в состоянии объяснить почему. Мелочность это или подлость, а может, я стану более решительной, убедившись в правоте своих предположений?
Вторник
В воскресенье я работала два часа, вчера – четыре, сегодня – шесть. Мистер Хэмпсон меня бы не одобрил, однако я должна записать посетившие меня мысли, пока они не рассеялись.
Тернер навсегда останется тайной. И тем не менее я чувствую, что нахожусь куда ближе к истине, нежели месяц назад.
Последующие рассуждения – не более чем догадки. Но, кажется, они проливают свет на известные нам факты.
Его первые воспоминания связаны с подвалом и необузданной неистовой женщиной, которая его терроризировала. Она не могла дать ему любовь и заботу, которых ждет от матери любой ребенок; напротив, он был бессилен перед ней и не знал, куда скрыться.
Удивительно ли в таком случае, что возможность близких отношений с женщиной страшила Тернера всю последующую жизнь? И что женщины на его полотнах – не живые существа, наделенные той же красотой и изменчивостью обличий, которые он находил в пейзаже, но невыразительные, инертные объекты – окоченелые тела, куклы или манекены из витрины отцовской лавочки, неспособные причинять боль?
Не удивительна также и его устойчивая боязнь подвалов, погребов и пещер (можно представить, как потрясали его детское воображение рассказы о драконах и чудовищах – обитателях пещер!), которые в его творчестве связаны с угрозами и гибелью. Возможно, именно поэтому, устраивая собственный дом, Тернер ловко скрыл тревоживший его подвал, отдалив от солнечных комнат, где он жил и работал. (Не это ли заметил Уолтер, когда мы ездили в Сэндикомб-Лодж? И не предположил ли он, будто Тернер пытается скрыть некий постыдный секрет, а не болезненные детские впечатления?)
Те же впечатления, думаю, вызвали у Тернера склонности к тайнам и мистификациям. Находиться дома или в любом месте, достаточно хорошо известном его матери, – это означало, что в любой момент его хрупкий детский мир может быть сметен ураганом. Отсюда и первоначальное решение Тернера перебраться в другой конец Хэнд-корт, а потом, при первой возможности, – на Харли-стрит. Отсюда любовь к уединению и резкая реакция на вторжение в его частную жизнь. Отсюда, возможно, и путешествия, и пресловутая скрытность, и бесконечные перемещения между двумя или тремя пристанищами, иногда без извещения близких о том, куда он направился.
А как насчет картин? Смогу ли я теперь лучше понять их?
Полагаю, да. Не навеяны ли все эти ураганы, кораблекрушения, лавины материнским умопомешательством? (И, более того, нельзя ли увидеть в кровоточащих солнцах и покрытых водой чудовищах отголоски мучительных воспоминаний о том, каким стал конец ее жизни?)
Он изображал те бури, которым не мог противостоять дома, дабы обрести над ними власть. Не самый обычный способ, допускаю, но разве побуждения, двигавшие Тернером, не естественны?
В то же время творчество давало ему власть над иным миром: над великолепным, пронизанным солнцем раем, где он обретал прибежище, пусть и временное. Но и «в кипеньи бытия мы умираем». Не таков ли смысл «Залива Байя» и прочих пейзажей, усеянных руинами? Стремись, трудись, изворачивайся, однако рано или поздно агрессия помраченного рассудка, или дикой природы, или просто неотвратимо утекающее время и распад сумеют настичь и одолеть тебя.
Нам известно, что у Тернера были друзья – мужчины и женщины, принимавшие его таким как есть, окружавшие его комфортом и покоем, которых он не находил дома. К ним он испытывал, по всей вероятности, самые сильные чувства – привязанность и благодарность столь глубокие, что в некоторых случаях (отец Амалии Беннетт, Уолтер Фокс, лорд Эгремонт) они продолжали существовать, кажется, и после его смерти.
Но как же его семья?
Семью заменило искусство. Оно заменило ту человеческую семью, которой Тернер никогда не имел в детстве и не стремился создать, повзрослев. Разве, по свидетельству Амалии Беннетт, он не называл свои полотна «детьми» и не оплакивал расставание с ними? Разве Каро Бибби не обратилась к тем же образам, описывая его галерею? И, возможно, именно страстные «родительские» чувства стали причиной столь необычной грубости, обрушившейся на незадачливого гравера Фарранта, ибо любая мать превращается в тирана, если ее дитя в опасности. Я уверена: даже нежная Лора, защищая Флорри и маленького Уолтера, не остановится в случае необходимости и перед убийством.
Те же соображения, полагаю, справедливы и по отношению к Королевской академии. Видение Тернером традиций и миссии этого учреждения, а также чрезвычайная (почти эксцентрическая) серьезность, с которой он относился к обязанностям преподавателя, свидетельствуют о том, что с Академией его связывали не только сугубо практические соображения – словно его не просто соратники-профессионалы, а его родители, дяди и братья составляли сообщество, столь заботливо его сформировавшее и требовавшее полной преданности.
Мы знаем, что независимо от любви или нелюбви к тому либо иному художнику Тернер отказывался критиковать своих товарищей и причинять им ту же боль, от которой страдал сам. Такая героическая сдержанность – весьма редкая в насыщенной сплетнями, двуличной, замкнутой атмосфере Академии – несомненно, наводит на мысль, что он видел в своих коллегах скорее родственников (вроде надоедливой тетки, чье общество нам докучает, но мы вынуждены терпеть ее, блюдя семейное единство), а не профессионалов-соперников.
Кому мы завещаем свое имущество? Родственникам.
И разве сэр Чарльз не сказал, что Тернер оставил своих «детей» нации, а свое достояние – терпящим нужду «собратьям»?
Какое отчаяние. И одиночество. И горечь. И преданность. И расчетливость. И великодушие.
И какая надежда быть когда-нибудь понятым.
Повстречать подобного человека на закате своих дней, терпением, добротой, преданностью преодолеть подозрительность, очистить сердце от мрачных напластований и высвободить заключенную в нем любовь – немалое достижение.
Бедный Тернер.
Несчастная его мать.
Добрая миссис Бут.
Среда
Пустое утро. Еще не отдохнула после вчерашнего.
Днем заглянула Элизабет Истлейк, обеспокоенная состоянием моего здоровья. Я была переполнена Тернером и так хотела удостовериться в верности своих умозаключений, что легкомысленно стала излагать их за чаем. Когда я осознала собственную глупость, то уже было поздно останавливаться. Пришлось продолжить, отчаянно надеясь избежать той ловушки, которую я сама же себе приготовила.
И едва я закончила, как тут же в нее угодила. Не дав понять, согласна она со мной, или нет, леди Истлейк спросила:
– Это ваши выводы, или их сделал ваш брат?
– Мы оба, – ответная, посчитав такой ответ наименее рискованным. – Но главным образом брат, естественно.
В действительности Уолтер, конечно же, ни о каких моих выводах не слышал и (подумала я смущенно) вполне может их отвергнуть. Однако единственная альтернатива – объявить их исключительно моими – нанесла бы существенный удар по его гордости, заронив подозрение, что концепция книги – если, конечно, Уолтер ее примет – принадлежит скорее мне, чем ему.