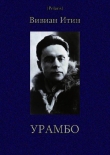Текст книги "Избранные произведения в 2 томах. Том 2"
Автор книги: Дмитрий Холендро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц)
Он все же не сдержался и трахнул кулаком по столу.
– Тише вы там! – гаркнула жена. – Детей побудите. Ироды.
У его жены, Горбихи, голос был такой, что она могла бы, когда «пред» уходит в море, разговаривать с ним без радио.
– Ты скажи лучше, как ты дошел до жизни такой? – спросил Горбов.
– Киношники сбили с панталыку, – растирая в пальцах окурок, пожаловался Сашка. – И вообще… Ударник, маяк, мастер лова, мастер – золотые руки… Знатный рыбак, передовик, отличник, ориентир… Заслуженный, лучший, зачинатель, продолжатель, герой… Глаза разбегаются!
Он твердил свое.
– Ну да, – покачал головой Илья Захарыч. – Все вокруг виноваты, а ты нет.
– Зачем? – спросил Сашка и отвел рукой раскудрявый чуб со лба, чтобы не прятать глаз. – Я само собой… Не устоял… Неустойчивый элемент…
– Вот такие и порочат добрые звания.
Сашка грустно усмехнулся, снял кепку с коленки, стал натягивать на голову. Он все сказал. Ему осталось ждать приговора. Верхняя губа у него была мокрая, и он вытер холодноватый пот ладонью, проведя ею, как после хорошей еды, туда и сюда, и встал.
– Сядь, – попросил Илья Захарыч.
Ну что этому человеку до всех до нас, как подумаешь? Он ведь немолодой. Спал бы сейчас, как всякий примерный отец семейства. А сиди и гнись под тяжестью, переложенной на твои плечи молодым правдолюбцем, сиди и суди. И еще утром жена задаст. Всему Аю известно, что жена грозится разойтись с Ильей Захарычем с той самой поры, как он стал председателем, а он у нас председатель уж никто и не упомнит, сколько лет. Мы при нем выросли…
Он сплел толстые и короткие пальцы, положил расставленные локти на стол и долго думал, покачиваясь и помалкивая, если не считать невнятных звуков, доносившихся через ноздри из самого нутра.
– Завтра снимешься для кино со своей прекрасной селедкой, и пусть уезжают восвояси, – сказал «пред», перестав качаться и вприщур уставясь на Сашку.
– Кто? – не понял Сашка.
– Ну, эти… Подстрекатели, – ехидно сказал Горбов.
Сашка замотал головой раньше, чем сказать:
– Что вы, Илья Захарыч?
– Колхоз не переживет такого позора, – поморщился «пред». – Срам на все море. Кино! И такое дело!.. Ладно… Ты сказал – я запомню. Я тебя не прощаю, Сашка, – и он погрозил ему пальцем через круглый стол. – Я с тебя глаз не спущу… Но я верю. Ты сказал… Значит, ты в душе патриот.
– Не буду я сниматься! – крикнул Сашка, забыв о жене «преда».
– Я открою на вас огнетушитель, – сказала она.
– Мне тебя жалко, – искренне продолжал Илья Захарыч, прижав пальцы к губам и делая Сашке знак, чтобы он говорил потише. – После Рачка люди тебя сожрут всухомятку… Ты ж Рачок номер два. Народ по правде соскучился, народ теперь на всякую ложь зубы навострил… Гам! И конец тебе. А ты молодой.
Илья Захарыч даже поскрипел зубами. Сашка страдальчески поерзал на стуле.
– А я тебя от людей защитить не могу, – прибавил Горбов. – Демократия!
– Выходит, демократия – это плохо? – спросил Сашка и полез за новой сигаретой.
– Для тебя – да!
12
Утром какая-то птица под окном забулькала громко, будто набрала воды и прополаскивала горло перед тем как взять лучшую ноту в жизни.
Утром на улице появился первый горлан:
– Киря! Ты жених или не жених?
Утром ребром встал вопрос о свадьбе, поскольку гости даром просидели субботу, сегодня воскресенье, а завтра тяжелый день: каждому надо быть на своем месте.
Двор Кирюхи напротив Горбова, и Илья Захарыч слышал, как у калитки кричали:
– Он свадьбы гулять не будет… Он это… в кино сниматься будет. Ему интереснее!
– Или гулять с утра, пока не разъехались, или уезжать, не гулямши.
Кричали.
Философствовали.
Горбов вышел из дома, второпях надев на лысину соломенную шляпу вместо фуражки, но возвращаться не стал, подумав, что и то, глядя на погоду, сойдет.
Вы заметили: у кого лысина, тот уделяет особое внимание головному убору? Расческу выбросил, купил вторую шляпу. У нашего «преда» две шляпы и три картуза. Шляпа для парадного выезда (в ней мы «преда» никогда не видели, дома она не носится, до автобусной остановки путешествует в руках) и эта вот, соломка, на каждый день летом. Осенью и зимой – суконный картуз-работяга с клеенчатым козырьком, который можно мыть с мылом. (Налазишься по сейнерам, нахватаешься.) В район – картуз полотняный, как у всего актива, чтобы не выделяться. Это удобно, когда ругают. Смешался с массой, и все. А еще есть мореходная фуражка, которую Илья Захарыч надевает в двух случаях – по праздникам и всегда после выговора. Для солидности (дескать, помни все же, с кем говоришь) и как мобилизованный. Мы уж знаем – если в будний день на горбовской голове мореходка, значит, готово. И всем нам немного неловко и хочется быть внимательнее к нему, потому что выговоры он носит за нас, как наш избранник.
Есть еще новая панамка для отпуска, жена купила, но она не в счет. Панамка есть, а отпуска не было.
– Я и так живу на курорте, – смеется Горбов. Хлопнув по своей соломке ладонью в самую макушку.
Горбов хотел прошмыгнуть к причалу задворками. Его волновало, пришел ли Сашка сниматься в кино, мучило, что будет со всеми лучшими людьми Аю, на которых ляжет тень подозрения, с добрым именем нашего колхоза, куда недаром направили киношников, но где явно отстает политико-воспитательная работа. Что так, то так…
Перебравшись через плетень в конце своего двора, он попал во двор Алены, а там, перед калиткой, прыгали мальчишки и пели:
Тили-тили тесто,
Жених и невеста!
Тесто засохло,
А невеста сдохла!
Пожалуйста, тоже ведь – ходили в детский сад, построенный на колхозные средства, и росли не как трава, а под руководством образованной воспитательницы.
– Я вам!
Из окна на улицу, перед ногами мальчишек, шлепнулось с ведро воды, не меньше… Мальчишки загоготали, отбежали и запели подальше и погромче свое «тили-тили». Горбов прокрался вдоль забора почти до калитки, когда в спину ему попало жалостливое слово:
– Председатель.
Это мать Алены, она такая жалостливая, тихая, работай в Аю церковь, ей бы со свечой стоять, мухи не обидит, но сама пристанет хуже мухи.
– Председатель, пожалей ты нас. Есть у тебя сердце? Второй день пироги сохнут, гусей резать, не резать – никто не говорит. Вчера свадьбу отменили, на сегодня никакого указания, а перед гостями потом кому – мне краснеть? Это ж надо!.. Восемнадцать лет дочь растили, а замуж выдать… Подожди! Где такой закон? У людей как у людей. Турки и те свадьбу две недели играют, а тут все есть – и гуси, и гости, а играть нельзя. Часа нет. Это ж надо!
– Откуда ты знаешь про турков?
Они уже шли по улице, и Горбов, убыстряя шаг, спрашивал на ходу.
– От верблюда я знаю, – отвечала мать Алены, женщина такая же мелкая, как дочь, и юркая, только голоса никогда не повышавшая. – До войны в соседях татары жили. Они как турки. Выдавали дочь замуж – десять лет деньги копили, уж тут как ни старайся, сколько народу ни зови, а меньше чем в две недели, хоть лопни, не прогуляешь. Им можно, а нам нельзя? Я вишневочку настояла.
– Пей на здоровье.
– Да разве я для себя? Хочешь попробовать?
– Некогда мне.
– А гостю есть когда? Гость у нас занятой, не тунеядец. Наполовину приезжий. Гуси в загородке сидят. Резать, не резать?
Перепрыгивая в лад с Ильей Захарычем через бороздки от осенних дождевых ручьев, которыми изрыты наши улицы, мать Алены и в беседе суетливо запрыгала с мысли на мысль, пытаясь добиться своего.
– Чего ты от меня хочешь? – спросил Горбов.
– Я хочу положительного результата. Резать?
– Пусть побегают. Сейчас самое важное – кино.
– А к нам никакого внимания?
– На внимание тоже существует длинная очередь.
– Для человека самое важное – свадьба, – вразумительно сказала мать Алены.
– Наплевать вам всем на колхоз.
– А гости без свадьбы, без гулянки разъедутся, хорошо про нас скажут? Ну? Еще больше будут смеяться.
Он на миг приостановился, и, выбрав момент, она забежала вперед и встала перед ним, высоко задрав голову.
– Жизнь наша все лучше и лучше, – сказала она застенчиво, – а ты, Илья Захарович, все хуже и хуже.
От обиды Горбов даже улыбнулся.
– Ну режь! – крикнул он, подставив грудь, словно предлагал себя вместо гуся. – Режь!
– Легко сказать, – пожаловалась она, печально глядя на Илью Захарыча, который вертел соломенную шляпу на лысине. – Девка наша тоже ума лишилась. Требует от Кири – сначала снимайся. Еще и меня просит: «Пусть он снимется, мама. Что вам, жалко? И Горбов, говорит, ему велел». Ничего больше не хочет. «Не снимется, говорит, я и за стол не сяду». Кино… Гордыня ее заела. Это ж надо!
– А Киря?
– Рукой махнул. Подчиняется. Дружки его с утра на берегу сидят. Какая же без них свадьба?
– Это ж надо, – под влиянием спутницы, ее словами удивился Горбов. – Алена – такой сморчок, а Кирю с головой проглотила.
– Девушка как девушка, – защитила Алену мать. – Не хуже других. Скромница, это вы ей отбили памороки.
– Кто – мы? – вспомнив Сашку, заорал Горбов, привыкший, что его все Аю называло на «ты», попросту.
– Ты со своими киноаппараторами, – пояснила женщина, без смущения переиначив слово.
– «Ты, ты»! – наступая на собеседницу, как грузовик на цыпленка, повторил Горбов. – Для вас же стараешься!
– А ты не старайся, – безбоязненно успокоила его женщина. – Тебе легче, и нам лучше.
– С дороги! – крикнул Горбов, понимая, что не сможет остановиться.
– Отмени съемку. Пожалей молодых.
– Сейчас прямо и отменю, – с издевкой пообещал Горбов. – Нет, теперь вы хоть все подряд встаньте под венец, а съемки не отменю.
– Души в тебе нет, – смиренно вздохнула мать Алены. – Напишу я на тебя в стенгазету.
И когда он обошел ее, слегка отодвинув рукой, случилось невероятное, она оглянулась и первый раз за всю свою немаленькую жизнь крикнула:
– Дождешься!
Он стерпел, опять прихлопнув шляпу на макушке.
Ему было всего важней увидеть сейчас на причале Сашку Таранца в полной готовности соответствовать моменту, который тоже требовалось стерпеть и пережить для спасения молодого бригадира и чести колхоза. Он так нервничал и так спешил, что задохнулся, остановился на ступенчатой улице, сбегающей к морю, и сказал вслух:
– Нет, ни одна душа не должна узнать о том, что я знаю. Ни одна. А уж Сашку я воспитаю. Как-нибудь воспитаю!
Но через миг он увидел, что Сашки нет на причале. Возле «Ястреба», на котором кисла царица сельдь (протухнет рыба – еще одно преступление), толклись ребята в резиновых сапогах и робах, будто не было ни воскресенья, ни свадьбы, а на досках, привезенных Курортстроем для пляжного тента, сидели Гена Кайранский с сигаретой на губе и Сима, подбиравший между ног плоские галечки и кидавший их в воду. Галечки в семь-восемь касаний брили неживое море и тонули, не вызывая интереса. Алик бегал по причалу между рыбаками и досками, сунув руки в карманы. Ван Ваныч заметил Горбова в бинокль и доложил:
– Идет один.
– Вас будут судить, – сразу взорвался Алик, когда Горбов подошел. – От человека остался только бинокль, а вы не принимаете никаких мер. Как вы думаете, он живой или утонул?
– Думаю, живой, – сказал Горбов.
– Тогда вы должны его обеспечить хоть из-под воды!
А Горбов смекал, что бегать за Сашкой, упрашивать подлеца, чтобы снялся в кино, это уже слишком.
– Он боится сниматься, – сказал Горбов. – Очень робкий характер. Страх берет.
– Это случается, – сказал Сима. – У профессионалов перед камерой и то бывает столбняк.
Такой длинной фразы он еще не говорил, и на него все посмотрели.
– Что же будет? – беспомощно спросил Ван Ваныч.
– Свадьба.
– Свадьба? – задохнулся Алик и даже взялся за горло, зажав в ладони злой кадык, как будто его звериная беготня вверх-вниз мешала ему. – Свадьба? Свадьба? – повторял он.
– Свадьба, – улыбаясь, повторил и Горбов.
– Когда рыба в трюме? Когда мы ничего не сняли? Когда… Короче говоря, взамен работы вы обещаете веселье? – Алик слабо развел руками. – Нет, вы себя уважаете?
– К чему такой апоплексический испуг? – совсем душевно спросил Илья Захарыч, умевший в разговоре вдруг подпустить словцо. – Да вы хоть раз веселились от души? Чтобы забыть, зачем приехали и как друг друга зовут? Во всю ивановскую!
– А потом как вспомнишь! – сказал Ван Ваныч.
– Да ну! Все образуется, – пошатал его за плечо Горбов. – И Сашка храбрей станет.
Киноэкспедиция переглядывалась. Сима перестал бросать камешки и поднялся:
– Прямой смысл.
За ним вскочил и Кайранский:
– Хоть посмотрим, как люди живут.
– Кузя! – не давая Алику возразить, крикнул Илья Захарыч. – Где наш Кузя?
Кузя Второй, по случаю воскресенья державший почту закрытой (у нас ведь не город, а поселок, даже поселочек), перестал делать вид, что он просто ковыряется в носу, и схватился за руль мотоцикла.
– Я, Илья Захарыч!
Горбов сдернул с себя соломенную шляпу, шмякнул оземь, топнул по ней ногой и сказал:
– Объявляй свадьбу, Кузя!
13
Музыка гремит. Во дворе Алены аютинские девчата и парни, на потеху старикам, выкручивают ногами модный твист «Попокатепетль». Не подумайте, что эта новинка проникла к нам из военного санатория «Чайка», который сиротливо белеет за Медведем и куда девчата бегают, отговариваясь, будто там всегда свежие фильмы, или из дома отдыха учителей, спрятавшегося за Медвежонком. Там своих дам перебор, а кавалеров не хватает, и только раз в неделю бедные учительницы танцуют друг с другом старинные танго и под полечку на баяне прыгают в мешках за призом (духи «Магнолия»), а в остальные дни вокруг царит глухая монастырская тишина, и некоторые лазутчики из Аю этой тишины не нарушают.
Нет, совсем не там рассадник ритмической лихорадки с телодвижениями, над которыми старушки и старики животики рвут. Бацилла нашего места – радист Марконя. Он, поднапрягшись (как умственно, так и материально), переварил две-три книги в помощь радиолюбителю, накупил деталей в городском культмаге, потел, потел и соорудил магнитофон, прозванный им лично «Сборная солянка». Радиоприемник для Маркони – пройденный этап. Он был раньше. Эфир принес нам музыку века, в том числе и эту. Так бурное развитие техники, помноженное на талант народного умельца, привело к тому, что молодежь далекого поселка крутит твист в ногу с молодежью всех столиц. И этим минусом бесспорно положительного технического прогресса еще раз доказывается могучий философский тезис единства противоположностей.
Но молодежь об этом не думает. Она сейчас просто веселится. Во всю ивановскую.
Гена Кайранский стреляет самосад у деда Тимки, с наслаждением окунается в жизнь и крепко обнимает старика, чтобы не утонуть. Гена спешит побольше впитать в себя (впечатлений) и расспрашивает:
– Тимофей Филиппович, а это кто? Вы ведь всех знаете с детства. Вон тот, с бородой, с трубкой.
– Хороший мужик, – отвечает дед Тимка, не зная, как отвязаться от надоедливого гостя, потому что ему хочется запеть рыбацкую песню, он боится, что начнут без него. – Честный. Пьет мало.
– Ну, а тот, который сейчас наливает председателю? В беретке.
– Ничего плохого сказать не могу. Пьет мало.
– А этот, что ногой топает? Ему нравится, как танцуют. Все время смеется.
– Варвара! – кричит дед Тимка, пламенно-краснощекой женщине, маня ее пальцем к себе, и она вылезает, долго освобождая из-под стола толстые ноги, и подходит к нему, хрустя яблоком и отирая рот.
– Ау, дед Тим?
– Твой муж бросил пить?
– Бросил, дед Тим.
– Надолго?
– Думаю, что нет. Сегодня-то уж позволю, – беззлобно говорит она, – свадьба!
– Горько! – кричит дед Тимка, вырываясь из объятий Гены.
Раструб репродуктора на столбе, вознесенный туда Марконей, напрасно силится перекрыть живые голоса.
– Горько! – кричит вся свадьба.
Кирюха наклоняется, выгибаясь колесом, и заглядывает в потупленные глаза Алены, и все видят, как сияют его глаза, а ее только он один. Репродуктор устало вздыхает и сдается, и в это время дед Тимка, вытерев мокрые от вина двухцветные усы, затягивает с дрожью в сердце, которая отдается в тоненьком, но нервущемся голосе:
Не надейся, рыбак, на погоду,
А надейся на парус тугой.
И все те, что теснятся за столами, что танцевали до седьмого пота, а теперь стоят и обвеиваются кофточками и рубашками на груди, подхватывают:
Мать родная тебя не обманет,
А обманет туман голубой!
Нашу гибель никто не узнает.
Только дома оплачут слезой…
Столы, в которые нельзя пальцем ткнуть, чтобы не задеть вареную и жареную закуску, домашнюю колбасу и рыбу во всех видах, кроме консервированной, печеную картошку – для любителей (ведь картошка привозная, она у нас не растет, а вот красуется в мундире, с блестками соли, как в орденах, – ее вымыли, осолили крупно – да и в духовку), помидоры, баклажаны, перец, соленые огурцы, капусту, яблоки, сбереженные в погребе для этого дня, и отгоготавших наконец свое гусей, – столы вынесены во двор, под небо, под солнце, дробящееся на бутылках. Ну в каком доме усадишь столько народу? В каких стенах он так развеселится?
Хорошо гулять свадьбы на воздухе. Что-то в этом есть от самой природы, от земли, такое, что она, грешная, оборачивается святой. Что-то есть неограниченное в дружбе, собравшей людей, когда не гадают на пальцах, кого звать, кого нет. Не хочешь пожелать счастья Алене с Кирюхой, гуляй мимо. А хочешь – заходи! Танцуй как умеешь или просто хлопай в ладоши.
И вдруг раздается вопль Алика:
– Стой!
Во двор медленно вшагивает Сашка. Смоченные его волосы старательно заведены ладонью набок и лежат, как прилизанные. На плечах внакидку пиджак с разрезиком, а под пиджаком белая рубашка с голубым галстуком «За мир и дружбу», по которому летит голубок. Брюки пять минут назад из-под утюга, словно металлические, и рубцы на них как форштевни, хоть волну режь. А шкарбаны (ботинки) не первый сорт, но надраены будь здоров.
– Стой! – разрывается счастливый Алик, воздев тонкие руки к небу.
Ван Ваныч бежит к Сашке ощупать, не видение ли это, трясет его и кричит, не отпуская:
– Теперь вы от нас не убежите. Шалишь. Дудки! – И держит его, как арестованного.
– На съемку! – командует Алик, а во дворе устанавливается неловкая тишина, как будто все провинились, что затеяли свадьбу, и, как Сашка, схвачены на месте преступления.
В этой тишине одиноко рождается и крепнет тонкий голос деда Тимки:
Если в море останусь.
Все равно меня жди…
– Стоп! – машет обеими руками Алик, рубанув ими вниз.
И, как по сигналу, на него вдруг рушится хохот. Ну, бывает же людям так весело, что они всему смеются. Дед Тимка крутит головой, подергивает плечами, сам себе удивляется:
– Дальше забыл.
И тогда вокруг хохочут еще пуще, еще неудержимей.
– На съемку! – вонзается в смех клич Алика, сложившего теперь руки перед собой крестом, значит, отменяющего все остальное на свете. – Сима!
Сима только что демонстрировал девушкам усложненные па твиста и отвечает невпопад:
– Способные девчата.
– На сейнер! – взвизгивает Алик. – Всем участникам переодеться в робы.
Но тут сам Илья Захарыч, багровый, как повар у плиты, подходит к нему, под новый взрыв смеха, кладет тяжелую рученьку на плечо и просит:
– Садись, Егорян, к столу.
– Зачем?
– Будем свадьбу гулять.
– А картина?
– Садись на свое место.
– Садись, режиссер!
– Садись.
– Отдохни!
Со всех сторон летят добрые, но неуступчивые голоса, и они сбивают Алика с толку.
– Снимешь после.
– А то совсем не снимай!
– Кто согласен сниматься?
– Согласных нет!
– Не мешайте, ребята, им жениться.
Глаза Алика ищут помощи. Он находит Гену и почти официально обращается к нему:
– Кайранский!
– Сядь, Алик, – уговаривает его тот. – Брось ты! Порадуйся за молодых!
– Сиди! – страдальчески и язвительно восклицает Алик. – Мне снимать надо! А ты еще не кончил интервью? Тебя интересует, что дедушка скажет о каждом? Так я тебе скажу: «Пьет мало».
– Меня интересует только сам дедушка.
– А картина? Картина?
Это уже плохо. Я знаю: когда на сейнере возникают раздоры, рыба может плыть спокойно. Наверняка так в любом деле, которое делают несколько человек сразу. Может, они и доделают его, да толку что? Не доделают, а доконают. Над фильмом об аютинских рыбаках нависла самая серьезная угроза.
– Нет, вы просто проявляете политическую отсталость, – бросает Алик в лицо Горбову.
А Горбов ему говорит:
– Ваше здоровье.
– Объясните мне, что происходит? – умоляет Алик.
– Свадьба, – отвечает ему Горбов. – Она нас не послушается. Она гулять хочет.
– Кино много, а свадьба одна, – как больному, ласково объясняет мать Алены. – Танцуй! Ля-ля-ля, ля-ля-ля!
Да, свадьба – это свадьба.
– Теперь вы их в сценарий не загоните, – говорит Горбов.
– Свет уйдет, все пропало, – чуть не плачет от яростной обиды Алик. – Ван Ваныч!
– А что Ван Ваныч? – Административная сила поворачивает голову к Сашке, которого все еще держит за руку. – Вы хотите сниматься, герой?
Сашка легким рывком освобождает свою руку и приглаживает и так гладкие волосы.
– Я плясать пришел.
– С кем? – в растерянности спрашивает Ван Ваныч. А Сашка смотрит на Тоню и отвечает:
– С ней.
14
Самый верный его друг Марконя включает через репродуктор цыганочку. Сашка топает шкарбаном о землю, а девчата выталкивают Тоню в освободившийся круг.
На Тоне цветастое платье то ли в крупных листьях, то ли просто в пятнах абстрактного смысла, если так можно сказать про бессмысленную раскраску (ни тебе цветочка, ни тебе ягодки), но вся она цветет и обтянута сверху под статуэтку, только она живая, и короткая юбочка врасплеск чуть прячет голые коленки.
Девчата сморщили складки на ее спине, и Тоня небрежно обдергивает у пояса свое платье и выходит, пожимая лопатками, словно ей что-то давит, что-то неудобно. Руки ее остаются на поясе. Сашка бьет о землю вторым шкарбаном, проверяя, а прочно ли держится под ним земля, на славу сработанная природой, а Тоня вскидывает голову, и грудь ее приподнимается так, что на Сашкиных глазах в вырезе ее платья пролегает глубокий желобок, острым кончиком вниз, но она не дает присмотреться, она кидается в пляску, как в воду падает.
И летят вокруг брызги. Брызги дробного перестука Сашкиных шкарбанов, быстрых отсветов от щек, от глаз, от пальцев, даже от коленок, рвущихся из-под платья, от бус, завертевшихся на Тониной шее.
– Вы такую девушку видали? – спрашивает дед Тимка Гену Кайранского, который сидит с приоткрытым ртом.
– Честно?
– Ну а как еще? – смеется довольный дед Тимка. – У нас тут все честно.
– Нет, не видал.
– И не увидишь, – по-свойски говорит дед Тимка, вдруг проникаясь к верному собеседнику прощающим пониманием. – Еще одна свадьба на носу. Допляшутся и эти. Вижу!
Он смотрит на Тоню и Сашку, которых кружат и несут смерчи цыганочки, а Гена, забыв о потухшей сигарете на губе, отбивает такт ладонями, и вся свадьба хлопает в такт пляске.
Сашка хочет глянуть Тоне в глаза, он подступает поближе, но она отворачивается и обходит его, лицо ее неприступно, губы сжаты, брови стиснуты, и Сашка восклицает:
– Эх, Тоня!
«Эх!» – это Тонино любимое словечко. «Эх, девочки!» – говорит она. «Эх, пьяный дурак!» – сказала Сашке, когда он первый раз предложил руку и сердце на всю жизнь, зарядившись для храбрости. «Эх!» – вырвется у нее иной раз просто так, неизвестно о чем. Но слышно, что всегда за этим какая-то заманчивая мечта, да вот только не получается… А лихо бы! Две буквы, междометие, а с большим смыслом.
Сашка рассыпает по коленкам оглушительную, отчаянную трещотку – сейчас клочья от штанов полетят, лупит ладонью по одной подметке, по второй, вгоняет гвозди на ходу, чтобы подметки не отлетели, держались крепче, и повторяет:
– Эх, Тоня!
Губы ее трогает улыбка. Взблескивает в глазах короче, чем на миг, и тотчас же придавливается величавой каменной волей. А тут еще коса заплетается вокруг лица, закрывает ее губы, и уже не поймешь, улыбается она или только померещилось. Плохо Сашке, свирепо плохо, по глазам видать, темным, как ямы со стоячей водой; у него остановившиеся глаза убийцы, но никто этого не видит. Все бьют в ладоши и подтопывают ногами и начинают подпевать: «Ля-ля-ля-ля-ля!»
Хоть бы капельку оттаяла в Тоне вчерашняя обида. А то Сашка землю ногой проломит.
– Эх!
Тоня отбрасывает косу за плечо, дует на прядки, соскочившие с головы и щекочущие глаза, и спрашивает, танцуя:
– Заэхал! С чего это?
И опять дует на прядки, играющие с ней.
– Скажу – не поверишь, – танцуя, отвечает Сашка.
– Поверю, – неожиданно улыбается Тоня широко, заметно.
И Сашка отвечает ей улыбкой во весь рот. А свадьба, глядя на их улыбки, сразу хлопает звонче и тоже улыбается.
– Сейчас скажу.
– Ну? – крутясь, приближается к нему Тоня.
– Я ведь обманул, – успевает сказать Сашка, пока она не отскочила.
– Кого? – спрашивает она, подпрыгнув.
Она теперь перестала вертеться и, сверкая голыми жжеными коленками (и сейчас солнце, а летом знаете какое!), прыгает вперед и назад. И Сашка прыгает то к ней, то от нее, как в пляске «А мы просо сеяли», и твердит весело:
– Всех сразу. Всех!
– Не понимаю, – запыхавшись, бросает Тоня и трясет головой, все еще машинально улыбаясь.
– Мне Саенко рыбу показал для всех, – объясняет Сашка сияя, – а я один взял. Поняла? Как Рачок.
Кажется, замерев, Тоня сейчас забудет о пляске. Но она прыгает, не опуская рук с пояса, и губы ее растягиваются все шире и приоткрываются все больше, и зубы блещут.
– Врешь, – смеется она.
– Как Рачок, – повторяет Сашка. – Точно.
А Тоня останавливается и качает бедрами, и головой, и всем телом. Тоня думает.
– Еще хуже, если так, – шепчет она, глядя в белый свет мимо Сашки, хотя он и крутится перед ней.
– Ага, – кивает он своей зализанной башкой, тарахтя вокруг Тони каблуками, потому что уже больше невозможно скакать взад-веред. – Рачок двух обидел, а я всех сразу. Он две сети резанул, а я…
– Та-ра-ра-ра-ля! – орет свадьба.
– Сниматься захотелось? – спрашивает Тоня.
– Точно.
Хотел сказать – из-за тебя. Хорошо, не сказал. Уберегся.
– Ну и снялся бы! – смеется Тоня, сверкая зубами, непонятно, понарошку или всерьез смеется. – Эх, Сашка, Сашка!
– Нет Сашки.
– Эх, Сашка!
– Скажи, Тоня. Скажи всем! – внезапно требует Сашка, вертясь вокруг нее и вокруг собственной оси, как Земля вокруг Солнца.
Горбов трясет за плечо Ван Ваныча и торопит:
– Как пляшут! Знатный бригадир с рыбосолкой. Снимайте, снимайте… Она девушка хорошая… Стенгазету делала…
Он любуется Тоней и Сашкой и думает, что по молодости Сашка, конечно, согрешил, но его придется простить, надо простить для Тони, наконец. Ведь чего, если спросить, хочет в итоге всех своих мук «пред» Горбов? Чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы.
– Снимайте, черти!
– Лимит! – невозмутимо отвечает Ван Ваныч, полосуя себя свободной рукой.
– Что? – недоумевает Илья Захарыч.
– Пленочка…
– Для рыбы?
– А как же! Народу интересно, как вы ее ловите.
– На рыбу пленка есть, а на танцы нет? – Илья Захарыч отталкивает от себя Ван Ваныча.
– Алик! – снисходительно зовет Ван Ваныч режиссера, который, скучая, сидит за углом стола. – Скажи Симе, пусть возьмет их на мушку… Коротенько. Я прибавлю пленки.
– Пусть возьмет, – безучастно соглашается Алик. – Сима! Крутани. Для стыка.
Для стыка – это не главное, это проходная сцена. Монтажный переход…
Сима заводит аппарат, как будильник, и трещит, и пляшущие фигуры Тони и Сашки навсегда летят в камеру. Эх, если бы еще поймать их слова, рождающиеся сквозь обманчивые улыбки.
– А тебя-то записали в скромники. Сниматься не хочет. Подумать, а!
– Скажи им, Тоня, – топчась, продолжает умолять Сашка. – Будь другом, скажи. Ну, что тебе стоит?
– Дурак ты! – в крутом повороте выпаливает Тоня. – Скажи сам.
А Сашка озверело лупит себя, как бы в наказанье, по груди и по ногам.
– Я сам не скажу. Пороха не хватит. Всем!
– Живи так! – пожимает плечами Тоня, и тут пленка (магнитофонная) кончается, и Тоня выходит из танца, обмахиваясь и улыбаясь, а Сашка крутит рукой над головой, словно гоняет голубей, и кричит Марконе, чтобы он повторил.
– Мне мало!
Может, это его единственный и последний танец с Тоней. Так натанцеваться хоть на чужой свадьбе. Завтра он будет как Рачок. Прокаженный. Повторить бы не танец, а вчерашний день. Вот бы как это было… Он бы созвал все суда, все сейнеры со всего моря – пусть телегости снимают, как ловят рыбу рыбаки, если это интересно народу. Но вчерашний день – это вчерашний день. Не повторишь…
Каждый день уходит в безбрежное море времени, как волна, не возвращаясь. Подбежит волна – но это уже другая, той не будет.
С визгом перемоталась пленка на «Сборной солянке», послушной рукам только одного человека на свете, своего создателя Маркони. И опять ударили гитары из какого-то старого кинофильма свое «та-ра-ра-ля», а Сашка повел глазами и не увидел Тони, потому что Тоня убежала за Аленин дом и там плакала наскоро, вытираясь пальцами и платочком, чтобы не навлечь подозрений. Но платочка на слезы не хватило, и она пошла, пошла, перелезла через пролом в заборе на пути (у нас все заборы в большинстве случаев каменные с проломами для соседского общения) и ушла, сама не зная зачем. Ушла Тоня со свадьбы.
– Славка, – между тем крикнул молодой бригадир, – выходи!
Славка большими пятернями зачесал назад свои густые, как швабра, кудри, рукава его белой нейлоновой рубашки сползли чуть ли не до локтей, обнажив кованые руки все в якорях, и вдруг он хлопнул над собой в ладоши так, что у Симы зазвенело в ушах, и Сима положил камеру на табурет и стал дырявить пальцами уши, а Славка уже теснил бригадира по кругу. Знал бы он, зачем его вызвал бригадир! Сашка опять танцевал и говорил. А когда они натопались и обстучали себя и Славка первым из бригады узнал все, он сказал:
– Это надо обдумать, – и выдал еще одну трещотку с головы до пят и крикнул: – Кузя! Поддержи бригадира, а то сковырнется! Гляди, как шатается!
Это, конечно, касалось Кузи Первого. Для Кузи Второго Сашка не бригадир. Для него бригадир телефонная трубка, почтовая марка. Он скромно подпирает дом, стоит себе, ковыряя стену каблуком согнутой ноги, и не натруженные интеллигентной работой руки держит за спиной. Кузя Второй всегда вот так в сторонке терпеливо помалкивает. Даже Илья Захарыч на больших неорганизованных молодежных сходках ставит его в пример.
– Кыш, кыш! Не галдите! – кричит он. – Посмотрите на Кузю Второго. Молчит, а вы га-га-га, га-га-га! Как гуси!
Сегодня Кузя Второй особенно грустен по причине, о которой никто никогда не догадается, и прежде всего счастливая Алена.
– Посмотри, Аленка, а Кузя-то Второй какой симпатичный.
– Кузя! Ты правда симпатичный.
– Поздравляю тебя, Алена.
– Спасибо, Кузя.
И промелькнули. Бывшая невеста, а теперь законная жена Кирюхи Алена и радистка Зиночка, которая долгая, тонкая, звонкая и прозрачная. Бегали в дом, наверняка подарки рассматривали. Кирюха туфли на шпильках купил, каждая шпилька с авторучку, а ведь все равно ему Алена до плеча не достанет, да у нас в таких туфлях и не прогуляешься, по нашей галечке. Но что с него взять? Молодой муж!