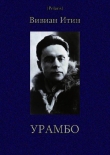Текст книги "Избранные произведения в 2 томах. Том 2"
Автор книги: Дмитрий Холендро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Петя толкнул боковую дверцу и вошел в скромное артистическое убежище, откуда Гошкин разогнал всех его обитателей. Старый мастер театральных подмостков вовсе и не клеил себе усов, а стоял у столика и наливал в одну из чашечек, принесенных Марьей Ивановной, водку.
– Это что, профессиональная привычка? – спросил Петя в изумлении.
Суетливыми руками Гошкин взял чашечку, выпил, спрятал бутылку в карман пальто, висевшего на гвоздике, и сказал:
– Ничего, ничего… Просто холодно! Зашел, купил по дороге… Да я и не хотел пить. Купил – потом закроют. Ничего…
Петя молчал.
Гошкин взял его за руку и прибавил миролюбиво, даже несколько виновато:
– Спился… спился… плебеем стал! – И перехватил повыше руку Пети, продолжая ласково: – Вы приехали на один день, а вы поживите тут. Поиграйте с этими талантами. Вот посмотрите наш спектакль, послушаете, как звучит голос… суфлера. Он засмеялся.
«Что ж, и посмотрю и послушаю, – думал Петя. – Я не зря трясся в «газике» и проехал столько километров. Послушаю и посмотрю!»
Когда он вышел, Гошкин сказал ему вслед:
– Мальчишка! Сопляк!
Но Петя не слышал его. Как он жалел сейчас, что это не он заведующий Домом культуры или хотя бы руководитель драматического кружка. Он бы, Петя, показал, какие серьезные спектакли здесь можно создавать и какие способности кроются в застенчивой Тасе, растерянной Ниночке и могучем Ющенко. Одна их преданность делу чего стоит.
Гошкин, отстранив его рукой, прошел на сцену.
Раздвинулся занавес, и за чайным столом показалась семья Берсеневых. Тася сидела внутренне напряженная, охваченная душевным смятением, сжав белокурую голову ладонями, а Марья Ивановна заботливо спрашивала Гошкина, успевшего на ходу приклеить себе злые черные усы:
– Лео, а вам налить?
Но Гошкин-Штубе, надменный морской лейтенант, уставясь в газету, не отвечал.
Все на сцене забыли о своих глубоких обидах. Когда в гостях появился Годун и когда он умно и гордо заговорил со Штубе, зал захлопал Ющенко, который был на удивление хорош – от матросской походки вперевалку до грозного сверканья в прищуренных глазах. А как трогательно он держал в своих ручищах хрупкую чашечку и как неподражаемо пил чай, обжигаясь, хотя на сцене изо рта шел пар от холода!
Петя сидел между Степаном Константиновичем и шофером Васей. Вася заметно преобразился. Он надел белую рубашку с малиновым галстуком, капризный воротничок все время заправлял пальцами под отвороты синего пиджака.
– На славу играют, а? – шептал Пете восхищенный Степан Константинович. – Гошкин как? Он в Ростове играл, в Саратове, в Нарьян-Маре. Заправский артист!
Петя грустно улыбнулся. Заправский артист на этой сцене был хуже всех. Сам-то он как раз неестественно выпячивал живот, заложив руку за спину, по-рачьи таращил глаза и не говорил, а кричал почему-то сиплым голосом. Плохой актер. Быстро становилась понятной его судьба. Много, может быть, пятнадцать, двадцать лет скитаний из города в город, из театра в театр, – и ни разу ни успеха, ни признания, потому что зря был сделан первый шаг – на сцену. И зачем он здесь сейчас, в районном Доме культуры? Почему?
Что-то Тася запнулась…
– Бог мой, как ты сегодня непонятлива! – рычит на нее Гошкин-Штубе.
Петя знает, что это слова по роли, но Гошкин нарочно повторяет их дважды. Тася еще более смущается.
– Бог мой, как ты непонятлива? – в третий раз повторяет Гошкин, и румянец на щеках Таси растет, покрывает их до ушей. Она смотрит на Гошкина, не отвечая, а тот топорщит черные усы и сверлит ее глазами. Ей, наверное, хочется уткнуться в стенку и заплакать. Глаза ее наполняются слезами. Петя слышит, как шофер Вася шевелит сухими губами:
– Женюсь, ни за что не позволю ей участвовать в самодеятельности. Обойдется и так.
Видно, Тася – его невеста. Петя спрашивает об этом неожиданном открытии Степана Константиновича, и тот отвечает на ухо, подмигивая лукаво:
– У них любовь!
– Бог мой, как ты сегодня непонятлива! – шипит, цедит, гавкает на нее Гошкин, брызжа слюной.
– Я его убью! – шепчет Вася, комкая в кулаках отглаженный пиджак на груди.
Сейчас он может подняться и прекратить спектакль. А что! Встал бы и прекратил. Но нет, он не сделает этого. Он лучше Гошкина. Да и Тася пришла в себя, освоилась, продолжает роль. И никто, кажется, не заметил этой драмы на сцене, кроме Васи да Пети. Вот Степан Константинович. Он сидит рядом со своей женой – такой же щуплой, остроносенькой, только страшно веснушчатой; в отличие от мужа солнце расщедрилось на нее. Оба они всем, всем довольны.
– Костюмчик-то как подошел, а? – толкает он Петю в бок, показывая на Годуна. – Хорош морячок.
Не всякие артисты слышали такие аплодисменты, которые раздались в зале после первого акта. Петя побежал в раздевалку. Тася сидела там у стола и рыдала.
– Я понимаю, что не имею права делать этого, но не могу и не буду больше играть с ним. Не буду! – Она сняла с себя и швырнула на стол косынку.
– Ах, ах, ах! – театрально разводил руками Гошкин.
– Вот что, – прищуриваясь от негодования, решительно сказал Петя. – Гошкин! Кто-нибудь заменяет вас?
– Он незаменимый, – сказала Марья Ивановна.
– Тогда, если вы не возражаете, я доиграю Штубе! – звонко объявил Петя. – Я люблю эту пьесу и знаю роль.
– Что?! – выпрямляясь, ощетинился Гошкин. – Я пожалуюсь!
Но Ющенко вежливо попросил его:
– Снимайте китель, Аркадий Семенович.
– Правильно, молодец! – заговорила Марья Ивановна, беря Петю за плечо. – Может быть, это и вразрез с театральными обычаями, но мы самодеятельность. Мы не будем больше играть с вами, Аркадий Семенович. Не хотим.
– Снимайте китель, – небрежно потребовал и Вася, пришедший защищать и успокаивать свою невесту, а она перестала плакать.
Вася вызвался подежурить за кулисами, у двери артистической комнаты, чтобы Гошкин спокойно провел там время спектакля, не смущая публики. Тот запротестовал, но Вася посадил его на табуретку и сказал:
– Вы пьяный.
А Петя прикрыл глаза на секунду, проверяя, готов ли он внутренне к выходу на сцену, но вместо нужного образа перед ним встало пьяное лицо Гошкина, и он снова решил про себя, что не мог поступить иначе. А оказавшись вместе с Тасей на сцене, незаметно от публики дружески подмигнул ей.
3
На улице все так же дул ветер и шел дождь. И было темно. Где тут Дом приезжих, в котором Петю ожидала койка, куда идти, не разберешь. Но Пете и не пришлось разбираться, так как его позвали ночевать к себе Степан Константинович с женой «на правах старых знакомых», как сказал при этом механик.
С секретарем райкома Алексеем Антоновичем Петя договорился встретиться утром. Степан Константинович рассказывал, как все в зале удивились замене Гошкина, но, конечно, догадались почему. Пьет, пьет! Петя хмурился.
Для того ли строили большое, почти театральное здание в голой степи, где свистит бесконечный ветер, для того ли писалась пьеса о матросе революции Годуне, для того ли учили роли Тася и Ниночка, которые были так хороши, и Ющенко, с одаренной душой человек, для того ли везли ему матросский костюм Степан Константинович и Вася, и жители районного села собирались после трудового дня в своем Доме культуры для того ли, чтобы желчный Гошкин наводил в нем свои порядки? Такие люди – и вдруг Гошкин. Вон его – и на ветер! Завтра все это он выскажет секретарю райкома.
Что ж, а пока – к знакомым, о которых он знает еще так мало. Хлюпая по грязи сапогами, Степан Константинович рассказывал теперь, как он стал именно Константиновичем. До прошлой осени был все еще Степой и Степой. А вот женился, и пошли его величать по отчеству.
– Вы и женились в этом селе? – поинтересовался Петя, оставляя главные думы на завтра.
– Нет. Я из ленинского колхоза. Я там агрономом работала, – бойко ответила за молодого механика жена.
«Это там, где сад», – припомнил Петя.
Сад, сад! Странно, сад этот стал главной приметой всей дороги.
А сажал его секретарь райкома Алексей Антонович, в прошлом парторг ленинского колхоза, видимо, умный мужик, а вот на тебе, терпит Гошкина.
Не отвяжешься никак от этих мыслей.
– Значит, вы из того ленинского колхоза, где сад?
– Да, да, да, – сказала шустрая жена механика, а сам он вздохнул, да как-то тяжело, с хрипом, со стоном, непритворно, и подосадовал:
– Вот жалуется: не повезло ей!
– Вам? – почти возмутился Петя, искренне увлеченный Степаном Константиновичем. – Чем же это вам не повезло?
Он готов был по-настоящему расстроиться и рассердиться. А она тихонечко засмеялась, прикрываясь краем пухового платка и не отвечая.
– Спросите, спросите! – подзадоривал Петю Степан Константинович без сочувствия к жене и ее смеху, такому сдержанному и веселому, точно она напроказила, как девчурка, и знает, что ее не очень накажут за шалость, но все же побаивается.
– А вот придем домой, я вам за оладьями расскажу, – пообещала она Пете и тоже вздохнула.
Дом, оладьи, теплая печка – что это за чудо после такого дня! Молодожены занимали две нарядные комнаты. Обставлены они были вполне по-городскому, с хорошим гардеробом, буфетом, в котором громоздился сервиз – свадебный подарок родителей Степана, о чем сказала его жена, – с большими фотографиями на стенах: на одной – выпускники курсов механиков, на другой – агрономического техникума, в овальчиках, а в центре той и другой, в овалах покрупнее – фотографии учителей. И стены, и буфет, и кровать, и этажерка с книгами, и тумбочка с духами – все было украшено яркими вышивками.
– Это Лена, – объяснил Степан Константинович.
Оладьи нетерпеливо зашкворчали на горячей плите. Через какую-то минуту их выросла целая гора на тарелке, и проворные руки Лены уставили стол всякой едой: копченой рыбой, салом, порезанным на прозрачные и оттого розовые кусочки, домашним печеньем, а к чаю появился и лимон.
Степан Константинович усадил Петю за стол.
– Ну, вот какая у нас история, – начала без предупреждения Лена, и Петя понял, что история эта уже давно обсуждалась в доме. – Работала я агрономом. Работа нелегкая, все время в поле, с шести утра и до темна. Как будто бы и хорошо, что теперь я хожу на работу к девяти и сижу до шести, а потом дома, но, – она посмотрела на мужа, – мне не по душе… Не нравится!
– А где вы сейчас работаете?
– В райисполкоме, секретарем.
– Ну?! В связи с замужеством переменили профессию?
– Нет! – пристукнул кулаком по столу Степан Константинович так, что чай у него выплеснулся из стакана на скатерть. – Выбрали ее! Сам на тракторе сведения доставлял! – Он оглядел пятно на скатерти и стал виновато растирать его.
Лена протянула руку с полотенцем, вытерла пятно.
– Выбрали, – подтвердила она, мягко улыбнувшись. – Выбрали в районный Совет и взяли работать в райисполком, потому что… вот, – она кивнула на мужа, – ну, в общем понятно почему, а теперь я жалею…
– Что за меня замуж вышла? – взволнованно спросил Степан Константинович больше для Пети, чем для себя.
– Ты пей чай! – снова тихонечко засмеялась Лена. – Не жалею, что за тебя замуж вышла, и жалеть не буду. Я другим не завидую, пусть мне позавидуют. А что сама собой судьба у меня вышла печальная, то это, правда, вышла. Ну, вот вы скажите, как тут быть? – доверчиво обратилась она к Пете, а он, вместо того чтобы поразмыслить над ответом, любовался тем, какие у нее ясные, честные глаза с карими кристаллинками в синей глубине, какие пушистые детские завитки на висках и как она легко улыбается и смеется. Должно быть, очень смешливая.
– И вы не можете ответить, – сверху вниз сокрушенно покачала головой Лена. – Никто не может. А я все же убегу.
– Вот! – воскликнул Степан Константинович, со звоном ставя стакан на блюдце.
– Куда? – выпалил вслед за ним ошеломленный Петя.
– Убегу, – повторила Лена ради собственной твердости. – На сев.
И она прищурилась и посерьезнела разве только на миг. Затем веселая, ласковая улыбка снова приютилась у ее тонких губ. Слушая ее, как бы ее взглядом Петя видел степь, ровные, без границ, поля, дымку влажного воздуха над ними, тракторы, тянущие сцепы сеялок.
– Как пришла весна, так я вскидываюсь по утрам, до рассвета, – говорила Лена, – и уж больше спать не могу. Тянет в степь.
– Я тебя взаперти держать буду, – грозно пообещал Степан Константинович. – Сиди.
Не считаясь ни с возражениями, ни с мольбами Пети, ему постелили на кровати, а хозяева остались в первой комнате на диване, к которому подставили стулья. И стало тихо, только ветер гулко валил за окнами, всплескиваясь в воздухе, и был он похож на реку, хлынувшую мимо дома, и к шуму его нельзя было не прислушаться хоть на время. Но потом Петя привык к ветру и совсем перестал его слышать, вспомнив Гошкина.
Глупая фигура? Нет! Это он второпях подумал о нем. Те, кто назначал сюда этого артиста, несерьезно, неуважительно отнеслись к Лене, Степану Константиновичу, Васе. Петя заворочался, и Степан Константинович громким шепотом окликнул его:
– Не спите?
– Сплю, – отозвался шепотом Петя, чтобы успокоить хозяев.
– А что, Гошкин – плохой артист, а? – спросил Степан Константинович, видимо переосмысливая свои оценки.
– Плохой, – убежденно ответил Петя. – Просто никудышный, просто гнать его надо.
Механик молчал.
И Петя понял, что Степан Константинович, может быть, и не ошибался, может быть, давным-давно знал цену Гошкину, но хвалил его сегодня в первом акте потому, что ему хотелось, чтобы всё в районе, где он живет, было хорошим, чтобы всем он гордился.
– Спать пора, – нестрого, но внушительно предупредила Лена.
Пете вспомнилось его училище и один из друзей, с которым он, правда, много спорил все годы учебы. Скажи ему и сейчас про районный Дом культуры, – как он натопырщится! А где он? Женился на красивой актрисе и теперь каждый вечер встречает ее у служебного подъезда московского театра, ограждая от подозреваемых провожатых. Как-то Петя видел его, приезжая в отпуск. Весь он обносился, усох, но не подает виду и сочиняет, что его зовут по крайней мере в десять провинциальных театров, но он никуда не едет, ибо расти можно в одной Москве.
А не ближе ли к Москве та же Лена и Степан Константинович по духу, по мыслям, по скромным своим делам? Приехать бы сюда тому другу. Не приедет! Что ж… Презренье сидням! И да здравствуют те, кто едет, кто работает, не испаряясь, как роса, и не витая в облаках где-то между землей и небом, так и не обретая своего места в жизни.
Он лежал закинув руки за голову и все ближе подходил к мысли остаться здесь вместо Гошкина. Тем более что он пока еще не женат и волен сам выбирать, где ему лучше. Только бы поддержал его Алексей Антонович и согласились на назначение областные руководители. А что? То-то удивятся в Доме народного творчества! Эх, верно, удивится даже ко всему равнодушный верзила-шофер, которого он бросил на дороге, а приехать бы и ему сюда, к Степану Константиновичу, вместо того чтобы целыми днями дремать в машине у подъезда, положив голову на «баранку».
И он заснул.
Утром Петя поразился тишине, разлитой за окном. Ветер весь унесся куда-то, и не верилось, что так неподвижно, будто вделанное в стекло, может стоять тонкое дерево с чуть проклюнувшейся листвой и таким обильным бывает свет (в нем растаяла маленькая занавеска) и такой нежной синева. Он, однако, заспался!
Петя позвал Степана Константиновича, но ему никто не ответил, и тогда он быстро и смущенно вскочил. Одевшись и разведя руки для зарядки, он глянул в высокую синеву за окном и застыл так. Какой большой мир под этой солнечной синевой, за домами, углы и крыши которых видны в окно, далеко отсюда. И как он заманчив! Вчера Петя почти решил остаться здесь, но об этом надо еще подумать. Хорошо, что он не сказал Степану Константиновичу: было бы неудобно отступать.
В синеве, над крышами, пролетали птицы. Петя проследил за ними и подумал, что огромная степь, должно быть, не так привольна для птиц, как тесная рощица, как два-три густых дерева, полных щебета. Степь для него была широка и неизвестна.
Но где же Степан Константинович? Где Лена? Хоть он поспал больше, чем полагается, еще нет девяти. Оставили его одного, а ему скоро нужно к секретарю райкома. Как быть с домом?
Петя выглянул во двор и посидел под солнышком на скамейке, размышляя о своей поездке. Странно… Вчерашняя ненависть к Гошкину, которого он считал негодяем, несколько притупилась.
Конечно, он не пощадит его, он скажет о нем все, что надо, секретарю райкома, но он уж знал и о том, что первый автобус, пожалуй, повезет его домой. Хорошо бы купить Лене и Степану Константиновичу какой-нибудь подарок на прощание, книгу или что-то такое.
Петя вздрогнул от громкого стука калитки, повернулся к ней и увидел Степана Константиновича. Тот был в рубашке, без пиджака, растрепанный и растерянный.
– Удрала! – закричал он Пете. Губы его дрожали. Петя сразу понял, о ком речь, но механик повторил, объясняя:
– Лена убежала!
И Петя пригляделся к нему, не разбирая, какого чувства больше на его лице: горя, обиды или восхищения, и не зная, что делать ему, сочувствовать или восторгаться.
Степан Константинович протянул Пете записку.
«Милый Степушка! – было написано на листке. – Я уезжаю в Ленинский, на сев. Алексей Антонович разрешил. Не сердись на меня, Степушка. Оладьи в духовке, разогрей, накорми гостя. И сам не забудь поесть. А то забудешь. В поле увидимся. Лена».
– Удрала! – в третий раз повторил Степан Константинович.
– Настояла на своем, – сказал Петя.
– Ведь она беременная, – пробормотал механик.
И Петя подумал, что Лена все-таки уехала на сев, а он собирался подарить ей книжку на прощание.
– Когда же она уехала? – проговорил он, чтобы что-то спросить. – Не удержали?
– Проспал, – униженно признался Степан Константинович и положил руку на плечо Пети. – Вы возьмите сами оладьи, а? Подогрейте и поешьте, а? А я тоже в поле.
– А где сейчас Алексей Антонович? – спросил Петя.
– В поле! Сегодня день-то какой, а?
Завернув холодные оладьи в газету, они побежали через все село на его дальний край, к мастерским. Степан Константинович быстро завел грузовик, именуемый «походная мастерская», и они поехали в степь, над которой неудержимо сверкало солнце. Степан Константинович прибавлял и прибавлял «газку», не забывая при этом раскланиваться с шоферами встречных машин, трактористами и пешеходами.
Степь подсыхала, и легкая пыль курилась за сеялками. Петя провожал их глазами, рассматривая степные дали, тракторы, которые обгоняла машина, и самолеты, рассыпающие удобрения на поля. Они летали дружелюбными парами. Два самолета в той стороне, два – в другой оставляли за собой серые хвосты, свисающие до земли. И все вокруг, озаренное вспышкой яркого весеннего дня, приближалось и удалялось, вырастало и таяло. В этом солнечном мире тонкой ниткой тянулась вчерашняя дорога…
«Ах, дорога, дорога! – вспомнил Петя. – Гладкие рельсы, тряские кочки…»
Обратная дорога в знакомые дали, в привычные места, откуда он приехал, осталась в стороне. Манящие дороги бежали по земле, но ведь не случайно, не просто так, ниоткуда и никуда, их протянули между местами, где жили, работали, мучились и боролись люди. Не пора ли и ему остановиться, чтобы, образно говоря, посадить свое дерево? Для людей. Он посмеялся над привычной торжественностью своего вопроса и подумал про себя: болтун. А вот взять да и перестать болтать – нет же ничего проще…
Петя изумленными глазами вбирал в себя степной простор, а ему все не было конца.
Они ехали, ели оладьи, и Петя радовался тому, что, кажется, останется здесь и увидит маки в человеческий рост.
1953
Раннее утро
Утром вода в море бывает такой прозрачной, что плывешь и видишь свою тень на дне. Вода как воздух. Будто ее и нет вовсе. Она почти не задерживает света, и плывешь в зеленоватом пространстве и видишь всю себя, а тень крадется за тобой в глубине, по дну.
Леля следит за ней, гребя руками и улыбаясь. Потому что ведь и в самом деле смешно и радостно, что море бывает таким прозрачным.
Таким его можно застать лишь рано утром. Может быть, оно успокаивалось за ночь, когда все спало в тишине – и горы вокруг, и ветры? Может быть, оно ленилось с утра? Не грешно и морю полениться немного, если все отдыхают. Может быть, оно было светлым в эти часы потому, что солнце здесь вставало не откуда-нибудь, а из него, из моря?
Может быть, такое море было только здесь? Леля не видела других морей, да и с этим встретилась впервые в жизни.
Она приехала сюда с мамой отдыхать и по утрам первой ныряла в волны, такие спокойные, что даже тоненькой кромки пены еще не бывало на берегу.
Вылезешь – волосы отжимать не надо. Они острижены у Лели коротко, как у мальчика. Не нужно закрывать бумажкой вздернутый нос: уже облез в первые же три дня. Леля ложилась у воды и нагребала перед собой горы гальки в поисках красивых камешков.
Вторым обычно приходил Гулливер – так прозвали его за рост. Он с размаху ложился рядом и сразу начинал чиркать прутиком по плечу Лели. На загорелой коже оставались белые метки.
– Гулька! – возмущенно вскрикивала Леля.
– А?
– Что ты колешься?
– Я?
– А я?
Немного погодя он снова пускал прутик в ход, пока Леля не выхватывала его и не отбрасывала подальше. Тогда Гуля начинал сдувать в ее сторону песок с ладони. И наконец она сама забрасывала галькой его волосы, и шею, и плечи, ни капельки не жалея его даже тогда, когда веселый мальчишеский смех переходил в хриплые вопли о пощаде. Гулливер всегда немножечко притворялся.
Леля бросалась в море. Плыла сначала саженками, потом брассом и как придется. И барахталась, и ныряла, и, усталая, доплывала до флажка, качающегося на обшарпанном спасательном круге. Дальше заплывать не полагалось.
Так бы и прошли все дни…
– Отпустите круг, – сказал кто-то однажды над ее ухом.
Она оглянулась. Рядом неслышно скользила лодка, и в ней сидел без рубашки совершенно кофейный мальчик, которого она раньше здесь не видела.
Это была лодка спасательной службы.
Леля перехватила круг другой рукой.
– Нельзя?
Лет ему было не больше, чем ей, но он очень важничал и, во всяком случае, не добавил ни слова. Только перестал грести.
– А если я устала, тону? – спросила Леля с усмешкой.
Он ничего не ответил, и она отпустила круг. Флажок, касавшийся ее плеча, выпрямился.
– О чем он с тобой там говорил? – поинтересовался Гулливер, когда она вылезла из воды.
– Боялся, что я его круг утоплю.
– Это идея – утопить спасательный круг, – сказал Гулливер.
– Утопи!
Но Гулливер стал кидаться в нее камешками.
– Гуля!
– А?
– Перестань! – предупредила она, выбирая в гальке крупный голыш.
Волны, набегая, ласково щекотали ноги. В ямке, которую Леля раскопала прямо перед своим лицом, то поднималась, то приседала вода. Это дышало море, и, не оглядываясь, можно было угадать: вот волна подошла, а вот схлынула. Солнце пригревало. Снова тянуло в воду. Леля покосилась на лодку и подумала: «Покататься бы в ней! Может быть, утащить у этого мальчишки его боевое судно? Может быть, заплыть – пускай спасает?!»
Ее давно тянуло к рыбачьим лодкам, ночующим на берегу, поодаль от пляжа. Ранним утром, еще сквозь сон, она слышала, как, стуча моторами, они уплывали в море. Поздними вечерами следила за таинственными красными значками на носах возвращающихся баркасов.
Она видела, как рыбаки чинили сети, растянутые на берегу, и смолили их, окуная в жаркий, дымный котел, врытый по самые края в землю, брала в руки живую, выскальзывающую рыбу, и бородатый старик в майке-безрукавке объяснял, что это кефаль, а не ставрида… У старика лицо было морщинистое, доброе, и Леля попросилась в его пузатую лодку, чтобы плыть туда, где на высоких кольях, поддерживающих в море сеть, сидели чайки.
– Устраивайтесь, – разрешил старик.
Но бригадир заупрямился, и старик сказал:
– Придется освободить.
От обиды она пожелала тогда им не поймать ни одной рыбины.
Пока Леле вспоминалась эта досадная неудача, на пляже появились другие ребята из дома отдыха. Гулливера, как он ни брыкался, раскачали за ноги, за руки и с победными криками бросили в море. Стали вместе шумно нырять и плавать, а потом от нечего делать мазаться жидкой глиной, размачивая в море сырые легкие куски, отбитые от соседней горушки. Клейкая глина быстро высыхала на теле, и все становились похожи на странных пепельных человечков, будто залетевших сюда с другой планеты, например с Марса…
Все, что хочешь, представляй себе в этом фантастически ярком мире, среди безудержного блеска солнца, моря и неба.
Солнце, опрокинутое в море, лучилось неистощимо. И гладь моря, тающая вблизи, тяжело синеющая вдалеке, вспыхивала пятнами. Не могло оно, такое огромное, вспыхнуть все сразу. Небо уходило за края гор и моря, но висело так низко, что по нему легко было провести рукой: ведь это прозрачное пространство над головой и есть то самое небо, про которое говорят, что его достать нельзя… А тут оно рядом…
Расплескивая воду, Леля вбежала в море, поплыла и – раз! – с головой ушла в прохладную глубину. Вынырнула, осмотрелась: молчаливый мальчишка-лодочник застыл на месте, словно сам он был не человеком, а условным обозначением запретной зоны, как спасательный круг с флажком. Скучно же ему, наверно, там!
То погружаясь в воду, то выпрыгивая из нее и оглядываясь, как юркая морская птица нырок, Леля передвигалась, пока не схватилась за шершавый борт скромного судна спасательного флота.
– Покатайте нас! – попросила она, отбрасывая свободной рукой мокрые волосы с лица.
Лодочник приподнял весла, чтобы не зацепить ее.
– Покатайте! Что вам, жалко?
– Отпустите лодку, – безжалостно сказал он.
– Эх ты, жадина! – с досадой проговорила Леля, крепко держась за борт.
Он молчал.
– Ребята! – озорно позвала она. – Сюда!
И стала первой взбираться в лодку. Пловцы спешили наперегонки. Паренек подождал, пока они, поругивая друг друга, неловко разместились на сиденьях. Теперь Леля рассмотрела его поближе. У него было сердитое лицо. Льняные волосы и выцветшие брови напомнили ей одноклассника, которого звали «Седым». Очень похож. И Леля улыбнулась лодочнику и сказала:
– Поехали!
Солнечные блики прыгали по воде вокруг осевшей чуть ли не по самые борта лодки. Паренек тоже улыбнулся Леле, поднял и завел назад весла. Светлый дождь посыпался с них в воду.
– Полный! – скомандовала Леля.
Лодка развернулась, поплыла и… пристала к берегу.
– А все-таки покатались! – сказала Леля, первой спрыгнув на пляж.
Она подхватила свой сарафан, надела на ходу, и он тут же промок пятнами от купальника.
…Два дня после этого Леля купалась в другом месте и заплывала, куда хотела. Мальчишки же подружились с лодочником и даже катались в его лодке. Звали и Лелю. Но она с Гулливером отрабатывала на волейбольной площадке подачу. Становилось скучно – садилась на мяч. Гулливер усаживался напротив и вытирал пот с лица. И снова кидали мяч друг другу.
Вокруг стояли горы, облитые солнцем. На ближнем склоне Леля увидела цепочку живых фигурок, пригляделась и узнала ребят.
– Куда это они? – спросила она почти испуганно.
– Да на озеро… – нехотя отозвался Гулливер. – Потащились… В такую жарищу!
– На какое озеро?
– Где-то в горах.
– А кто сказал?
– Костя.
– Костя? Какой?
– Да этот… лодочник!
– Седой? – спросила Леля. – А он пойдет?
– Нет. Он же плавает. На своем дредноуте.
– Тогда я пойду.
И Леля побежала.
Она была городской девочкой, и ей очень захотелось взглянуть на горное озеро. Гулливер схватил мяч и кинулся следом.
И вот перед ними открылись горы. Издали они казались голыми и неживыми, а вблизи словно переменились. В каждой выемке, будто в пригоршне, горы держали миндаль и кизил, а из каждой трещины по узловатым стеблям, как по веревкам, выбирался дикий виноград.
Бледно-розовые, в цвету, кусты шиповника стояли на самой высокой скале, куда забралась Леля. Среди камней попадались загадочные метлы мелких-мелких цветов на коротких ножках, точно обрызганные синькой. Сорвешь куст – и сразу букет в руке.
Леля прыгала с камня на камень, не подавая руки Гулливеру, все время пытавшемуся поддержать ее, словно она могла упасть!
Далеко внизу, на воде, точкой кружился «дредноут» с лодочником. Интересно, знает ли он, что это за синий бурьян, и какая гора виднеется справа и какая слева, и что прячется за ними. Должен знать – он ведь местный.
Озеро выглядело просто, с осокой по одну сторону и кустарником по другую, словно кто-то взял его снизу, поднял сюда и оно так и осталось синеть среди громоздившихся в небо скал.
Леля нырнула в озеро в чем была, и вода, оглушающе ледяная, сковала ее. Мальчишки закричали, протянули с берега руки.
– Гулливер, – попросила Леля, не попадая зубом на зуб, когда выбралась на берег, – дай мне свои штаны!
Все мальчишки были в трусах, но Гуля не позволял себе такой вольности и даже днем носил брюки, а по вечерам ходил в пиджаке и галстуке.
– Пожалуйста, – сказал он Леле, чересчур громко захохотав. – Ты утонешь в них.
– Не утону! – крикнул она, побежав к курчавой серебристо-зеленой рощице за озером. И сейчас же появилась оттуда в подвернутых Гулливеровых штанах. – Ребята! Здесь миндаль!
Миндаля нарвали в майки столько, что всю обратную дорогу грызли, грызли и еще принесли с собой. Зубы у Лели потемнели от кожуры молодых орехов. Для мамы она несла тот неизвестный синий куст.
Мама поцеловала Лелю, но сказала:
– На кого ты похожа?
– Я тебя огорчаю? – серьезно спросила Леля.
Положив голову на мамино плечо и глядя в сторону, она вдруг припомнила… Маленькую ее всегда вертели, когда она приходила со двора. Ботинки в грязи, руки тоже, повернут спиной – на спине мел!.. «У нас не дочка, а бандит какой-то растет», – говорил обиженно папа. «Давай отдадим ее кому-нибудь», – предлагала мама. «А кто ее возьмет?»
Неожиданно захотелось домой. И, подсчитав, она не пожалела, что до отъезда осталось так мало.
Но конечно же надо было сходить еще к далекой бухте, так условились с мальчишками. Возле этой бухты попадались совершенно редкие сердолики. У Лели был один, но такой ничтожный, что его стыдно показывать дома…
О далекой бухте ребятам тоже рассказывал лодочник Костя.
Туда не было ни обычной дороги, ни даже козьей тропы. Скалы, охраняющие ее, отвесно падали в море, и в бухту можно было заплыть только из соседнего заливчика, где среди мягких бородатых камней, залезших в водоросли, сидели здоровенные крабы.
– Нет, нет, – настойчиво возражала мама утром. – Я тебя никуда не пущу! Идти да еще плыть!
– Мамочка! – умоляла Леля. – Я принесу тебе живого краба!
– Спасибо. Мне совершенно не нужен живой краб, – отвечала мама. – Что я с ним буду делать?
Они разговаривали в своей комнате, расположенной на втором этаже дома отдыха, а внизу, в парке, под балконом, Лелю давно дожидался Гулливер.
– Не нравится мне этот ваш… семафор, – строго сказала мама, поглядев в окно. То ли как железнодорожница, то ли оттого, что Гулливер готов был весь день проторчать под балконом, мама спутала его прозвище. – И зачем тебе эти крабы?