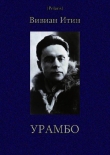Текст книги "Избранные произведения в 2 томах. Том 2"
Автор книги: Дмитрий Холендро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
– Эй, вы! Крики поднялись:
– Сибиряк, придержи руки!
– Он же пошутил.
– Оба пошутили.
С соседних кроватей поспрыгивали ребята, повалили Бобошко, придавили к матрацу, пока остынет. Махотко отвел Кешу в сторону, дал слегка по шее.
– И хватит!
И тогда кто-то сказал:
– Тебе бы влюбиться, Бобошко.
– Зачем это?
– Облагораживает.
Бобошко потрогал место под глазом, куда получил удар, и усмехнулся погромче:
– Влюбиться! Да у меня их было-было! Всяких – и толстых, и тоненьких, и белых, и рыжих, и не поймешь каких. Только голубой не было, врать не стану.
Мечтательный бас протянул:
– Голубые женщины водятся на острове Борнео.
– Втюрится – поедет и на Борнео.
– Да никакой такой любви нет!
– Нет, есть… – возразил благодушный голос. – И боль-ша-ая! Вот у меня был сосед, женатый на Зине. Очень ее любил. Она у него на руках померла. Женился на Кате. И ее любил.
– Катю?
– Ну да! Очень. Ее грузовик сшиб.
– Катю?
– Ну да! Домой торопилась, дура. Теперь женатый на Оле. Тоже любит. Очень.
– Глупый ты, парень.
– Почему это я глупый?
– Болтаешь много. Тебе думать некогда.
– Спим, братцы!
Но спать уже никто не хотел.
– Что такое любовь, если говорить по-настоящему? Поэзия!
– Я не поэт, – сказал Бобошко. – Я камни таскаю.
– Прав Бобошко! Мы сюда не романы крутить приехали, а строить!
– Для чего? – спросил голос сквозь кашель, и все притихли, потому что голос был неожиданный, немолодой. Снова вспыхнул фонарь в чьих-то руках, луч света направили на этот голос, и стало видно, как в кровати, поворочавшись, приподнялся лысый человек с круглой головой. И сказал просто:
– Все хорошее от любви, ребятки.
Изрек прямо, как поп.
– А гражданский пафос? – спросили его с издевкой.
Лысый приподнялся еще выше, фыркнул в пятне направленного на него света.
– Философы! Балбесы! Для чего вы будете дома строить? Чтобы люди жили в тепле и ругались на чем свет стоит? Или магазин? Чтобы тебя же в нем обвешивали? Тогда не стоит и городов городить. Не бросайтесь любовью, граждане!
– Комендант, а вы стихов не пишете? – ехидно спросил Бобошко.
Он, оказывается, уже знал, что этот лысый, поселившийся в их палатке, – комендант.
– Я для вас буду нужники ставить.
– Труд создал человека, как сказали Маркс и Энгельс, – съязвил Бобошко.
– У тебя и экскаватор есть, – беззлобно ответил комендант, – а ты еще с четверенек не поднялся.
Засмеялись и поддержали:
– Карл Маркс прав. И комендант прав.
– Если мы говорим… – бойко начал пискля, молчавший до сих пор, но его перебили:
– Нет, постойте! Интересно! Имеется в виду женщина или вообще любовь? Есть же любовь к родным, к родному месту даже…
– Или к коню. Чего вы ржете? Я серьезно, а они ржут!
– Комендант имеет в виду любовь к ближнему.
– Это уже религия.
– Не религия, а человеколюбие, балдюк.
– За что же вы его балдюком?
– Любя.
– Ну, человеколюбие – это я согласен. Просто – человеколюбие. При чем тут баба?
– А баба не человек?
– Сибиряк! Что молчишь? Что ты думаешь?
– Я думаю: если ты к женщине относишься как скот, чего от тебя ждать людям?
– Абстрактный гуманизм.
Еще кто-то поворочался в кровати, пробасил на всю палатку:
– Типичная отговорка для хама.
Кеша уточнил, заулыбавшись в темноте:
– Почему абстрактный? Я имею в виду нашу родную, социалистическую женщину.
Балагур жалобно крикнул:
– А где другую взять?
И совсем развеселился народ, разошелся.
– Послушайте, послушайте! Если мы говорим… – пробивался пискля, но на этот раз его перебил сам Махотко.
Махотко не любил философских споров: они надолго и без толку, а завтра – в котлован, первая стройка, но все же и он вставил свое слово:
– Хлопцы! Поэту полагается что-нибудь необычное и говорить, и совершать… А наш сибиряк – не поэт, а вернулся в город, где землетрясение! Из-за девушки вернулся. Это факт. Сибиряк! Как ее зовут? Слышишь?
Кеша не отвечал.
– Где ты? – спросил Махотко.
Луч света уперся в пустую кровать, и Махотко с досадливой бранью соскочил на пол, пробежал по палатке, развел в стороны боковушки входа. Дождь шумел, будто зарядил навечно.
– Ке-ша!
– Промокнет – вернется, – успокоил Бобошко без чувства вины. – Не растает. Гражданин не сахарный.
– Собрание считаю закрытым, – объявил Махотко. – Завтра в котлован.
– А мне так и не дали сказать! Вот послушайте! – обиделся пискля и осекся.
Теперь его перебил знакомый гул. Он неудержимо нарастал в подземной глубине. Все ближе, ближе. И опять завыли собаки. Съехав с места, застучали друг о друга кровати. Брякнули кружки, покатившись с полок.
«Рассказывая о землетрясениях в Лиссабоне, Сан-Франциско, Мессине и чилийской провинции Вальдивии в прошлых и нашем веках, французский писатель Пьер Руссо третьим злом после разрушений и пожаров называет грабителей, которые «в отличие от полиции и пожарных не теряли времени и видели в страшной катастрофе не кару господню, а удобный случай поживиться за счет других».
– Эй! – крикнул Кеша.
Темный ком слетел с балкона второго этажа и плюхнулся на мокрый тротуар. От стены дома тут же отделилась фигура, но шагнула не к узлу, а к Кеше, сказала, приложив палец к губам:
– Тсс… – и погрозила кулаком.
– Сволочи! – удивился Кеша. – Вы что?
– Тихо!
Человек был рослый, темнота и дождь мешали рассмотреть его лицо. С Кешей разговаривал он без раздражения и страха. И эта обычность голоса, и то, что он видел за недавние дни, и поиски Мастуры, и глупое предательство Бобошко, все вместе вдруг вызвало у Кеши приступ ярости:
– Бандюги!
Нож! Кеша попятился невольно, но сзади сказали:
– Не бежать!
Сзади к нему приближался второй, с куском железной трубы в руке. Вероятно, он прозевал Кешу, а может быть, подумал, что парень сам тащит неизвестно чьи пожитки и пройдет себе мимо. А он не прошел… Отскочив, Кеша прижался к стене под балконом, с которого слетел тюк. И тут же услышал, как пониже груди, в солнечное сплетение, надавило больно острие ножа и первый голос сказал:
– Постоишь так, пока мы не уйдем. Понял, молодец?
Парень с трубой, приблизясь, нашел ладонью его лицо и стал мять, елозя пальцами по колючим щекам.
– Хочешь побриться – береги башку.
Он оторвал от Кешиной рубашки большой кусок, и Кеша понял, что сейчас ему вдавят в рот кляп и, наверное, свяжут, чтобы совсем обезопасить. Старший, отойдя, поднял узел, просвистел строку из безобидной песенки, и сейчас же с балкона свесилась веревка.
Пока совали в рот тряпку, Кеша сообразил: по веревке третий спустится. Дом-то был целый, и жильцы, уходя ночевать во двор, в палатки, двери, должно быть, запирали, а балконы оставляли открытыми… И не воровали, хотя город жил нараспашку.
И еще Кеша вспомнил, как ходил с дедом на рысь и однажды бил в нее с шага, потому что раненая рысь до последнего момента бросается на человека, а не бежит. Бить! Он ударил парня ногой в живот, сшиб и со всей силой, какая ему была отпущена, дернул за веревку, пока наверху, над головой, еще не перестал постукивать крюк, цепляемый, как видно, за балконные прутья. Сдавленный вопль раздался оттуда, – вероятно, крюк ободрал руки тому, третьему. Железо ударилось об асфальт.
Старший бросился к крюку, отшвырнул узел, но не успел, Кеша вырвал его из-под самых ног грабителя и, отпрыгнув от стены, стал крутить крюком на веревке вокруг себя. Крюк свистел и ухал в воздухе, никого не подпуская. Выдернув кляп изо рта, Кеша кричал во весь голос:
– Махотко! Бобошко!
Знал, что до них не докричаться…
Он забыл про трубу. Труба, брошенная низом, ударила его по ногам, и он упал, а труба полетела дальше, задевая за асфальт тротуара и звеня.
И сейчас же как в ознобе затряслась земля, загромыхало. Город враз проснулся. За домом, где мокли палатки, послышались голоса. Сейчас могут появиться люди… Толчок был посильней недавних, но и он миновал, земля затихла, стал снова слышен шорох дождя…
Грабители тоже опомнились и пустились наутек. Кеша схватил за ногу одного, пробегавшего мимо, и стал бить его и кататься с ним по асфальту и снова бить куда попало, до едких слез на своих глазах, будто этот тип был виноват во всех бедах на свете. Теперь Кеша кричал ему:
– Не побреешься, ворюга!
Когда его окружили люди в пижамах, халатах и накинутых на майки плащах, парень уже вырвался, оба грабителя пропали, а голоногий мужчина в трусах и пиджаке, светя на Кешу фонарем, сказал:
– С балкона сиганул? Нахапал?
И хотел ткнуть Кешу ногой, но он засмеялся.
– Не я. Тот в квартире.
Он смеялся, потому что на этот раз землетрясение случилось вовремя, потому что узел лежал на тротуаре, а в квартиру пошли толпой за тем, который не успел смыться, остался наверху без веревки.
Ноги зверски болели, особенно та, по которой ударили трубой. Женщина с блестящей головой, в бигуди, наклонилась над Кешей:
– Тебя избили?
На улицу вывели парнишку, прятавшего глаза, совсем юнца. Шустрая старушка приткнулась к нему вплотную, чтобы разглядеть, охнула:
– Откуда ты? Из другого города, что ли?
Женщина в бигуди помогла Кеше встать и сказала:
– А тебя в газету надо!
Но мужчина с фонарем вмешался:
– В милицию их надо. Обоих. Там разберутся. Чемоданчик-то чей?
– Мой.
– Айда.
Потом он сидел на скамейке под дождем, совсем один. Увидела бы Мастура в газете его портрет и нашла… И что? Глуп ты, Кеша. На фанерке написал: «Наяринск», нес над собой, может, и в кино попал. Ну, увидит… И что? Скорей уезжать надо, вот что.
«Ты ее ищешь, а она тебя даже не вспоминает…»
Вот же наваждение какое… Опять ему видится, как она бежит под гору, за бурным потоком, переходящим в свет. В тот день все было из света. Был свет неба, свет травы и свет воды…
Уезжать. Улетать. Пока не попался ей на глаза… Зачем ты прилетел? Да схватил билет, не размышляя. По вдохновению… Дуракам закон не писан.
Ну вот, сиди и мокни теперь на скамейке у перекрестка. Днем она – для автобусных пассажиров, ночью – для таких дураков, как он, для него. Он провел рукой по волосам и лицу, стряхнул капли с пальцев и прислушался: кто-то шел, намеренно неосторожно ступая. Еще немного – и перед ним выросли двое в плащ-палатках, оттопыренных автоматами. Один патрульный подошел к нему, второй остановился подальше.
– Чего бродишь?
– Я сижу.
– Дождь.
– Чувствую.
– Завтра всем на работу. Люди на улицах спят. А ты бродишь.
– Я тихонько сижу.
– Зачем?
– Жду автобуса.
– Куда?
– Домой.
– Далеко тебе?
– Далеко. Тысячи четыре с гаком.
– Чего?
– Километров.
– Шутник.
– Без шуток. До аэродрома и – на самолет.
– Ну, не опоздай. – Патрульный потоптался. – И смотри… У нас вообще-то спокойно, но в случае чего…
– Я позову, – сказал Кеша.
Они пошли, бухая подкованными сапогами.
12
Горожане еще спали в своих палатках, тяжело вдыхая сырой воздух непривычного ненастья, а здесь взлетали с зыбкой земли самолеты, чтобы за день перемахнуть в далекую тишь и вернуться за новыми пассажирами.
До сих пор ни один ташкентский рассвет, наверно, не собирал на аэродроме столько ожидающих. Плач, звучные шлепки по стриженым детским затылкам, причитания бабушек и теть, спешивших купить пирожков на дорогу, напоить детей водой, тонули в неумолчном гуле моторов. Самолетов гудело много, но все их гуденья сливались в один рокот, похожий на голос землетрясения.
Кеша слушал, как оповещали по радио об отлетах по разным маршрутам, и начал медленно пробираться сквозь толпу, тесно занявшую знакомую площадь, к зданию аэровокзала. Площадь напоминала зал ожидания, и непонятно было, как проплывали по ней городские автобусы и проныривали такси. Говорят, один таксист за все это время ни толчка не слышал. Ни одного! Из трехсот-то! Каждый раз трясет, когда он в рейсе, а в машине, на ходу, ничего не слышно. Будто в другом городе живет.
Среди людского стойбища там и тут торчали ящики-тележки, а то и просто столики с бутербродами, клумба в середине площади обросла ларьками. Торговали без сна. Улетающих кормили сосисками, варили кофе и предлагали на прощанье родную ташкентскую розу за тридцать копеек.
Розы цвели, и жил город, несмотря ни на что.
«Иностранный турист Леон Гросс, застигнутый в Ташкенте семибалльным толчком, попросил невропатолога осмотреть его. А когда узнал, что здоровье его в порядке, сказал: «Этим я обязан только спокойствию ташкентцев».
Это Кеша прочитал в утренней газете, купленной в толкучке внутри аэровокзала, у прилавка «Союзпечати», и засунул газету в карман, чтобы показать деду. Теперь посылать ему было нечего – сам привезет, а до сих пор все посылал ему кусочки из газет вместо писем.
Дед недавно отозвался – деньги перевел. Кстати.
С билетом Кеше повезло – в этом направлении улетало немного людей, оказался один билет. И самолет – меньше, чем через час. Все нормально получалось.
Уже совсем рассвело. Кеша вышел из дверей к летному полю, и тут налетел на него взмокший узбек, окруженный табуном ребятишек. Никого не было рядом без детей… Черные тюбетейки на мальчишеских головах, а девочка на руках. Опустив ее возле Кеши, немолодой отец сразу зачастил:
– Ой, дорогой! Посмотри за детьми! Одну минутку!
Куда-то кинулся и вернулся:
– Их тут девять! – И пересчитал, пройдясь ладонью по детским головам. – Девять! Все мои. Еще один – дома.
Это он прибавил уже тихим голосом, с затаенной горделивостью и тревогой. И что-то быстро и строго наказал детям на родном языке, погрозил им пальцем и исчез.
Малыши повели себя по-разному. Девочка стояла – руки по швам, ни с места, замерла. Старший мальчишка отошел на два шага и плакал, отвернувшись от Кеши. Стеснялся слез. Видно, он один понимал, что происходит… Двое сели на чемодан Кеши и заболтали ногами. Один вцепился в руку и потянул Кешу за отцом, а другой рукой тащил за собой перевернутый игрушечный автомобиль на веревочке. Остальные забегали вокруг колонн, как ни в чем не бывало, заиграли в пятнашки, потихоньку отдаляясь от случайного караульного.
– Эй, вы!
Кеша побежал за ними, они – от него, тогда он схватил одного на руки и, когда оглянулся, чтобы проверить, на месте ли самые маленькие, увидел Мастуру. По открытой боковой лестнице аэровокзала она сводила со второго этажа к летному полю вереницу детей. И была все в том же полосатом платье. С теми же сережками в ушах, – они посвечивали на утреннем солнце, разгоняющем дождливую мглу неба. Старший мальчуган перестал плакать, догнал заигравшихся братишек и позвал Кешу на помощь.
А он все смотрел, как шла Мастура. Она шла уже под аркой, выводящей к самолетам и увитой зеленой виноградной лозой, а дети тянулись за ней, дети еще спускались с лестницы. И были у них недетские глаза, темные от бессонных ночей, и какая-то девочка махала ручонкой, не поворачивая головы, неизвестно кому, всем сразу махала, и какой-то мальчик смотрел по сторонам, пытаясь найти своих, и все время спотыкался. А один малыш, беззубый и круглолицый, поймав взгляд Кеши, улыбнулся ему, как маленький старичок.
И сейчас же Кеша услышал беспокойный голос:
– Спасибо, дорогой! Рахмат! Раз, два, три… Девять! Детей взял, а вещи там забыл! Туда-сюда! Раз, два, три… – Он схватил Кешу за руку, ощутимо тряхнул, стиснул. – Усманов! Приходи в гости. Улица Аваз-оглы. Уста Усманов. Все знают. Рад буду. Придешь?
Кеша хотел сказать, что он улетает, но сказал безотчетно:
– Приду.
Чтобы скорей освободиться, наверно. А отец, окруженный ребятишками, кричал вслед:
– Уста Усманов!
Вспомнились узоры по камню над колоннами театра Навои.
«Это сделал уста Ширин. Там, там!»
Мастура ему говорила, потому что он смотрел на нее.
Подхватив чемодан, Кеша побежал… Хвост цепочки детей, уводимых Мастурой, еще мелькал у кустов, прикрывающих железную ограду взлетного поля. У входа, под аркой, дежурный загородил дорогу:
– Куда?
Кеша быстро нашелся:
– Чемодан вон тому мальчику! Забыли!
Вдруг он понял, что должен увидеть Мастуру, не может улететь, так и не сказав ей ни слова. И дежурный отошел на шаг, пропустил.
Мастуру встречали на летном поле другие девушки, разбирали у нее детей, уводили к разным самолетам. Наконец она остановилась у большого Ил-18 и заговорила о чем-то с пассажирами, уже стоявшими у трапа не очередью, а толпой. От толпы отошел первым тощий мужчина, за ним еще один, посолиднее… Кеша невольно приблизился и услышал голос Мастуры:
– Я понимаю, это обидно, но кто останется до следующего рейса? Вы?
Этот мужчина энергично сдернул с носа темные очки.
– Позвольте! По какому принципу вы выбираете?
Хмурая Мастура неожиданно улыбнулась.
– По глазам.
– Очки не надо снимать, шляпа!
– И вы, молодой человек, который сказал «шляпа»… вы можете остаться?
– А вот я как раз не могу. У меня путевка. Деньги заплачены. Лететь надо.
Молодой человек в белых штанах побежал по трапу, но в дверях самолета стояла стюардесса:
– Дети сначала.
В толпе волновались:
– Зачем билеты заранее продают? Мы ночами стояли!
– Не продай их заранее, – ответила Мастура, – сегодня они, конечно, достались бы только детям! Правда?
– Девушка, а нам отметку сделают?
К ней, выбравшись из толпы, подошли два морячка, по виду узбеки. Откуда они в Ташкенте? Навещали своих, наверно, отпустили с корабля…
– Вас я не задерживаю.
Они пошептались между собой, подсчитали дни.
– Ладно, успеем. Мы остаемся.
– Возможно, сегодня будет дополнительный самолет. Еще один дополнительный. Обещали.
– Хоп.
– Катта рахмат.
Вот где ее надо было искать. А он… А он улетит сегодня!
– Прощайте, ребята! Купайтесь в Черном море и пишите письма домой! – Дети махали ей руками с трапа. И тот маленький мальчик-старичок махал. – Оставшихся прошу в первой кассе перерегистрировать свои билеты. Спасибо, товарищи.
Она повернулась и увидела Кешу.
Он стоял, держа чемодан, было ясно – ждал ее. Она помедлила и пошла к нему и сказала с удивленной улыбкой:
– Здравствуй.
– Здравствуй, – ответил он.
Тут вовсю заревели пропеллеры самолета, говорить стало невозможно.
– Пойдем! – крикнула Мастура и побежала, зажав уши, потому что загудели моторы другого самолета, они гудели со всех сторон.
За оградой, оставив позади этот гул, осмотрелись.
– Сесть бы… – сказала Мастура. – Всю ночь на ногах… Он поставил под кустом свой чемодан, чтобы она села, и она присела и похлопала возле себя по чемодану ладошкой, длинной, как лист подорожника, и Кеша сел рядом с ней и спросил:
– Можно, я закурю?
– Кури.
Она поправила волосы за ушами.
Он порылся в карманах, наконец разыскал сигареты.
– Улицу нашу развалило, – сказала Мастура. – Видел?
– Только качели на акациях висят…
Они умолкли, а громкий радиоголос, неживой какой-то и неумолимый, объявил о начале посадки в сибирский самолет. И Мастура глянула своими большими глазами в упор на Кешу.
– Я хотела тебя спросить…
– Что?
– Ты не улетал или вернулся?
– Вернулся.
– Почему?
Она все еще смотрела на него. И он смотрел на нее. Потом он отвел глаза, не выдержал.
– Да просто так, знаешь…
И поднялся. И почувствовал, что это последние мгновенья, которые принадлежали ему, чтобы сказать главное, чем он жил. Только что ничего не хотел говорить и уверен был, что не скажет. Только что вертелись на языке слова: вернулся из-за дома, – а сейчас забыл про дом, про все забыл, даже про то, что это последняя встреча, и сказал ей просто:
– Я люблю тебя.
Тогда она подняла глаза к еще серому, в рыхлом тряпье туч, небу, и кольцо ее сережки тускло блеснуло.
Наверно, шумели винтами самолеты, во все это серое небо грохало радио и мимо них, по сырому асфальту, тарахтели тележки с багажом, но он ничего не слышал. А она смотрела вверх. Про что она думала?
Наконец она боязливо, чуть заметно пожала плечом:
– А я…
Ну, он и не ждал ничего другого. Сказала же ее мать: «Она тебя не вспоминает». А сейчас она уйдет. Все.
И опять настала долгая тишина, в которую незаметно возвращались аэродромные звуки: и ноющее гуденье самолетных моторов, и хрип радио, и поскрипыванье чемоданов на багажных тележках.
Кеша вдруг улыбнулся.
– Ничего… Увидел, что живая… Повезло!
В конце концов, он ведь для того и прилетел сюда, чтобы увидеть ее.
Из-за ограды, из-за кустов, позвали:
– Мастура!
На летное поле снова вывели детей. Недовольный крик повторился:
– Мастура!
– Я пойду, – сказала она. – Дети.
– Иди, – сказал он.
– А ты улетаешь из Ташкента?
– Да.
– Счастливо тебе, – пожелала она, как тогда на улице.
Он смотрел, как она идет, и правда был счастлив, что видит ее, хотя понимал, что она от него уходит. Подошел к ограде и отвел ветку. Ветка оказалась колючей…
Мастура приняла свой отряд детей и повела к самолету. Разные города ждали ташкентскую детвору. Большие и маленькие. Мастура вела детей не оглядываясь, а он все смотрел, пока автопоезд с пассажирами не закрыл ее, и детей, и летное поле на миг, за который все потерялось. Пробежал и взлетел один Ил, затем второй…
Аэродромное радио уступило место городскому, чтобы передать будничное сообщение:
– Вчера – в который раз – Ташкент проснулся от сильного толчка. Был слышен подземный гул. Из-под ног уходила земля, смещалась мебель, падала посуда…
13
Обедал он в нарядном кафе, один, как пассажир, отставший от поезда, в котором уехали все родные, друзья и знакомые.
Тень ласточки промелькнула на столе.
Середину кафе хитроумный архитектор оставил без крыши, как будто знал, что будет землетрясение, и крышу заменил в своем проекте небом. Оно сияло над головой, очистившись от последних лохмотьев туч, которые, заблудившись, пролетели над Ташкентом.
Под небом было хорошо сидеть, и скоро все столики обсели густо, зато в стеклянных фонарях по бокам, зеленых от соседства с чинарами, по-прежнему не было ни одного человека. Над этими фонарями висели такие тяжелые бетонные козырьки, что под ними садиться не рисковали. Хоть пообедать-то можно было спокойно?
Вошли парень с девушкой, держась друг за друга, такие милые, огляделись, и парень виновато сказал:
– Свободных мест нет.
– Вот место. Возьмите стул оттуда и садитесь тут вдвоем.
– Рахмат.
Кеша рассчитался и подумал: куда же ему идти? Потом вспомнил что-то, догнал официантку и спросил, какой автобус идет сюда к улице Аваз-оглы. Она не знала. Вернулся и спросил у парня с девушкой. Эти тоже не знали, но парень вскочил, побегал, порасспрашивал за соседними столиками людей постарше и подробно объяснил, где это. Теперь Кеша ответил ему:
– Рахмат.
Сесть в автобус, однако, с чемоданом да пальто в руках не удалось. Ташкентцы по-прежнему осаждали автобусы, как крепости на колесах. И Кеша потихоньку побрел через город в надежде, что за центром станут автобусы посвободнее.
И не заметил, как попал на улицу Навои, ту, где Центральный телеграф стоял в трещинах и где недавно вертелся он со своей, да нет, с чужой лестницей.
«Ты не Хадича Муратова? А ее подружку, Мастуру, ты не знала?»
Улица жила еще, даже была многолюдней, чем раньше. Красивое здание из серого бетона прочно стояло ребристым цилиндром у стеклянного крыла, как космический корабль у причала. В этом здании устраивались фестивали и праздничные концерты, судя по старым афишам. Новые приглашали в кино. «Дворец искусства». Разные фильмы…
Какой же он чудак, однако, думал, что Мастура в другом городе, уехала и живет себе. От этого Дворца искусств, от театра Навои и старого-старого чигиря, скрипучего колеса с ржавыми железными черпаками в мутной реке у водопада… Ведь она все это вместе любила, все вместе… Потому что любовь нельзя разделить на вчерашнюю и завтрашнюю. Любовь, если она есть, всегда сегодняшняя.
И он любил в этом городе все, что любила Мастура.
Улица торговала, и поэтому по ней валило столько народу.
Взамен разбитых городских универмагов на этой улице длинным рядом вытянулись одинаковые стеклянные павильоны. Прозрачные со всех сторон, они показывали прохожим свой товар, от блузок с кружевами до сияющих унитазов. Жались на полках плюшевые зверята, будто бы прямо в этих огромных стеклянных ящиках, присланные издалека. И люди двигались под стеклом, как в аквариумах. Только ювелирторг пустовал, походил на музей с драгоценностями. Не до них было…
Кеша купил газировки и вспомнил, как его впервые тряхнуло у сатуратора, как он принял за Мастуру девушку в полосатом платье. Такие платья попадались ему потом в уцелевших городских витринах…
От жары ломило затылок и закладывало уши. Мимо почти бесшумно катил нескончаемый поток самосвалов – голубых, в белых намордниках. Новых. С московскими, минскими, тбилисскими номерами и водителями.
А едва оборвалась улица Навои, как опять начались развалины с пыльными палатками под пыльными кустами. Под ногами мело, как в пустыне.
Некоторые улицы совсем сгинули, исчезли. Только газетные киоски по углам напоминали, что здесь была когда-то другая жизнь.
Кое-где торговали и среди развалин. Стеллажи с товарами опирались о деревья, на ветках и сучках которых болтались объявления: «Все для пионерского лета» или: «Имеются в продаже пианино». Пустые коробки еще не снесенных домов сигналили бумажными наклейками, где искать их недавних обитателей: «Юридическая консультация переехала во Дворец культуры железнодорожников», «Ремонт холодильников на Дзержинского, 22», «Настройка музыкальных инструментов – напротив, в будке», «Мастер электробритв на фабрике-кухне», и под строкой, напечатанной на машинке, приписка химическим карандашом: «Это на трамвае номер 10, еще сто шагов от остановки Урда».
То, к чему город приготовился на короткое время, стало его долгим бытом.
В пестром наборе извещений о том и сем мелькнула страничка из школьной тетради. Очень разборчиво написано: «Внимание! Продается импортный гарнитур! Тахта – 130 р., две кровати по 80 р., два кресла по 30 р.» Расценил. Может, кто и купил бы, да ставить пока некуда.
Вдруг базар опрокинул на землю горы зелени, обрызганной водой. Кеша потянулся к крану, но сморщенный старик поймал его за руку:
– Пей кок-чай. Сначала плов ешь, потом чай пей. Зеленый. Сила останется.
Привыкай к жаре, Кеша. Старик протянул пиалушку чая:
– Пожалуйста, друг.
Запасливый старичок. Держал при себе чайничек… Перед стариком лежало на каменном прилавке баранье мясо с восковыми натеками.
Только Кеша отдал пиалу, толкнуло землю изнутри, будто это не земля была, а крышка котла с кипящей водой, и запрыгала крышка, еще, еще…
Люди побежали. Куда? Друг к другу бежали, ища защиты в соседстве. Вроде вместе было не так опасно, а скорее – не так страшно. Потом расходились, неизвестно кого браня.
В гуще базара возник новый шум, земной. Кричали женщины, вовсю размахивали кошелками, как только они умеют кричать, когда их вывели из себя. Среди них тощий человек нагнул бритую голову и закрывал ее ладонями. Этого ему показалось мало, и он натянул на голову халат.
Кеша спросил у мясника, в чем дело.
– Э! Цену поднял после толчка! Ну, так ему и надо…
Возле трамвайной остановки стоял милиционер с авоськой, набитой зеленым луком, картошкой и помидорами. Видно, кто-то побежал и забыл ее на базаре. Милиционер кричал, поворачиваясь во все стороны:
– Чей авоска?
Кеша спросил у него, куда двигаться, чтобы дойти до улицы Аваз-оглы.
Шел он к тому самому человеку, чьих детей стерег на аэродроме перед тем, как увидеть Мастуру. Уста Усманову.
Раз тот уста, пусть научит толковому делу. Кирпичи класть. Трубы тянуть. Столярничать.
Раз уж остался, надо не только бревна таскать. Что он умел? Метить сосны под вырубку, обхаживать лес, стрелять зверя. Не много, честно говоря, для города, который лежал в развалинах и пыли.
Вот в газете, купленной утром, еще написано:
«Мы, андижанские водители, возмущены тем, что руководство шестой автоколонной не дает нам машин, хотя во дворе стоят новые самосвалы. Руководство боится: а вдруг мы их разобьем. Но в Ташкент никто не посылает первых встречных».
А он вроде бы первый встречный…
Кеша сделал из газеты колпак на голову и зашагал дальше. Доберется до Усманова. Интересно, какое у этого мастера дело?
А дело у него оказалось самое современное: он собирал дома из больших панелей – сразу целая стена для комнаты. Для надежности придумал Усманов «антисейсмические» углы, которыми крепили панели с обеих сторон. К этому-то он и приспособил Кешу для начала, очень ему обрадовался. Молодые ребята – а их было на стройке много – называли Усманова и мастером, и начальником, но чаще просто – ата. Отец.
Рассказывали, смеясь, что на какой-то комиссии, изучавшей опыт антисейсмического строительства, дали слово Усманову и он сказал самую короткую речь:
– Много домов упало. Я их смотрел. Много домов стоит. Я их тоже смотрел. Мой вывод: какие дома добросовестно строили, те стоят. Это – антисейсмические дома.
Малыши Усманова присылали каракули из Анапы. Все там были, кроме одного, самого крошечного. Но в доме – добросовестно построенном, антисейсмическом доме – повернуться негде было. Кешу-то Усманов, конечно, оставил у себя, но раньше него привел три семьи с развалин, две незнакомых и одну знакомую – художника Каюмова, с которым подружился на стройке того самого Дворца искусств на улице Навои. Еще чью-то бабушку привел к себе Усманов, еще четырех студентов со своей стройки, тоже добровольцев, вроде Кеши, да еще двух приезжих девушек из управления стройтреста, не своего, в своем ташкентцы работали, поселил их в отдельной комнате, на ночь сам под дверью ложился.
Студенты смеялись:
– Уходите, девушки, из этой монастырской обители. Но девушки не уходили.
Вечерами все свободные от забот смотрели в усмановской обители телевизор. Тоже антисейсмический. В футляре из дюймовых досок, он стоял в тесном дворике на толстых, врытых в землю подпорках. Дворик всегда был полон, набивались и соседи посмотреть.
Слушали, как, промокая белыми платками умные, облысевшие головы, ученые рассказывали, отчего все еще трясется ташкентская земля. О вращении планеты и пластических глубинных течениях.
Не было под Ташкентом ни озера, ни моря, ни пустот, оставшихся якобы после выкачанной минеральной воды, куда мог бы провалиться город, ни вулкана, ни клокочущего газа, рыщущего под землей, – мало ли как объясняли беду языки, – а был глубинный разлом, и земная кора над ним сдвинулась. Даже небольших сдвигов было достаточно, чтобы вызвать катастрофу. Умные ученые предупреждали, что повторные сотрясения, называемые разрядкой упругих напряжений, еще возможны. Даже после длительных затиший.
Могли бы и не предупреждать – трясло каждую ночь. Если не очень сильно, то и не просыпались от усталости и привычки. Но часто гудело глубоко и лихорадочно, и земля тряслась в нервном ознобе.
– Как на войне, – сказал однажды Усманов среди ночи. – А?
– Не знаю, – тихо ответил Кеша. – Я ведь не воевал.
А художник Каюмов подтвердил:
– Похоже. Только не стреляют… Но изредка бомбят.
Чудак он был, этот художник, маленький неунывающий человечек. Маленький, но жилистый. С руками мастерового. И в глазах вечная смешинка.