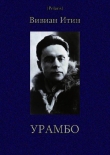Текст книги "Избранные произведения в 2 томах. Том 2"
Автор книги: Дмитрий Холендро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
А бывало, взрослые отпускали нас, своих помощников, верхом в деревню, и тогда я отвозил маме васильки и спешил на Воронке к Сакмаре. Мы спускались с берега в воду и купали коней в реке. Плавали с ними, уцепившись за гриву, и терли соломенными жгутами потные бока…
А потом…
Потом, как всегда, наступало самое интересное.
В реке набиралось тридцать или больше лошадей с мальчишками, и, закончив дело, мы скакали через всю деревню. Табуном.
В пальцах – кончик веревочного недоуздка. Локти отлетают при каждом прыжке коня, взмахивают крылато. Впереди, сбоку, сзади гикают другие, стараясь обогнать друг друга и оставляя пыль за собой. А у ворот, у заборов, стоят женщины и девчонки, смотрят. Кто окажется впереди?
В тот день, когда Воронок вынес меня вперед, полевые работы завершились, и дед был дома.
Да, он вынес меня вперед, мой Воронок!
Я ликовал и гикал, чтобы первым доскакать до конца деревни, а потом уж свернуть домой.
Но Воронок свернул раньше и понесся к воротам, открытым нараспашку.
У черноотрожских мужиков были крепкие дворы, со всех сторон взятые в тугие частоколы. А ворота – глухие, из тяжелых досок, с верхними перекладинами, под которые телега заезжала, а верховые заводили своих коней, спешиваясь у ворот.
Наши ворота были распахнуты (это сам я оставил их так!), и Воронок все быстрее нес меня прямо к ним. В десяти шагах я понял, что не остановлю его (недоуздок-то без удил!), и увидел, как стремительно приближается ко мне бревно перекладины, нацеливаясь в мой лоб.
Но раньше у ворот вырос дед.
Крикнул ли кто ему, или сам он услышал частый знакомый топот, только дед возник у ворот.
И я почувствовал, что такое – миг, какой это летучий кусочек времени и как много может в это время произойти, как много от него зависит – целая жизнь.
Не было у деда никакой возможности закрыть ворота, остановить коня, не успел бы. Дед вытянул вперед огромные руки и гаркнул пугачевским голосом:
– Падай!
Воронок, как молния, пронесся мимо него, оттирая деда, а я упал в самые надежные руки, и дед прижал меня к себе, накрыл бородой и понес…
– Ничего-о! – говорил он.
Бородища-то у него была мягкой-мягкой.
Лет через восемь – всего! – я попал в артиллерийский полк на конной тяге и выбрал себе стройного, длинноногого жеребца, серого в яблоках, как с картинки.
– Глядите, он строптивый! – недоверчиво предупредил меня старшина.
Едва я оказался в седле, жеребец закружился, взвился на дыбы, энергично взбрыкнул, стараясь меня скинуть, но не смог и понес по сельской улице, на которой размещались наши казармы и конюшни. Он нес, срываясь с упругой рыси на галоп, а я зажимал коленями его бока (брал в шенкеля), натягивал узду и тихо разговаривал с ним все время, а то и отпускал, пришпоривая каблуками. Конь шел все послушней и послушней. Когда вернулись, старшина спросил:
– Откуда знаете?
Я хлопал жеребца по вздрагивающей нервной шее и вспоминал Воронка.
Первая любовь
Девочка стояла на мосту, и на ее спине, на длинной шее пестрели обильные веснушки. Мелкие, как пшено, и большие, как пропеченные солнцем зерна. Я чуть не прыснул оттого, что их так много, издали видно, но сообразил – они просто выделялись на белом теле, и меня поразило, почему у нее в конце лета тело такое белое?
Цветом кожи девочка была какая-то сметанная, так что веснушки ее даже оживляли.
Она держалась руками за деревянные перила моста и, нагнувшись, смотрела на реку. А я устроился на перилах по другую сторону, вцепившись в столбик под собой пальцами босых ног, как птица в ветку.
Девочка смотрела вниз, а я на нее. Что мне смотреть вниз? Я не раз стоял вот так, как она. В воде стайками юркают мальки, а иногда рывком проплывет и крупная рыба. Наталкиваясь на толстые бревна, под мостом вскипает вода, белая пена повисает на бревнах кольцами, как на губах лошади. От девочки, конечно, падает тень, дрожа на быстрой воде, как в лихорадке, и вытягиваясь, потому что солнце опускалось…
Моя тень тоже вытягивалась передо мной, на досках моста, бесшумно переползая через щели…
Наверно, девочка почувствовала мой взгляд и вдруг оглянулась. И я тут же отвел глаза к лесу и лихо засвистел: «Мы – красная кавалерия, и про нас…», но ничего не вышло, раздался беспомощный шип, как будто я и не свистел никогда, а ведь я умел высвистывать песни. Но в ту минуту, как назло, ничего не выдулось, кроме шипа, и девочка голосисто хихикнула. А потом она опять отвернулась и стала болтать ногой, сгибая ее в коленке, как цапля.
Ноги у нее были тонкие, чулки – в рубчик и сандалии с резными дырочками. Она повыше задирала ногу, и я все время видел эти резные дырочки в сандалиях. Фасонщица!
Я опять презрительно посмотрел на нее. На ее белом сарафане был крупный синий горох. На плечах – длинные лямки, оттого и щедрый посев веснушек обнажился…
А какое у нее лицо? Я не успел разобрать этого – в лес же глядел, зачем она мне? По веснушчатой шее, по белому сарафану, по синему гороху до пояса сползала толстая русая коса. Я ее раньше тоже вроде не видел…
Как-то я рассматривал не сразу, а по частям эту девочку. Про такие косы мужики в деревне говорили:
– Коса у нее богатая!
На жатву, в поле, к одному из них каждый день приходила молодая жена, Ксюша, угощала мужа, а иной раз и соседей пышками с молоком, а потом муж провожал ее до конца поля, как до берега, и мужики смотрели вслед и, забыв похвалить съеденные пышки, восторгались тихо:
– Коса у нее богатая!
У девочки коса была богаче, чем у той Ксюши. Но какое же лицо?
Тут она перестала попеременно болтать своими длинными ногами и покосилась на меня вполглаза, но я словно бы увидел весь ее глаз, большой и черный. Необыкновенный. Ведь и по одной половинке можно было представить себе, какой он весь. Я никогда не видел таких больших и черных глаз на белом-белом лице!
По мосту, мерно визжа, катилась телега. Она катилась со стороны леса, заваленная горой хвороста. Корявые сухие ветки торчали во все стороны… Телега ползла ежом. Крестьянин, похоже, плелся сзади и не видел, что у перил стоит девочка и хворост может задеть ее, оцарапать. Я соскочил и чуть не крикнул, но опасная гора проплыла мимо, и, когда скрипучий визг несмазанного колеса начал удаляться, я уже сидел на своем месте.
А девочка стояла ко мне лицом, защищая свои глаза согнутой и прижатой к ним рукой. А когда стих визг колеса, она опустила руку. Глаза у нее оказались еще больше, чем я думал. Черные и мохнатые от ресниц. И все же ни тень от них, ни сама чернота не могли пересилить ясности ее глаз. У нее были, как я сейчас понимаю, а может быть, и тогда понял, совсем уж какие-то редкие глаза. Темные и светлые.
Мы смотрели друг на друга.
Она первая спохватилась и отвернулась, но все вокруг уже стало другим. Лучше. Солнце ближе и горячее. Небо засинело ярче. И река вся засияла в переливах прощального света дня и текла, посверкивая. И доски старого моста высветлились, а из щелей меж ними тоже рвалось сверкание. И дорога, уводящая с моста в лес, ныряла в него полосой света… И лес зеленел нестрашно.
Лучше туда и смотреть!
По малину и смородину отправлялись в этот лес семьями, в дикие места, разведанные людьми и медведями. А мы, мальчишки, приносили из леса лукошки с земляникой. Мы любили рассесться на земляничной поляне и, срывая ягоды, бросая их в рот, поклевывая, как птицы, рассказывали друг другу о разном, у кого что накопилось.
Я о приключениях Робинзона или об индейцах со странными именами, вроде Монтигомо, которому не хватало имени, и потому его еще звали – Ястребиный Коготь. Сразу про него не расскажешь, и мальчишки с лукошками собирались у дедушкиных ворот и, вызывая меня, кричали:
– По ягоды!
И я выбегал с лукошком. В лес, по ягоды – до первой поляны, какая приглянется и где никто нам не помешает.
Я читал на память «Песню о Гайавате». Сколько помнил. Ягод мы приносили все меньше. А мост был контрольно-пропускным пунктом на пути. Все встречные, все старые и малые рыболовы заглядывали в лукошки. И по примеру сообразительного Васьки мы набивали их выше половины листьями, а сверху горкой клали свои ягоды. Получалось не стыдно. И губы в землянике. И какой-нибудь гриб в руке, который сам, словно бы из любопытства, неосторожно вылезал из травы под ногами. Хороший был лес.
…А девочка надевала бусы. Красивые, из красных стекляшек.
В Черный Отрог заезжала кибитка молодого торговца. И чего в ней только не было! От ухватов и горшков до иголок и ниток, от бус и брошек до пряников и конфет. Неожиданно доносился с улицы трезвон колокольчика, и дед говорил мне, если не сидел в зимней шапке, не слыша колокольчика:
– Беги в сарай, поищи, где курица снесла, купи конфеты. Посладишься!
Молодой, с маленькой, аккуратной бородкой торговец охотно обменивал свой товар на мед, на яйца, на все, что несли ему крестьянки и дети в кастрюльках, банках, узелках, ладошках.
…Бусы не застегивались на шее. Девочке мешала коса. Она подтянула ее, коса медленно, но послушно всползла по спине и перекинулась через голое плечо наперед, мелькнув алым бантом в хвосте. Оказывается, был бант, алый, как огонь!
Теперь легче стало застегнуть бусы, но тут случилось… Такое! Бусы вдруг выскользнули из пальцев девочки и… Течение пронесло их под мостом, и они опустились на дно, на речной песок, меж камнями. С моей стороны. Я увидел это. Я увидел, как они закраснели в прозрачной воде. И не знаю, как и почему это вышло, но я перебросил через перила ноги и то ли прыгнул, то ли упал в Сакмару за бусами, благо, что всего-то был в коротких, выше колен, штанцах и босой.
На какой высоте висел этот сакмарский мост – не помню. Казалось, на огромной. Может, метрах в двух от воды, может, в трех. Может, меньше, а может, больше. Но я прыгнул, не успев задуматься и зажать нос пальцами. Я всегда это делал, когда прыгал с мальчишками с шатких мостков, потому что вода стремглав залезала мне в нос, до самых глаз, до макушки. А сейчас забыл, и получилось как нельзя лучше. Я два раза выныривал, хватал воздух и опускался с открытыми глазами, чтобы видеть бусы. Я видел их, да никак не мог дотянуться рукой до дна. Наконец еще раз вынырнул, набрал воздуха полную грудь и полный живот и вниз головой, как рыба, устремился к красным стекляшкам, драгоценно мигающим подводными бликами… И вот я плыл, сжимая бусы в руке.
На берегу я почувствовал себя без сил, но отдыхать было некогда. Девочка молитвенно смотрела на меня и ждала. И я побрел…
Возле моста, съехав с дороги на пыльную траву, крестьянин с каплями пота на лице чинил телегу. Устланная свежим сеном, скосившись на угол, она концом черной от дегтя оси уткнулась в траву. Рябенькая вислопузая лошаденка дремала, обмахиваясь хвостом и во сне отгоняя мучивших ее слепней. А потный бородач вертел колесо, с которого съехал железный обод.
Он поднял на меня угольные глаза и вытер лицо подолом вылезшей из штанов рубахи. И опять принялся надевать обод, вставлять в растрескавшиеся отверстия спицы. Одной или двух спиц в колесе уже не было…
Незаметно передохнув возле телеги, я отнес бусы и протянул их девочке. Она взяла и улыбнулась. В глазах ее блестели солнечные слезы, как будто севшее солнце оставило в них память.
– Надька! – донеслось с берега. – Кавалера себе нашла? Гы!
Мужик, чинивший телегу, смотрел на нас, белые зубы щерились в его бороде. Мы отвернулись, уткнувшись глазами в воду.
– Может, здеся останешься? – доносился крик. – А? Надька! И телегу чинить не надо! Ох ты! Ха! Ха-ха!
Я не мог больше стоять, пошел, но зачем-то опять остановился около телеги, потому что совсем уходить мне не хотелось.
– Помог бы мне, кавалер! – ласково сказал он, снова вытирая пот, на этот раз всем рукавом, от плеча до ладони. – А то ведь я ее даром не отдам тебе, Надьку-то! – И махнул бородой на девочку. – Двух-то моих рук для этого проклятого обода не хватает!
Я рванулся бежать в своих мокрых штанцах, липнущих к телу. Вдоль реки, мимо шатких мостков, с которых бабы полоскали в реке белье, громко шлепая им по воде, мимо лодок, погрюкивающих от волны цепями, мимо черных пятен под ветлами… Это были следы костров, которые жгли у реки под котлами, когда приходили к ней семьями, и в котлах, бурля, клокотала чуть подсоленная вода. В нее кидали лепешки из простого теста, накатанные и нарезанные перевернутым стаканом еще дома, небольшие лепешки, ну, как раз такие, как глаза у девочки, которую звали Надей.
Я ворвался в кузню и, не переводя духа, выпалил Васькиному отцу, как нужна его помощь человеку, который не может сам надеть обод на колесо, потому что двух-то рук не хватает!
Васька качал мехи. В горне пламенели жаркие угли. На выстученной до блеска наковальне корчилась в метровых щипцах красная железка. Но что-то было в моем лице такое, что Васькин отец и его подручный сразу опустили руки.
Кузнец взял с собой молоток, какие-то, похожие на гвозди, иглы с грибными шляпками и пошел за мной.
– Бог в помощь! – сказал он бородачу, согнувшемуся на корточках у колеса так, что борода его доставала до травы.
Тот вскинул глаза и встал.
– Спасибо на добром слове.
– Здравствуй! – сказал кузнец, вдруг узнав знакомого.
– Здравствуй!
Они уважительно пожали друг другу руки.
– Чего ж не кликнул?
– Так ведь думал сам управиться!
– Откуда путь держишь?
– Из города. Надьку вон везу. Из больницы.
– Ну? Долго болела?
– Два месяца.
– А чего?
– Пенмания, говорят, какая-то была. Отпустила! Бант купил, бусы… Пусть порадуется. Давай, что ль? Матерь ведь дожидается. Какой уж час на дороге стоит, конешное дело. А еще не близко!
Я понял, почему девочка такая белая. Еще бы! Два месяца без солнца. И еще понял, что она из какой-то далекой деревни – там, за лесом… Что-то сжалось во мне.
Одного я не понял – что они быстро починят колесо вдвоем, наденут на ось и отец крикнет:
– Надька!
Он подъехал к ней на телеге, а еще через минуту увез.
«Как?» – только и подумал я. Но он увез ее навсегда.
Виделись мы всего минут двадцать и расстались, не сказав друг другу ни слова, а все помнится она мне, как моя первая любовь. И даже кажется, что я еще прыгну с моста за бусами и помчусь по берегу к кузне, хотя теперь знаю, что все сразу и кончится…
Странная это пора – детство. Чем она дальше, тем ближе. И еще страннее эта первая любовь. Как явилась неизвестно откуда, так взяла и исчезла неизвестно куда.
Голуби
После возвращения с Сакмары я еще острее понял, что остался сиротой в своем переулке. Абика увезли. Некому было рассказать о той грозе на реке, и о Воронке, и о том, как Васька сжег поповскую шляпу…
Рядом не стало не только Абика, но и всего этого.
Я заболел самой страшной болезнью, которой даже название не придумано. Захандрил? Но это только намек на то, что творилось со мной. Скинув школьный ранец, я в ботинках забирался на продавленный диван в комнатке, похожей на закуток, и мог лежать хоть до вечера, глядя в одну точку на потолке.
– Посмотри-ка! – сказала мама на десятый или двенадцатый день такого лежания. – Шура тебе голубя принес показать.
Я приподнялся. В дверях нагло расплывалось курносое лицо, и узкие глаза поблескивали. Это был натуральный Шурка Посныш, о котором я и подумать не мог, потому что имел за плечами не один запрет водиться с ним.
Но сейчас мама сама сказала: «Посмотри-ка!», и на ее примере я впервые убедился в спасительной непоследовательности женщин.
– Пойду двор подметать, – прибавила мама.
– Помочь тебе? – на всякий случай спросил я, жалея ее за то, что ей пришлось все же спасовать перед Шуркой.
– Там пыль, не надо.
– Так водой побрызгаем!
– Попозже. У тебя же гости! – ответила она и оставила нас с Шуркой вдвоем.
Руки мои уже протянулись к нему за голубем. Но он тут же спрятал белую птицу за спину. Я подумал, разыгрывает, шутит. Но он сказал беспощадно:
– Нельзя в другие руки. Должен помнить только своего хозяина.
А голубя так и держал за спиной.
– Зачем же ты пришел? – спросил я, чуть не заплакав от обиды.
– Я? – он высокомерно усмехнулся. – Меня твоя мать привела!
Я все ждал – сейчас сжалится, сейчас скажет: «Ну, на!», сейчас произойдет чудо. Но… чуда не произошло. Шурка шмыгнул носом и сказал:
– Тоже пойду.
И тогда я унизительно попросил:
– Покажи еще раз!
Три года назад, когда я впервые отправился в школу, был наряжен и причесан, и расцелован мамой, и вышел за ворота в приподнятом состоянии, меня встретил Шурка. Он второй раз собирался во второй класс и ждал меня в пяти шагах от моего дома. Когда я приблизился, он задрал руку с закорюченными пальцами и проехался ими по всей моей прическе, как железной щеткой. Я и не подозревал, что из меня можно выпустить на свободу столько боли!
А Шурка посмотрел на мои разбросанные волосы, сказал:
– Так получше!
И похлопал меня другой рукой по спине.
Уже в школе мне сказали, что на моей белой рубашке, старательно выглаженной мамой, остались отпечатки Шуркиной ладони, вымазанной дегтем. По нашему переулку по утрам проезжали в город пустые платформы, влекомые крупными лошадьми-ломовиками, каких я с тех пор нигде не видел, даже в армии, и Шурке ничего не стоило пробежать рядом и снять с тележной оси несколько капель дегтя.
– Паразит! – сказала мама про Шурку, а мне влепила тумак. – Нашел приятеля!
Так закончился мой первый школьный день. Прежде чем выйти со двора, я стал выглядывать в щелку, нет ли Шурки поблизости, но однажды мы все же столкнулись на небольшом пространстве, разделявшем наши дворы, и Шурка сразу спросил:
– Хочешь мешалды? – Разжал кулак и показал мне тяжелую зеленоватую медяшку – пять копеек.
– Откуда у тебя?
– Нашел.
– Где?
– У бога в бороде. Айда на базар!
В нашем небольшом городе был огромный базар, за день не обойдешь. Не знаю, прав ли я, но с тех детских пор храню в себе ощущенье, что базар – не просто место, где один что-то продает, а другой что-то покупает, нет, он – выставка земной щедрости. Пришел на базар и видишь, на какой земле ты живешь и кто тебя окружает. И счастье, если земля отзывчива, а люди умеют поухаживать за своими грядками и садами.
Наша земля была отзывчивой на редкость, и базар словно бы начинался издалека. К торговым рядам, скрытым людской гущей, пробирались между арбузных и дынных гор. Арбузы были полосатые, как в матросках. А дыни как в авоськах, их обтягивала прочная сетка жилок. У рядов вились шмели и осы, садились «а инжир, на сливы, на груши, на персики, на урюк, на яблоки, от которых пахло сладко. Все лежало грудами с углублениями для весов, только ягоды инжира ровно раскладывали лепешками, липкими от солнца, на виноградных листьях. А сам виноград, желтый, розовый, черный, золотился и серебрился в плетеных корзинах и на деревянных лотках навалом.
Были еще ряды, где продавали орехи в мешках – грецкие, в такой кожуре, что не расколешь без камня, и круглый фундук – на зуб, и миндаль, зажаренный в золе с солью, и фисташки с продолговатыми зелеными ядрышками. Были еще ряды, красные от помидоров, зеленые от огурцов и всякой съедобной травы. Дороже всего стоила на базаре привозная картошка, но нас, ребят, это не интересовало.
По углам базара в черных котлах готовили мешалду, сладкую, похожую на сбитый белок, только туда клали какие-то корешки для вкуса и уж наверняка вволю сыпали сахара. Крутая белая пена получалась – пять копеек чашка. В котлах все время быстро помешивали деревянными мешалками, похожими на маленькие весла. Потому-то и называли блюдо мешалдой.
Пряный запах ее, владевший воздухом, отбивал и не мог отбить острый, аппетитный, дымный дух горелого мяса и лука. В белом колпаке и белом фартуке шашлычник ходил вдоль поднятых на козлы длинных жаровен-корытец с красными углями, обсыпанными пеплом, раздувал их кожаным флажком-вертушкой, которой беспрерывно вращал на палочке, снимал железные стрелы с зажарившимся шашлыком, бросал на тарелки, засыпал сверху кружевами сочного лука и, раздав окружающим, тут же раскладывал на жаровни новые порции сырой баранины на шампурах.
А рядышком сидел инвалид на деревянной подставке с колесиками, набитыми трескучими шариками-подшипниками и орал:
– Кручу-верчу, пятачок плачу!
Прямо на пыльной земле перед ним лежала разрисованная цифрами фанерка, а на ней крутился, мелькая радужной – для красоты – раскраской, фанерный круг с гвоздем, стоявшим торчком у края. Ухватившись за него короткими пальцами, инвалид и раскручивал свой круг, а желающие тем временем, пока разрешал хозяин, клали на цифры пятаки, и, если гвоздь останавливался против твоего пятака, ты брал его назад и еще получал пятак впридачу, один, два или даже три, в зависимости от того, на какую цифру ставил, черную, зеленую или красную.
Вокруг, присев на корточки и разинув рты, ждали своей удачи взрослые и дети. Все видели, что инвалид ссыпает в мешочек больше пятаков, чем раздает, то и дело разменивая из этого мешочка серебро и рубли желающим, но все равно каждый надеялся, что в следующий раз его пятак не попадет в мешок, а вернется к нему и приведет с собой законный выигрыш.
– Во! Сыграем сначала! – сказал Шурка.
– Проиграешь.
– Я везучий. Купим две мешалды.
Я пожал плечами.
– Лучше одну съедим.
– Хых! – сказал Шурка. – Две!
Он поплевал на пятак, пошептал какие-то слова, перенятые у богомольной матери, и присел на корточки. Еще минута, и наш пятак нырнул в тяжелый серый мешочек.
– Четверть оборота не хватило, – уныло сказал Шурка.
Мы остались без мешалды.
– Хочешь яблочка? – спросил Шурка.
– Откуда?
– От верблюда. Айда!
Шурка показал мне, где стоять, протолкался к стойке, заваленной яблоками, и привалился к ней грудью. Хоть он был и выше меня, но еще не очень-то вырос. Его рябые глаза забегали по яблокам, будто выбирая, какое купить, а рука подкралась к стойке. Я и вздохнуть не успел, а он, воспользовавшись тем, что торговца отвлекли покупатели, столкнул на землю, одно за другим, два яблока и откатил их босой ногой в мою сторону. Я их тут же подобрал и сунул за пазуху, карманов у нас, южных мальчишек, не было, мы носились в трусах и легких рубашках, а то и без них.
Яблоки мы вымыли у базарной колонки и съели. Показалось, что я никогда не пробовал таких вкусных яблок, обливших соком весь подбородок. Я повеселел.
– Еще? – спросил Шурка.
– Ага.
Теперь моя очередь была идти к стойке. Никогда не забуду минуты жуткого и таинственного напряжения перед радостью, наступившей, когда я столкнул на землю два яблока. Я дрыгнул ногой, чтобы откатить их Шурке, и одно откатил, а второе так поддел носком, что оно проскочило под стойкой и ударило продавца. Он нагнулся, а мы побежали.
– Эй! – крикнул торговец, я оглянулся и сейчас же получил в нос гирькой, которую торговец швырнул в меня.
Из глаз буквально посыпались искры. Мы побежали снова, а когда отдышались, уже далеко от базара, Шурка посмотрел на меня и ободрил:
– До свадьбы заживет. Хых!
Я покосился, увидел фиолетовую дулю на своем носу и испугался. Отчего она так раздулась? Дома начнут расспрашивать, откуда такая дуля, кто, за что, почему и прочее. Не скроешь и не скроешься. Я положил на дулю палец и нажал изо всех сил. Может быть, хоть на каплю уменьшится, малость вдавится в нос. Не тут-то было. Дуля еще больше выросла в ответ, а заболело так, что кричать захотелось, и голова закружилась. Я привалился спиной к забору, а то и не устоять бы, сознание отлетало, и оттуда послышался мамин голос: «Пострадай, узнаешь, как воровать!»
И еще какой-то странный голос долетал, но чей?
– Не трожь руками, дурында! Хочешь, чтоб было больней и больше? Уж я-то знаю, что говорю!
Да это ж Шурка! Он пытался поделиться опытом, а у кого еще в нашем переулке был такой опыт по дулям и обращению с ними?
А за ним – совсем уж сказочный голос, полный готовности помочь и спасти:
– Эй, малыш! Верблюжонок! Зачем здесь стоим? Что такое? О-хо-хо! Здравствуйте, садитесь! Ишачок – вот, бабай – вот, рука – вот, домой поехали! Мама будет – вот. Харрашо – вот. Во-от харрашо-о!
Возвращаясь с базара, бабай увидел меня, узнал, усадил на ишачка, который тоже был моим знакомым. А скоро я уже был в руках главного моего врача тех лет, мамы. Ах, бабай! Как вспомню ту минуту, пыльную улицу, на которой казался себе совсем одиноким и никому не нужным, потому что Шурке не верил до конца, как увижу присогнутую фигуру, будто это невесомая серебристая бородка склонила ее, больше нечему, так весь мир снова населяется для меня друзьями и кажется, что в том образе по улицам разъезжает на ишачке само добро.
Где-то на полдороге я опять осторожненько коснулся дули рукой и попросил:
– Бабай! Поехали к вам, а?
Я боялся огорчать маму и папу, еще больше боялся нести ответ за свои грехи, я просто боялся…
А бабай однажды возил меня к себе в гости, на два-три дня, на срок, который казался мне если и не долгим даже по детским масштабам, то и не маленьким. Мама отпускала – доверчиво и душевно. Бабай жил в той части города, которая считалась невообразимо далекой, находилась не в других местах, а в других веках и называлась старой. Тогда и наш и все соседние города делились надвое – старый и новый. В старом были домики-кибитки с земляными заборами вокруг садов и огородов, в новом дома – крупнее, фундаменты – выше, окна – шире, готовые пустить в дом сколько хочешь света и воздуха.
Надвое делилась и сама жизнь – старая и новая, ее обычаи, привычки, застолье, где ели вилками, а где еще по народной традиции и руками, но я, например, запомнил старый город, потому что в первый раз увидел там, в саду у бабая, как растет инжир, первую его ягоду сорвал своими руками с наклоненной бабаем ветки из-под лапчатого листа… Там же, у дворовой веранды, росли кусты необыкновенных по виду и аромату роз, и я впервые узнал и увидел, сколько заботы требует каждый куст, чтобы бутоны на нем стали цветами…
Через несколько лет вместо роз бабая разбросал свои цветники городской парк культуры и отдыха. И может быть, на эту лужайку, размахнувшуюся, конечно, шире, сел орел с деревянными крыльями, оперенными блестящими щепочками. Широко распростер он свои гигантские крылья над головами любителей почаевничать, а мы, мальчишки, бегали просто поглазеть на самого орла… Но в те дни, когда я ехал с дулей домой, орел еще парил в небесах, и я опять попросил бабая:
– Поехали к вам, а?
– А мама? – растерянно спросил он.
– Скажете, что встретили меня на улице и увезли к себе в гости!
– Нет, не скажете.
– Поехали!
– Не поехали. Мама лучше всех!
И я понял, что придется отвечать за все, и это был мой еще один урок, который, честное слово, нельзя отнести к плохим.
Три дня мама меняла мне холодные примочки, три дня я держал на шишке серебряную ложку, но шишка была упрямой. И сейчас на носу можно найти горбинку, если потрогать.
Мама приносила воду из колодца и спрашивала:
– Шурка-паразит?
Я не отвечал. Меня выручил отец:
– Ну чего ты пристаешь к человеку? Подрался с ребятами. Ух и гуля!
Шурка принес мне книгу, когда никого не было дома, кроме меня, но читать я ее не мог – гуля мешала. Не помню, как она называлась, только помню, что это была книга про индейцев и про волков. Два раза Шурка, заикаясь, прочел мне место, где рассказывалось, как голодный волк догнал безоружного индейца, а индеец не растерялся, сунул ему в пасть крепко сжатый кулак, протолкнул в самое горло, и волк задохнулся.
– Попробуем? – спросил Шурка.
– Там был волк. А у нас?
– Кислый квас, – сказал Шурка. – Есть же собаки.
Собак в городе было много. Безнадзорные бегали по улицам, каждый день их ловили сетками на длинных палках и увозили в собачьих ящиках. Дворовые, гордо потряхивая номерами на ошейниках, позвякивали цепями.
– Попробуем на твоем Рыжике?
Я засмеялся, замахал руками. Наш Рыжик, хоть и таскался на цепи от забора к столу, был самой ласковой собакой на всем свете, как мне казалось.
– Мы его раздразним, – предложил Шурка.
– Чем?
– Гвоздем на палке.
– Ты дурак? – спросил я.
– Просто так, – ответил Шурка.
– Хочешь, чтобы он задохнулся?
– Зачем? Ты смотри, как написано. Этот же в горло протолкнул. А мы не будем так далеко сувать!
Едва я встал с цветущим синяком на носу после гули, как Шурка принес палку с гвоздем. Мать опять была на базаре. Он всегда норовил прийти в эти минуты.
– Я буду командовать, – сказал Шурка и подступил к Рыжику.
Мы его никогда не били, и Рыжик тотчас убрался от палки в конуру. Но Шурка стал тормошить и колоть его там. И тут я узнал характер Рыжика. Он выскочил из конуры с рыком и лаем, рыжая шерсть на его загривке вздыбилась, мокрые клыки оголились.
– Суй! – крикнул Шурка.
Жалея Рыжика, я сунул свой кулак совсем неглубоко. И сейчас на моей правой руке, меж костяшками пальцев, можно найти белые рубцы от зубов Рыжика, самого ласкового пса на свете. Шурка бросил палку и тут же убежал. Рыжик, укусив меня, пугливо отступил в конуру и целый день не показывался оттуда, даже есть. Только повизгивал виновато. Миску с водой ему просовывал отец сквозь дырку, а Рыжик ворчал. Мать залила мне руку йодом, от которого глаза полезла на лоб.
И уж ничем я не мог выгородить Шурку…
И вот мама сама привела его. С голубем. А через десять минут мы были на его голубятне.
Нет, это не голубятня, а целый дом в углу двора! Из сухих досок, с окнами на юг. Перед окнами был большой вольер, огороженный тонкой железной сеткой и полный воркованья. Голуби, белоснежные, и белые с розоватым пухом, и с металлическим отливом, и с коричневыми веерами в крыльях и хвостах, бродили по вольеру.
Как-то к Шуркиной матери пришла учительница жаловаться на своего ученика и застала его в вольере. Брезгливо поджав губы, она воскликнула, будто сделала самое важное открытие в жизни:
– Конечно, ему некогда уроки учить!
А Шуркина мать, птичка-невеличка, наклонила голову набок и вздохнула с виноватой улыбкой:
– Это у него наследственное!
Голубятню возвел Шуркин отец, умерший от туберкулеза, из-за которого они и приехали сюда, в южный город.
Над нашим городом всегда сияло чистое, бездонное небо, бездна света, безграничная обитель голубей. Голубиные стаи белели в нем быстро рассыпающимися и опять сбивающимися облачками.
Голуби летали над городом, а из дворов и с крыш им вдогонку несся распаляющий, торжествующий или отчаянный свист. Четыре пальца в рот, под язык, свернувшийся трубочкой, и дуй во все легкие, оглушая самого себя!
Да, голуби… Они все время были над головой.
Стоило одной стае взмыть над крышами и тополями, как голубятники из других дворов поднимали своих самых преданных питомцев, чтобы испытать чужую стаю, разрушить ее или хотя бы переманить к себе одного-двух отбившихся молодых голубков. Потом их запирали в голубятне, где были кормушки с дробленой кукурузой, просом и горохом, поилки с водой и ванночки для купанья, и они недоуменно вращали маленькими головками на коротких шеях, наполняли крутую грудь бурлящим клокотаньем и цеплялись сильными изогнутыми когтями за сетку вольера, пока не успокаивались возле ласковой голубки.