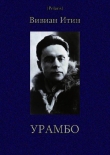Текст книги "Избранные произведения в 2 томах. Том 2"
Автор книги: Дмитрий Холендро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)
– Вот, пишут! Видите?
«Колымские старатели из бригады Кузьмина дарят детям Ташкента стоимость одного килограмма золота».
Радиорупор на столбе, вылезшем из-за оборванных, обтрепанных деревьев, говорил над площадью:
– Вчера в фонд помощи Ташкенту на счет 170064 поступило от колхоза имени Калинина, Рязанской области, пять тысяч рублей, от пенсионера Кадыра Джураева из Хатырчи сорок три рубля и безымянные переводы из Армавира и Пензы на пять и два рубля.
Видно, об этих поступлениях радио каждый день докладывало всем.
– Два рубля, – повторил старик, улыбаясь сквозь редкие зубы. – Может быть, какой-нибудь мальчик разбил свою копилку.
– Может быть.
– Или девочка, – сказал старик.
– Ну!
Кеша смотрел на женщину в черном длинном платье, которая, прижав к груди пустое одеяльце, бродила по аллеям, останавливалась у детских колясок, заглядывала в них и снова рвалась куда-то.
– Кто это?
Старик поохал, вздохнул, помолчал.
– Страшней всего было в родильном доме. Матери отдельно спали, дети – отдельно… Побежали за детьми в темноте, света нет… Бирок не видно, ничего не видно. Кричат одинаково. Где чей? Хватали в темноте… Одна трех детей взяла, выбежала во двор, всех у нее отняли, а где свой? Нет!.. Ну вот… И эта потеряла своего… Она тихая, – прибавил старик, последив за женщиной. – Только ищет…
Женщина все бродила по скверу, вздрагивая при каждом детском плаче, а другие матери загораживали и откатывали от нее коляски.
Было, конечно, много страшного в ту ночь. Теперь-то хоть ожидали толчков, сразу узнавали их, привыкли.
– Оно!
А тогда… И тревожней стало за Мастуру. Кеша закурил.
Знакомый сквер жил своей необычной и обычной жизнью. Там парень ждал кого-то с розой в руке, присев на велосипедную раму. Там встретились двое и пошли в сторону ото всех. Там стояли девушки…
Часы уже показывали четверть восьмого. Большая стрелка клонилась ниже и ниже. А потом поползла вверх. Нет Мастуры. Не пришла. Не придет.
Он посидел до половины девятого и встал. Ну, а завтра? Надо прожить эту длинную дорогу до завтрашнего вечера.
Работы назавтра оказалось много, чистили два больших развала, но все же в обеденный перерыв он успел подскочить к библиотеке. И никого не застал там. Пустые стены и поломанные стеллажи под солнечным небом. Спросил проходящую мимо женщину, когда кончили разбирать библиотеку.
– Вчера еще тут были люди.
Понятно, с книгами спешили. Не его же дожидаться. Вчера надо было сюда… В конце концов, он у них не штатный, у харьковчан. Таскает бревна бесплатно. Кормят – и ладно. Сегодня уйдет пораньше. Скажет Махотко… А что скажет? Что-нибудь…
Однако в этот день всех на час раньше посадили в грузовики и привезли в парк, где ставили палатки, растаскивая по ним кровати. Он подумал, где-то дом рухнул, спешная работа…
– Что такое?..
– Мероприятие!
Открывали лагерь «Украина». Ему же еще вчера сказали об этом те, что сколачивали трибуну. Ну вот, его отпустят, он чужой. Но Махотко удивился, сказал сердито:
– Какой чужой? – И погрозил пальцем. – Чтобы я не слышал!
Ребята одевались к параду. За деревьями все время играл духовой оркестр. Узбекские музыканты репетировали украинский марш. Ребята напевали про «дивчиноньку-чернобривоньку» и чистили ботинки. Получалась, значит, у ташкентцев украинская музыка. Когда начали строиться, на большой поляне заговорило радио. Кто-то прибежал оттуда поторопить.
– Харьковские! Чего застряли?
– Блистимся!
– Там в кино снимают. Не артисты! Давай как есть!
Засуетились, засмеялись:
– Бобошку вперед. А то его не увидят.
– Увидят, если захочу.
– Подпрыгнет.
– А банкет будет?
– Как построим город…
– Шевелись, шевелись!
– Та куда вы спешите? Какое там кино! На пушку берут!
Но перед деревянной трибуной, правда, сновали ребята с аппаратами. Прицеливались к щитам и фанеркам с надписями: «Одесса с вами!», «Днепропетровск в Ташкенте», «Николаев здесь». Их несли впереди колонн. С трибунки кричали в микрофон:
– Привет тебе, Одесса!
– Хай живе наше братерство!
Оркестр играл все тот же марш. От этого становилось всем еще веселее.
– Салям, Харьков!
Махотко первым схватился:
– А где наша Сибирь?
Бобошко огляделся и ответил:
– Вот она! Дивись!
За харьковчанами шел Кеша, обеими руками нес над собой фанерку с буквами: «Я из Наяринска». Буквы были еще сырые, с них текло. Он нес свою фанерку в вытянутых руках, и все операторы, сгрудившись, его снимали.
– Вот как! – крикнул Бобошко. – Сам по себе!
Да чего там сам по себе! Он схватил фанерку и банку с краской, забытую на траве, успел, написал кое-как. Может же Мастура увидеть эту фанерку в киножурнале? А больше ему ничего не надо было.
– Я с ним побалакаю!
Но поговорить с Кешей после парада не удалось Бобошке. Сибиряк исчез.
– Да где ж он?
А он уж ехал к площади Навои.
Снова и снова обшаривали его глаза аллейки сквера, ступени театра, колонны с приставленными к ним афишными щитами. Театр работал, зазывая на «Бахчисарайский фонтан» и «Сорок тысяч красавиц».
И вдруг Кеша обомлел. По ступеням, вдоль афиш, шли девушки – маленькая, скуластая и высокая, плоская, вся в красных бусах. Те самые, что стояли в этом сквере и разговаривали с Мастурой в день их первой прогулки.
Скорей! Он с разбегу схватил их за руки.
Они начали вырываться.
– Кто вы? Мы вас не знаем! Пустите!
– Кричи! Кричи! Я же простуженная! – захрипела длинная.
– Да не надо кричать! – взмолился Кеша, крепче сжимая их руки. – Я ищу Мастуру.
– Какую еще Мастуру?
– Ну! Вон там вы стояли с ней…
– Когда?
Он объяснил, когда.
– Не помните? Приветик!
– А-а! – хрипло протянула длинная, успокаиваясь и то ли теребя свои бусы, то ли потирая больное горло. – Мы ее всего-то раз видели, на Комсомольском озере… Ее Мастурой зовут?
– Мы о ней ничего не знаем, – робко прибавила малышка.
– С кем она тогда была, на Комсомольском? – спросила ее подруга.
– С Хадичей Муратовой.
– Вот! Поищите Хадичу Муратову на телеграфе, – прохрипела длинная уже совсем дружески.
– Это тоже Навои. Только не площадь, а проспект. Приветик!
Кеша отпустил их руки, а когда девушки отошли, крикнул вдогонку:
– Спасибо!
Ну что ж… На телеграф. К Хадиче Муратовой. Проспект Навои, наверно, недалеко.
Оказалось, далеко. Шагал туда вдоль все еще не убранных развалин и темных пустырей. Среди развалин в одном месте сидели за столами милиционеры, вовсю командовали по телефонам. Вывеска держалась на колу – областное управление милиции. Дом не устоял, работали во дворе.
Перебрался через бугор, спросил, показали. Теперь было совсем близко. Там, куда протянул руку майор, светились огни вроде бы целой улицы.
И правда, она новой была и почти целой, будто из другого города. Новые дома выдерживали толчки, хотя все стены внутри телеграфа располосовало сверху вниз, как по линейке, прямехонько потрескалась штукатурка. В большом зале народу было битком. Еще бы! Телеграф стал средоточием людских волнений, требующих ответа.
Женщины за барьерами черкали и черкали карандашами по бланкам, встряхивали руками от усталости и на мгновенье совали головы под вентиляторы, подставляя искусственным ветеркам потные лица, измученные глаза, чтобы согнать с них пелену. У них в глазах мутилось, наверно.
Над головами усталый женский голос приглашал:
– Краснодар по вызову – вторая кабина.
– Алма-Ата по вызову…
По вызову, по вызову… Отовсюду стучались в Ташкент, ждали, искали… А женский голос твердил:
– Москва ПЗП.
– Киев ПЗП.
Непонятное что-то… Кеша выстоял в очереди к столу, намахал коротенькую телеграмму деду, подтвердил, что живой, а к тому же неудобно было пробиваться с пустыми руками к барьеру, и пристроился к другой очереди, еще длиннее. Через добрый час подал свою телеграмму. Девушка быстро прочла, дунула на упавшую со лба прядь волос, сказала так же быстро:
– Подпись неразборчива.
– Усольцев.
– Обратный адрес? Улица? – нервно спрашивала девушка.
Кеша развел руками:
– Была и нет.
– Напишем: телеграф, до востребования, – согласны?
– Конечно.
Женский голос над головой осип:
– Москва ПЗП. Свердловск ПЗП. Алма-Ата ПЗП.
– Это что ж такое – ПЗП? – спросил Кеша, пока девушка выписывала ему квитанцию. – Позабыт-позаброшен?
– Прием заказов прекращен, – быстро ответила девушка и неожиданно улыбнулась.
Был налажен какой-то контакт, Кеша наклонился:
– А где тут Хадича Муратова?
– Она приемщица?
Ну вот – снова руками разводи.
– Может, в аппаратной? – сказала девушка, потянувшись за следующей телеграммой.
Тихо гомонящая очередь оттеснила Кешу. Аппаратную он легко нашел, да там на двери было написано красным: «Посторонним вход воспрещен!» Внушительной дубинкой грозил восклицательный знак. Из-за двери ребята вынесли лестницу, поставили у стены и ушли, отряхивая штаны. Кеша тут же взял лестницу на плечо и понес назад, мимо вахтера, который даже приоткрыл дверь перед ним и прикрикнул:
– Чуть не убил! Смотри!
По коридору юркали девушки. Кеша, действительно, чуть не задел кого-то из них и теперь пошел осторожнее. Толкнул лестницей дверь, за которой дробно стучало.
Аппараты строчили, как пулеметы. Сидели за аппаратами девушки, все черноволосые. Ободренный своей удачей, Кеша наклонился к ближайшей, уверенно спросил:
– Какая тут Хадича Муратова?
Девушка на миг оторвалась от работы.
– Откуда она?
– Местная.
– А я из Фрунзе. – И стала рвать ленту, непрерывно сползающую с аппарата, и наклеивать полосками на бланк.
Кеша перешел ко второй телеграфистке:
– Ты местная или тоже из Фрунзе?
– Из Дюшамбе.
Тут его заметила старшая смены, в очках, сидящая за столиком у телефона, и крикнула, перекрывая стук аппаратов:
– Эй! Зачем пришел? А ну, из аппаратной! Вахтер!
– Да я…
Но задрожало здание, и накатился гул, и замигали, закачались и потухли потолочные лампы. Аппараты вмиг смолкли, отчего подземный грохот стал слышнее, будто ближе. Стало темно, потому что за распахнутым настежь окном сгустилась ночь. Стало страшно. Девчата завизжали:
– Свет! Почему свет выключили?
– Пожара хотите?
– Без паники!
– Все на улицу!
Девушки ринулись к двери, но залетевший оттуда в аппаратную вахтер остановил их:
– Назад! Лестница сломалась!
Аппаратная помещалась на втором этаже. Сжались у окна. Кто-то вскочил на подоконник. И тут Кеша рванулся к окну и закричал:
– Вот лестница!
Он броском выставил лестницу наружу, опустил, сам вскочил на подоконник и стал подавать девушкам руку, придерживая их, пока они перешагивали с подоконника на лестницу, и спрашивая, как пароль:
– Ты не Хадича Муратова? Ты не Хадича?
– Какая Хадича? – оборвала его одна с искаженным лицом.
На дворе столпились люди, кричали:
– Давай, давай! Скорей!
Опять загрохотало, и опять дрожь прошла по дому, и несколько девушек он пропустил молча, а потом спросил робко высокую, глазастую:
– Ты не Муратова… Хадича?..
– С луны свалился? Хадича замуж вышла и давно уехала в Самарканд!
Ее руку он как взял, так и не выпустил, потому что вспыхнул свет.
– Не бойся, – сказал Кеша. – Уже прошло. Стучат.
Да, ожили и застучали аппараты, поползли ленты.
Возвращались девушки и садились работать со двора, где уже закипел веселый шум, крикнули:
– Верхолазы! Не убирайте лестницу, пусть стоит!
Кеша все еще держал глазастую за руку, и они вдвоем двигались по аппаратной к ее месту, где ждал телеграфистку стучавший аппарат.
– А ее подружку, Мастуру, ты не знала?
– Мастура, Мастура… У которой мать в трамвайном парке работает?
Из дальнего угла какая-то бойкая, поправляя прическу, крикнула:
– Тебе здесь девушек мало?
Засмеялись, как всегда, когда проходит испуг.
Ему везло сегодня. Так везло, что боязно становилось. Но, может быть, оттого боязно, что еще сегодня он увидит наконец Мастуру?
Трамвай скрежетал на рельсах. Вдоль путей, возникая в редких пятнах света и пропадая в темноте, стояли пустые дома без стекол, без голосов, без скрипа дверей, дома, приговоренные упасть. На подоконниках верхних этажей сохли неполитые цветы. К ним уже не дотягивалась людская рука.
Вагон вела высокая женщина с темным, сухим лицом. Кеша видел ее сквозь стекло, и лицо вожатой выглядело как на гравюре из книг архитектора, дедовского приятеля. От резко очерченной скулы падала тень на узкую щеку, а когда вожатая поворачивала голову и следила за выходящими, становились видны морщины, тянувшиеся к костистому носу.
Лицо ее показалось Кеше мужественным, – такими бывают лица у людей, познавших потери и вынесших из них боль и стойкость. Он стал думать: может быть, она потеряла кого-то на войне, может быть, и позже. Стал думать о потерях – правильно это, когда люди на них мужают, потому что если были потери, то для чего-то ведь они были… Обидно, если зря…
Вдруг женщина остановила трамвай там, где, похоже, не было никакой остановки. Никто не выходил. А вожатая смотрела, как ломали улицу. Присмотрись и он – узналась бы в полутьме пустеющая улица Тринадцати тополей. Но он думал о своем, не присматривался, только слышал, как тяжело ворочались машины среди нежилых стен. В трамвае запахло пылью. День и ночь пыль хрустела на зубах ташкентцев, но все же к ночи людей становилось меньше, и пыльная работа велась смелее.
Вожатая все не трогала трамвай с места. И никто из пассажиров не торопил ее. Кто понимал, что смотрит она на свое, знакомое. Кто думал, что трамвай задерживают работающие машины. Все молчали вместе с вожатой. Она толкнула рукоять мотора, когда сзади подкатил другой трамвай. Через две-три остановки, едва Кеша хотел спросить, далеко ли до трамвайного парка, вожатая объявила, что трамвай идет в парк. Уж если везет, то везет, не пожалуешься!
Еще через несколько минут въехали в ворота трамвайного парка, прокатились по двору и стали. Где-то стрекотала электросварка. На всякий случай перед воротами Кеша спрятался за сиденьем, а теперь встал. Вожатая открыла пневматические двери и сошла, а из заднего вагона, одернув на себе пиджак, выпрыгнул Кеша. Увидев постороннего, она окрикнула недобрым голосом:
– Вы откуда? Кто такой?
Кеша стал подходить к ней.
– Я… издалека… Тут работает женщина, а у нее дочку зовут Мастура… Вы не знаете?
– Мастура? – переспросила вожатая, глядя на него из-под тесно сдвинутых бровей.
– Да… Они с улицы Тринадцати тополей…
– А что вы хотели?
– Я хотел узнать…
– Что хотели узнать? – допытывалась она все строже.
– Жива ли Мастура? Не знаете? – опять спросил он, потому что она молчала.
– В нашем парке ни у кого нет жертв, – сказала она.
– Правда?
– Но Мастура с матерью уехала из Ташкента.
Ну вот… Недолгая радость схлынула с лица Кеши. Он облизнул губы, пожевал ими.
– А куда уехала?
Суровая женщина покачала головой.
– Этого не знаю. Едут куда кто… Сейчас не спрашивают, у кого где родственники… Всех не спросишь…
– Это верно, – сказал он и опустошенно присел на край грязного железного ящика у путей.
Вожатая предупредила:
– Здесь нельзя посторонним.
– У вас буфет какой работает? – спросил он. – Есть охота.
Она еще раз посмотрела на него и вернулась в вагон. Там она взяла из клеенчатой сумки что-то съестное, сдула пыль. Из депо вышел трамвай и покатился к воротам, загородив от вожатой парня на ящике. Она подождала. А потом увидела, что ящик пуст. Уехал, наверно, голодный парень на этом трамвае…
А он уже шагал по улице, нагнув голову и сунув руки в карманы. Ну вот… Узнал, что живая, но не нашел. Уехала… Так ему и надо. В чужом городе, далеко от дома, проклинаемый, верно, дедом, который один замаялся там, бредет он один по ночной улице… Хорошо, что она уехала… Спокойней… Если б только узнать, куда уехала…
Он попал под яркий свет, и длинная тень его поползла перед ним самим. И очень знакомый голос сказал с усмешкой:
– Наткнешься!
– Алимджан!
Это стоял Алимджан. Даже рабочий костюм – грязные брюки и темная бумажная рубаха – не портил его спортивной фигуры. И даже в эти бедственные дни оставался он модником. На шее какая-то косыночка узелком… А на плече он держал здоровенный бюст старца с курчавой бородой.
– Я искал тебя в библиотеке! А ты вот где! Ну!
– Ну! – ухмыляясь, подхватил Алимджан и пошел, заговорив на ходу: – После библиотеки я работал на расчистке картинной галереи. Туда же бульдозер не пустишь. А сейчас вот изящное искусство спасаем… Все ручками, ручками… Что ты делаешь в Ташкенте?
– Да вот…
– Вернулся на дом посмотреть?
– Ну!
– Не продал до толчка. Чудак! Вот оно что делает – вдохновение.
– Ну!
– Один ключ остался теперь.
– Смейся…
Алимджан, и правда, хохотал, приближаясь к платформе, заставленной спасенными изваяниями из мрамора и гипса.
– Не горюй! Получишь компенсацию…
– А куда уехала Мастура? – спросил Кеша. Алимджан переменился в лице.
– Постой! Мастура? Уж не из-за нее ли ты вернулся? Помешанный! Есть еще такие сумасшедшие на земле!
– Ну! – повторил Кеша. – Смейся.
Но Алимджан молчал. Глаза его удивленно всматривались в лицо Кеши, на котором застыла усталая и грустная улыбка.
– Что ты, – сказал наконец Алимджан. – Я тебе завидую… Но кто сказал, что она уехала?
– Мастура?
– Да.
– Вожатая одна сказала. В трамвайном парке. А куда – не знает…
– Так выясни там, куда уехали Султановы. Кто-нибудь знает.
– Султановы? Это ее фамилия? – воспрянул Кеша. – Я бегу!
– Постой! Эй! Где тебя искать?
Но Кеша вряд ли это услышал. Он бежал назад, к трамвайному парку.
Вахтер уже закрыл ворота, пришлось забарабанить в дверь проходной, и вахтер выглянул из форточки в двери, как птица из скворечни, заволновался:
– Кого надо?
– Мне узнать… Про Султанову…
– Султанова! – сейчас же закричал в глубину двора вахтер. – Султанова! К тебе кавалер пришел. Сейчас будет Султанова, молодой человек. Подожди.
Кеша ждал, схватившись за железные прутья ворот и почти прижавшись к ним лицом. Значит, не уехала? Что же это? Радоваться или пугаться – он не успел сообразить. С той стороны ворот подошла женщина, он узнал ее сразу. Он говорил именно с ней полчаса назад, с этой высокой и сухой трамвайной вожатой. Она ему сама и сказала, что Мастура уехала с матерью.
– Это вы? – удивленно спросил Кеша, сглотнув комок в горле.
Она посмотрела на него долгим взглядом и сказала неожиданно мягко:
– Не сердись… Я не хотела обидеть тебя…
Он ничего не понял.
– Меня?
– Ты ее ищешь, а она тебя даже не вспоминает… Я не виновата… И она не виновата…
Говорила мать Мастуры трудно. Кеша ждал каждого слова, тряс головой, как бы поддакивая. Медленно, не жалея его, она говорила правду. А правду говорить тяжелей всего.
– Лучше улетай, – посоветовала ее мать. – Улетай домой.
10
Может быть, то была самая длинная улица Ташкента, и во всю длину посередине ее тянулись палатки, поставленные как по шнуру. Двумя ровными, непрерывными рядами. В тихий ночной час это было очень похоже на строгое военное поселение.
Утром сюда приезжали фургоны с лепешками и молоком, поднимался базарный говор, шум. В полдень откидывали углы палаток, потому что не хватало вохдуха, и чайники с пиалушками, забытые возле кроватей на табуретках в предутренней суматохе, когда все спешили, кто на работу, кто на учебу, до вечера были на виду. И дети на горшках тоже.
Быт и дети вносили в палаточный городок безалаберность. Весело и грустно разворачивалась эта жизнь. Совсем неспрятанная… Все двери открыты – ни замков, ни сторожей, а собаки под раскладушками сбились с толку, не догадывались, кого встречать лаем. Гавкнут и смотрят растерянно.
У входа в одну палатку стоял телевизор экраном наружу. Брезент свисал по бокам экрана, как занавес. Смотрели футбол. «Пахтакор» выигрывал, ему везло в начале сезона.
Алимджан остановился, посмотрел немного и спросил:
– Не скажете, где здесь палатка Султановых?
Не оглядываясь футбольный болельщик-мальчишка махнул рукой:
– Дальше.
В палатках уже мерцали лампочки, там и тут, уложив детей, затягивали пологи на ночь, кто-то гладил на уличной доске мужнину рубашку или дочкино платье к утру утюгом, добросовестно служившим без счетчика. Кое-где мужчины играли в шахматы на табуретках, покуривали и читали вечернюю газету.
Наконец женщина, вешавшая белье между палатками, сказала:
– Да вот!
Алимджан приоткрыл полог и сразу увидел Мастуру. Она ставила тарелки на ящик, покрытый скатертью, под слабой лампочкой на крохотном шнуре, собирала ужин, как и в прежние дни, – видно, ждала мать. Из тех прежних дней Алимджан заметил в палатке будильник – он устроился на чемодане, поставленном между раскладушками на попа.
– Вот ты где! А пустили слух, что ты уехала!
– Алимджан!
– Ты видела Кешу? Сибиряка!
Что-то брякнуло в углу палатки, сбоку от Алимджана, там, куда он отвел полог. Оттуда шагнула к «столику» мать Мастуры, поставила вазочку с вареньем и третью пиалушку.
– Салям, Мархамат-апа, – сказал он робко.
– Салям алейкум, Алимджан. Садись чай пить.
– Рахмат.
Он сел, а Мастура спросила, справившись с дыханием:
– Кешу? Он ведь улетел!
– Он здесь, – ответила за молчавшего Алимджана мать. – Вчера приходил в трампарк.
– Что он тут делает? – все еще почти без голоса спросила Мастура, и Алимджану захотелось успокоить ее, может быть, обрадовать, а может, развеселить.
– Он ищет тебя, – сказал Алимджан тихо, и мать покосилась на него недовольно и тут же призвала к себе в союзники:
– Какой легкомысленный мальчишка! Правда, Алимджан? Вернулся в город, где землетрясение. Ищет девушку! Какой герой! Стыдно! Правда, Алимджан?
Алимджан молчал, сидел, пригнув голову, пока не сказал:
– Простите, Мархамат-апа, но, по-моему, это не легкомыслие. Мне кажется…
Матери, однако, было неинтересно слышать, что ему кажется. Она встала и перебила:
– Ага! Ты с ним заодно! Уходи!
Встал и Алимджан, снова приложив руку к сердцу.
– Мама! – вскрикнула Мастура.
– Уходи! – волнуясь, повторила мать и показала Атимджану рукой на выход из палатки.
– Да, да! – поспешил успокоить ее Алимджан.
– Мама!
– Простите, – сказал Алимджан и вышел.
Говорят же – не ввязывайся никогда в чужую любовь. Вот и получил, и от этого даже в горле засаднило, как будто съел кислое. Своей любви не вышло, взялся чужой помочь. Пропади вы пропадом! А тут еще дождь… И когда это он собрался? Странное лето в Ташкенте!
Дождь слетал редкими каплями, но небо было низким и черным, вот-вот развалится и обрушит на город ливень.
Мастура стояла в палатке, заведя руки за спину, обхватив ими столб-подпорку и прижавшись к нему затылком, как для казни. Что-то незнакомое, что не могло хорошо кончиться, назревало в ней. Хотелось возражать матери вслед за Алимджаном. Откуда это пришло? Гнев матери, такой чужой и несправедливый, обидел ее?
– Что он тебе сказал, мама?
– Сядь.
– Я хочу увидеть его!
– Зачем?
– Не знаю.
– Он уже улетел домой, наверно. Он сказал мне, что улетает домой.
– У меня сегодня дежурство на аэродроме. Я буду провожать детей. Комсомольское поручение.
Дежурство завтра было, но она сказала – сегодня.
– Ты стала храбрая, – недобро усмехнулась мать. – Не боишься ездить на аэродром ночами.
– Я просто выросла, мама.
– Ты грубишь матери! – тихо сказала мать, не веря себе. – Это все он… Он! Проклятый!
– Мама!
– Да, да! Проклятый! – закричала мать.
Мастура выбежала из палатки, словно ее толкнули. Капли пролетали чаще, задевая лицо. Все перемешалось: землетрясение, ураган, дожди.
Она любила поздние ташкентские вечера, когда после дневной жары весь город – и тебя – внезапно окатывало прохладой. Горы, где-то в невидимой дали от Ташкента, сливали с себя студеность. Далекие горы словно бы подходили по ночам к городу по пустынным дорогам, ставшим короче. Ведь ночные расстояния всегда короче дневных. И до звезд становится ближе, они спускаются, светят, смотрят на тебя, как и ты смотришь на них.
Правда, это были редкие минуты, когда она поздно возвращалась домой, потому они и запомнились. Старые часы Хакима-ака стерегли ее и выдавали матери каждое маленькое опоздание. А сам Хаким-ака всегда защищал ее из-за стенки. Где он сейчас, добрый старик?
«У меня был знакомый сибиряк. На гармошке играл!»
Странный сибиряк. Вовсе не улетал из Ташкента, видно. Утром прибежал на их улицу, а ее развалило.
«Я сегодня улетаю… Покажите мне город».
«Вечером фонтан желтый, зеленый, синий…»
Мама ждет ее в палатке, а она сидит на чьей-то табуретке под дождем. В тишине и безлюдье. И не к кому ей ткнуться в грудь, спрятать слезы.
А когда-то она совсем уйдет из дома. Неужели? Конечно, по узбекской традиции, мать сама хотела бы найти ей жениха. И любоваться на их счастье: ведь она не может найти дочери плохого человека. А ей, Мастуре, никто не нужен! Ей и подумать страшно об этом…
Ее часто встречали мальчишки, когда она выходила из гладильной. Сбегались и начинали выяснять отношения, выдавая себя за ее защитников.
– Ты чего?
– А ты чего?
Неужели он прилетел, вернулся?
«Я же улетаю».
«Ну и улетайте! Счастливо!»
Сколько раз потом она вспоминала его ребячливое лицо, его растерянные глаза, его светлый чубчик, и большие сапоги, и часы, и то, как он грозил часам кулаком. И то, как играл с уличными мальчишками в футбол под ее окном.
Это надо забыть. Он здесь? Ну и что?
Отсидевшись, Мастура нашла палатку тети Фани. Ночью все палатки одинаковые, и не сразу найдешь, но перед палаткой тети Фани на веревке висел и мок коврик. Мастура сняла его. Тетя Фаня деловито обрадовалась:
– Вот хорошо!.. Давай чаек пить. Надо же доедать варенье. Скоро свежие фрукты.
И стала выставлять на стол из-под раскладушки большие и маленькие банки, золотистые и карминовые внутри. На раскладушке, зарывшись в одеяло, сопел Лешка, про которого тетя Фаня говорила иногда в сердцах: «Мой! Больше ничей!»
Тетя Фаня подняла к носу ложечку с вареньем и понюхала.
– Люблю Ташкент.
– Тетя Фаня. – сказала Мастура, – вы знаете, он, оказывается, еще здесь.
– Кто?
– Племянник Галины-ханум.
– Вот дурак! – Тетя Фаня вдруг насупилась. – Ты плакала?
– Нет, дождь.
– Хочешь меня послушать, – махнув ложечкой, как учебной указкой, перед ее носом, сказала тетя Фаня, – слушай, что я скажу.
Но не сразу начала, вздохнула на всю палатку.
– Слушаю, – сказала Мастура.
– Любовь? – рассердилась тетя Фаня. – Нет ее, нет! Все это на пять минут! Я знаю! Выбрось из головы! Любовь!
– Тетя Фаня!
– Это люди выдумали для самообмана, чтобы не так скучно жизнь свою тянуть. Сами знают, что обманывают себя, а мучаются. Думают, это веселее.
Она уже не сердилась, грустно и устало говорила, жалея и себя и Мастуру.
– Тетя Фаня!
– Не верь!
– Тетя Фаня!
А она вдруг рассмеялась, и долго смеялась, и легко.
– Ой! Знаешь, как я своих забывала? Умер! Он живой, а я думаю – умер. И все. Что сделаешь? Уж куда больней, а не поправишь. И надо тянуть дальше. Вот как!
Где-то в середине этого рассказа тетя Фаня опять посерьезнела, Мастура сказала испуганно:
– Я пойду.
– Сиди!.. Видишь, прекрасно существую, не хуже других… Сливу ешь! Или айву. Дурочка! – сказала тетя Фаня, вытирая розовые руки. – Поняла?
– Поняла.
– Он совсем и не симпатичный! – вскрикнула тетя Фаня, всплеснув руками.
– Совсем, – согласилась Мастура.
– Никаких глаз!
– Никаких.
– И фигуры никакой!
– Я пойду, – повторила Мастура. – Мама ждет.
Она подумала, что ужин остыл на ящике в их палатке, а мама, хоть и голодна, не будет есть без нее.
– Ах, бедная! – неподдельно пожалела ее тетя Фаня и опять вздохнула так громко, что Лешка заворочался. – Бедная ты!
– Почему?
– Да ведь ты влюбилась! Посмотри на себя! Вся красная. Вот горе-то!
Дождь вовсю разошелся, бежать бы надо, но Мастура не бежала и вошла в палатку промокшая.
Мама сидела за столом, положив темные руки свои на полотенце, свернутое комом. И сразу захотелось, чтобы эти руки обняли ее.
– Если ты надумала встречаться с ним, – безжалостно предупредила мать, – подожди, пока я умру.
И прибавила что-то шепотом из узбекской молитвы.
– Я знаю, почему вы так сердитесь, – тихо сказала Мастура, опять остановившись у столба, а мать подняла на нее глаза. – Потому что он не узбек…
Мать вдруг встала и прошептала, шевеля своими бледными губами:
– Это ты не узбечка! Вокруг такая беда… А он вернулся из-за тебя! Из-за тебя! Из-за тебя! – повторяла, задыхаясь, она и под каждое «из-за тебя» стала хлестать дочь полотенцем по щекам. Видно, ждала, злилась.
Мастура не отворачивала лица.
– Из-за меня! – проговорила она, когда мать опустила руку. – Разве это плохо?
Мать села на раскладушку, положив полотенце на колени. По лицу ее скользили безмолвные слезы. Она плакала, как глухонемая. И это больше всего поразило Мастуру. Упав на колени, она принялась целовать руку матери.
– Мама! Вы устали!
Мать прикрыла глаза, но слезы катились и из-под закрытых век. Она так давно устала, что уже не сможет отдохнуть.
– Дай мне слово…
– Да, мама!.
– …что ты забудешь его!
– Да, мама.
11
Дождь барабанил по палатке.
Вторую ночь лило как из ведра. Солнечный городок! Весельчаки шутили:
– Принимайте душ, пока нету бани!
Кое-кто, правда, вымылся под дождем с мылом и залег в постель.
В палатке тесно сбились кровати и было темно. Казалось, все спали. Но вдруг рассек тишину полнозвучный голос Бобошко:
– Бригадир! У меня кровать дырявая!
– Была команда спать, – спокойно сказал Махотко.
– Вы лежите, а я скребу задницей по земле. Из дальнего угла буркнули:
– Крепче будет.
– Да вы гляньте!
– Заткнись, Бобошко.
– Гляньте, как я в этой кровати сижу!
– Не сиди, – посоветовал Махотко. – Встань и свяжи сетку.
– Чем? – спросил Бобошко. – Соленым огурцом?
Кеша слышал и не слышал их перебранку, а тут приподнялся.
– Я видел, где проволока валяется. Сейчас принесу.
Махотко сказал:
– Фонарь справа, на полке. Нашел?
Хлопнул мокрый брезент, дождь зашумел отчетливее, будто на миг ворвался внутрь.
– Оце товарищ! – похвалился Бобошко, шлепая босиком по доскам и забираясь в кровать Кеши.
– А жуть ты, Бобошко! – сонно заметил кто-то и зевнул.
– Я? – чистосердечно изумился Бобошко. – Я знаю, что делаю.
И тут не выдержал бригадир – все же вывел его из себя Бобошко:
– А ну, козаче, вертайся на свое место!
Но и Бобошко не хотел сдаваться, сел, в полном недоумении спросил:
– Кого защищаете? Да я…
В темноте заворочались.
– Ну, кто ты, детка?
Бобошко зло ответил на это.
– Я приехал город строить, а он – к бабе!
Теперь, пожалуй, на всех кроватях зашевелились: это было интересно.
– К бабе?
– К какой бабе?
– Она не баба.
Кеша вернулся с проволокой и светил фонарем прямо в лицо Бобошко.
– Может, девушка, – ухмыляясь, сказал Бобошко и лег. – Извини. Я не проверял.
Где-то в глубине палатки зареготали. Кружок света нащупал лепешкообразное лицо Бобошко, разъехавшееся в улыбке, и становился все ярче. Кеша приблизился и сказал:
– А ну, встань!
Бобошко не заставил себя долго ждать, вскочил и размялся, играя мускулами.
– Ударишь?
И в тот же миг получил удар от Кеши, качнулся – тоже не слабые руки были у лесничего – и ринулся на него, но между ними вломился Махотко.