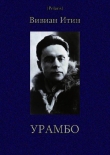Текст книги "Избранные произведения в 2 томах. Том 2"
Автор книги: Дмитрий Холендро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
Ему главное Тоня. А если Тоня для него в самом деле значит так много, бог моря, Нептун, и Сашкина звезда, которая ночью заиграет над его головой, и слепая добрая и глупая удача, помогите ему! Ну что вам стоит!
Нептун беспробудно спит, звезда далеко, не хватит жизни, пока сигнал бедствия дойдет до нее, преодолев расстояние в какой-нибудь миллион световых лет, а удача в этот светлый денек не светит.
Море бежит на глаза…
Море пахнет, как пригретый луг. Сашка никогда не был в лугах, только знает о них по рассказам матери, которую отец привез из лесных мест после службы в армии в свои молодые годы. Мать все вздыхает о них. А здесь даже в лесных зарослях на Медведе или Медвежонке – голые осыпи красноватого или серого щебня и на память известные полянки с двумя-тремя ромашками. В сущности, декоративные ромашки.
Но Сашка представляет себе луга, когда выходит в море. Чем дальше от земли, чем мористее – тем зеленее, и кажется, что ты забрался в траву, и эта трава накрывает тебя с головой, стоит опустить глаза, как бы погрузив их в пучину.
И запахи – они просыпаются и текут навстречу солнцу, как и от травы. Они окружают тебя со всех сторон.
На берег эти запахи выкидывает иногда после шторма. Они бывают недолгими. Поэтому кажется, что они пролетают мимо. Нечаянно и редко. Но это не так. Они исчезают, как исчезают луговые запахи в скошенной траве, и, чтобы услышать их следы, надо приложить клочок сена к лицу, так же как плеснуть себе под ноздри горсть моря.
Сашка смотрит в зелень моря, будто бы и впрямь настоянную на густой траве, в которой заблудилась рыба. Не будет славы, не будет Тони, ничего не будет. Чем упрямей Сашка не слазит с капитанского мостика, тем глупее он выглядит в глазах ребят. Об этом долго будут вспоминать: как он дураком торчал на своем месте целый день. В кино хотел попасть. На экран. Артист! Вон ребята на корме уже хохочут. Надо сойти. Надо поесть, а он все курит и курит, Сашка. Еще и песню сочинят на какой-нибудь популярный мотив. Не пожалеют.
Сейчас, раз-два, и – вниз.
Но теперь он уже стоит назло себе. И теперь уже глупо не стоять, а уйти, потому что это все равно что признать свое поражение перед ребятами. Какое поражение? Разве ты делился с ними своей думкой? Разве они знают, что ты и на берегу задержался, чтобы отпустить все суда в море и походить, порыскать одному? Ведь так было? Догадаются. И обсмеют. Вся бригада – сорвиголовы. Ну, вниз!
Но Сашка стоит. Прирос к капитанскому мостику. Хоть бы дельфины поиграли… Дельфины всегда играют на рыбе. Всяческая мелочь искрами летит от них, как от молота, когда дельфины, пружинисто выгибая спины, впрыгивают в стаю. Охотятся.
Пишут, что дельфины – люди моря. Ум у них. Не хуже человеческого. Жизнь, конечно, хуже. Бездомная, во-первых. А может, есть у них подводные общежития и подводные там сады? Из водорослей. Но зачем им дома? Под толщей воды им тепло, как под одеялами. И садов нет. Были бы сады – были б руки, за садами ухаживать надо. У них другая среда, водная, другой вид, все другое: кожа и фигура, а уму это не помеха. У одинаковых людей и то разный ум. Одного тянет к дельфину, как к разумному и загадочному сопланетнику. Когда дельфин кувыркается, всегда хочется искупаться. Другой их бьет. Промысел. Из них жир топят. В нашем море до недавнего ловили и били дельфинов. И жизнь у них, конечно, хуже людской, даже палки взять нечем. А вдруг правда? Правда, что у них есть язык? Вот обучат нескольких дельфинов людскому, они скажут, что о нас думают. А потом будут работать, рыбу показывать.
Мы ведь непременно подружимся.
Эх, Сашка, ты учись у председателя Ильи Захарыча Горбова. Пока ты мечтаешь о далеком будущем или несбыточном, он, решив прославиться, не рассчитывает на «авось», а опирается в этом деле, как и во всем другом, на уже достигнутые успехи, на могучий арсенал современных средств науки и техники. Да, пока ты мечтаешь о рыбе, «пред» не сидит сложа руки.
Он ходит из угла в угол по почте, обминает кулаки, похрустывая суставами, а Кузя Второй разыскивает уже по четвертому телефону начальника промысловой разведки и наконец ловит его на аэродроме. Илья Захарыч заходит в кабину, притягивает за собой дверь поплотнее, чтобы его никто не слышал (оттого он и из кабинета удрал), хватает трубку, и теперь его слышат только Филипп Андреич и Кузя Второй, который обеспечивает надежность связи.
Поначалу Илья Захарыч спрашивает у начальника разведки, как здоровье.
– Что? Здоровье? – летит в ответ удивленный голос. – Нормально.
– Хорошо, – говорит Илья Захарыч, как будто его это волновало неделю или как будто начальник разведки вчера вышел из больницы после инфаркта.
Хорошо-то хорошо, но облегчения Илья Захарыч не чувствует и поэтому повторяет:
– Это очень хорошо… Желаю, чтобы всегда так было.
– Спасибо, – коротко отвечает Филипп Андреич. Голос у него торопливый, словно он стоит на горячем.
– Значит, вы сейчас на аэродроме? – спрашивает Илья Захарыч, не жалея колхозных денег на телефонную дипломатию.
– Я? Да.
– Дела, заботы…
– Что?
– Я говорю, все в делах, в заботах?
Тогда начальник разведки не выдерживает и кричит:
– Горбов! У тебя ко мне какая просьба? Ты давай не финти. Я тут провожу практические занятия с летным составом, а ты мне баки забиваешь.
Горбов унизительно громко смеется.
– Что? – кричит Филипп Андреич, не разобравшись, и дует в трубку, потому что расстояние, наверно, превращает смех в перещелк, как будто дятел стучит по мембране, а тут еще сам Горбов превращает свой смех в кашель. – Алло!
– Алло, алло! – испуганно кричит и Горбов сквозь шум, наделанный им. – Филипп Андреич!
– Слушаю.
– Филипп Андреич!
– Переходи к делу.
– Филипп Андреич!
– Ну?
– Подними в небо Саенко, Филипп Андреич.
– Зачем? – сразу прорывается очень ясный голос.
– Да, понимаешь, какая закавыка. Это не для нас. Для кино.
– Какое кино? Эй, эй! Алло!
Связь прерывается, и Кузя Второй долго вызывает городскую телефонистку, потом аэродромный коммутатор, а те рвутся к нему навстречу, чтобы пасть замертво и уступить место тем, ради кого они старались.
– Говорите.
– Говорите.
– Какое кино? – кричит начальник разведки. Хитрый Горбов объясняет, что он вовсе ни при чем, что все – киношники и что они снимут и самолет, а это для разведки тоже не последнее дело. Теперь задумывается Филипп Андреич и спрашивает:
– Ну, а как ты там вообще-то поживаешь, Горбов? Кряхтишь?
– Дашь самолет? – спрашивает Горбов.
– Давно тебя не видел.
– Все мои суда с утра в море.
– Вот черт! – вздыхает где-то в воздушной глубине Филипп Андреич. – Тебе ведь нужен Саенко, который всех твоих знает… район знает…
– Для кино это особого значения не имеет, пилота все равно видать не будет, только самолет, – осторожно отвечает наш поднаторевший «пред», – но вообще-то лучше Саенко. Всегда вместе.
– Ну да…
– Ну да…
– А он болен! – сообщает Филипп Андреич. – Понимаешь, какая ерунда. У него зуб болит. Отпустили вырывать.
– Ай-яй-яй! – отчаивается наш «пред».
– Позвони ему домой, Горбов, – советует Филипп Андреич.
Видно, ловчит по-своему. Вышли самолет, а вдруг нагорит? Не вышли, а вдруг тоже нагорит? Кино! Слово о разведке. Жаль зевнуть. На семь бед – один ответ: Саенко болен.
– Ты позвони. Может, он уже в порядке.
Сколько таких начальников, что пускают дело по воле волн!
– Алло, пожалуйста! – влезает в разговор Кузя Второй. – Сообщите телефон Саенко.
– Молодец, Кузя, – хвалит его потом Илья Захарыч, высунув голову из кабины. – Хоть и Второй, а молодец. Вызывай!
И он по-доброму улыбается, и Кузя видит, что только череп у него блестящий и крепкий, а лицо все морщится и съеживается при улыбке, мягкое, старческое лицо. И вот уже мычит в трубку голос Саенко:
– Ммм…
– Саенко?
– У! О! – стонет знакомый тенорок Вити.
– Зуб? – спрашивает Горбов.
– Ага.
– Не вырвал?
– О! У!
– Что ж ты? Тебя ж с утра отпустили.
– Хожу весь перемотанный.
– Чем?
– Полотенцем.
– А шалфей не пробовал? А-ха-ха! – опять отчаивается Горбов. – Всегда лучше сразу рвать. По себе знаю. Вырвал бы ты вчера…
– Ммм… А что такое?
– Витя, – умоляет Горбов, будто в ногах валяется. – Витя! Как отец сына… Как рыбак летчика… Лететь надо.
– Куда к черту лететь? Кому надо?
– Кино, Витя, кино, – шепотом повторяет Горбов. – Ребята плавают. Выручай. А то…
Он рассказывает все сначала и находит очень убедительные слова, беспокоясь о престиже промысловой разведки. Кто показывает рыбу? Авиаразведчики. Почему нет рыбы? Не показали.
Саенко перестает мычать, он долго и звучно дышит и наконец цедит со стоном:
– Ну, раз для кино…
Чувствуется кроме всего, что он очень боится рвать зуб, что нет у нас лучше товарища, чем Витя Саенко, но еще чувствуется, что кино – магическое слово.
– Витя! – успевает крикнуть Кузя Второй. – Намочи ватку одеколоном и засунь в ухо.
– Какое ухо?
– С той стороны, где зуб болит.
Горбов выходит из кабины взопревший и жалкий. Он делает Кузе то ли благодарственное, то ли предупреждающее, во всяком случае выразительное движение бровями, и сутулая спина его проплывает за окном. А Кузя Второй и понимает Горбова, и стыдится за него, и думает, насколько легче организовать славу, когда у тебя власть в руках. Подчиняйся Илье Захарычу Филипп Андреич, тот бы приказал: послать в небо самолет, а болен Саенко – сам лети. И все. А Илья Захарыч как просил!.. А он, Кузя Второй, что мог бы конкретно сделать, пожелай он нацелить на свою скромную персону кинообъектив? Ноль целых ноль десятых он бы мог сделать. И ему вдруг это нравится. Потому что если когда-нибудь к нему, Кузе, придет человеческая слава, то она будет настоящей. А нет так нет.
7
Море звонко блестит. Как кусок льда. Солнечные пыланья его не плавят, не дробятся, как бы сияя изнутри, создавая иллюзию полной прозрачности. И кажется, что сейнер застыл в воде, как в слитке солнца. И даже тень его сбоку, которая обычно бьется, как тряпка, сейчас не дрожит, не трепещет, не морщится. Лежит, словно вырезанная из черной бумаги и приклеенная.
Мир остается неправдашним.
Но по трапу, с капитанского мостика, спускается живой бригадир дядя Миша Бурый, и на его квадратных скулах вздуваются желваки. Для тех, кто знает дядю Мишу, это первый предгрозовой признак. Дядя Миша самый лучший бригадир Аютинского колхоза и самый тихий человек нашего поселка. До поры до времени. В тихом дяде Мише громы водятся.
Он заглядывает в радиорубку, где радистка Зиночка слушает музыкальную программу. То ли чтобы и ее поласкало солнышко, то ли чтобы и о ней не забыли кинематографисты, дверь рубки Зиночка держит нараспашку.
– Ну, что интересного в мире? – неожиданно спрашивает дядя Миша.
– Американцы бомбят Вьетнам, – скинув наушники, быстро отвечает Зиночка.
– Паразиты, – говорит дядя Миша.
Больше всего на свете дядя Миша ненавидит паразитов, оттого еще ему так неймется в этот день.
– Кто-нибудь нашел рыбу? – спрашивает он Зиночку.
– Нет.
Многословие дяди Миши пугает ее: это тоже плохой признак.
В наушниках бубнит твист, и дядя Миша строго тычет в них пальцем:
– Ты джазики себе не играй. Ты следи. Может, где найдут рыбу – отвезем этих…
И не успевает он отойти, как Зиночка щелкает тумблерами рации, перед которой она сидит навытяжку, и звонким голоском начинает вколачивать в эфир позывные:
– Я – «Нырок», я – «Нырок», я – «Нырок»!
Голос у нее высокий, слова стреляют, вот-вот пробьют чужие мембраны. Когда дядя Миша взял ее после курсов, и Витя Саенко, летая в своем небе, первый раз услышал бойкую девушку, он удивился:
– Ого! Это кто?
– Зина.
– Какая Зина?
– Звонкая и тонкая, – помог Зиночке какой-то невидимый шутник.
– И долгая, – представил ее кто-то из своих.
– И прозрачная, – добавил Саенко.
– Почему это я прозрачная? – обиделась Зиночка.
– Кричишь здорово, а где – не видно. Дух!
Ах, сейчас бы Саенко! Зиночка безнадежно вздыхает, а в это время ей отвечает сонный, с зевотцей, с хрипотцой, словно мембрана лопнула, другой радист:
– Я – «Ястреб», я – «Ястреб».
– Марконя! – обрадованно вопит Зиночка. – У вас есть рыба?
– На Марконю не отвечаю.
– А рыба есть?
Но радист «Ястреба», неудавшийся ростом, крепкий, кругленький сбитень, прирожденный знаток и любитель своей техники, непревзойденный мастер по кличке «Марконя», раз, два – щелкает вдалеке и испаряется.
А Зиночка визгливо кается:
– Не сердись, Марконечка! Где ловите?
– В море, – неожиданно отвечает Марконя.
– Нет, правда? Мы пустые гуляем. Дядя Миша очень злой. Дайте рыбки.
– Сначала объяви всем-всем промысловым судам: прошу у Маркони прощения за Марконю, – требует Марконя, и Зиночка понимает, что он валяет дурака.
Припав к потертому лееру животом, смотрит в зеленую толщу воды с чужого сейнера грустный жених Кирюха.
К теплой поверхности воды поднимаются медузы. Их много, и какие они разные… Эта как гигантская пуговица с четырьмя дырками в середине. А та как брюква с ботвой. А та как пробка от графина. А вон та – усатая. Выплыли к солнышку, на совещание.
Стараясь отвлечься от своих тяжких мыслей, Кирюха рассматривает медуз. Дядя Миша останавливается около него, кладет локти на леер и тоже смотрит на воду. Нет, не смотрит, он закрыл глаза, как больной. И роняет:
– Черный день.
– А меня зачем взяли? Разве дело? Клянусь – не дело.
– Втянули, сделали паразитом, – ворчит дядя Миша и уходит в поисках спокойного места.
На корме сидит Ван Ваныч в окружении рыбаков и популярно рассказывает, как снимаются кинотрюки.
– Еще давайте, – просят его, когда он приостанавливается.
– А можно спросить?
– Спрашивайте, мне не жалко, – душевно разрешает Ван Ваныч.
– А жена у вас красивая?
– Душа у нее золотая, – отвечает, помолчав, Ван Ваныч.
– Я думал, она киноактриса. Нет?
Но тут Ван Ваныч видит дядю Мишу и вместо ответа кричит:
– Где же рыба, товарищ Бурый? Море есть, а рыбы нет?
– Без самолета мы как пешие, – выдавливает из себя дядя Миша и снова ползет на мостик, где его ждут режиссер и оператор.
– Дядя Миша, дядя Миша, – ребячески встречает его Алик и сует бинокль, в который следил за морем. – Чайки, чайки!
Бинокль не достает до глаз дяди Миши, потому что Алик забыл снять со своей шеи ремешок. Он выпутывается, и дядя Миша смотрит, как вдали садятся на воду крупные белые мартыны. Алик нетерпеливо дышит:
– А?
– Это не рыба.
– Зачем же они садятся?
– Отдохнуть. Когда рыба, они падают за ней камнем. Как коршуны на цыплят. И пищат – на все море.
– Одна упала как камень. Я сам видел!
Дяде Мише хочется трахнуть Алика биноклем по голове. И точка. Но он сам рассказал гостям о разных приметах, по которым рыбак находит рыбу, и приходится терпеть.
– Рыбы нет.
– Слышишь, Симочка? – возмущается Алик.
– Амба.
– Я вас все же попрошу кинуть сеть, – приказывает Алик.
– Куда? Почему? – не понимает дядя Миша.
– Скалы. Вы видите, какой фон? Скажи, Сима.
– Слов нет.
Скалы проплывающего поодаль пустынного берега так дики, как до цивилизации. На них ни столба, ни дома, ни дерева. Они воздушней облаков. И белы, как из пены.
– Эти скалы мы должны снять! – командует Алик, и Сима расчехляет свою аппаратуру.
– Да рыбы ж нету! – наклоняясь и приближая к Алику свое кирпичное лицо, смеется бригадир.
– А могла она быть? Принципиально.
– Принципиально тут место рыбное. Тут ловят.
– Вы лично ловили?
– Не раз.
– Ну вот! – И Алик обрадованно хлопает дядю Мишу по плечу. – Мы смонтируем. Не пугайтесь. Монтаж выручит.
– Какой монтаж?
– Здесь кидаете сеть – мы снимаем. В другом месте ловите рыбу – мы снимаем. Клеим все в один эпизод, в результате получается что надо.
– Вы мне приклеите, – еще больше мрачнеет дядя Миша.
– Фантастика! – восклицает Алик. – Это же обычное дело! Наше дело.
– Если б вы снимали фантастическую фильму.
– Слушайте еще раз…
Алик впивается обеими руками в дядю Мишу и не отпускает его, пока не убеждает, что кино и не такие номера откалывало. Скажем – снимают оратора отдельно, зал отдельно, склеивают вместе, получается собрание. С парашютом прыгает один, на земле встречают другого, склеивают вместе – получается герой после затяжного прыжка.
Ну, в самом деле, не прыгать же победителю второй раз специально для кино, когда нужного эффекта достигает простая вещь – монтаж.
Дядя Миша, у которого сначала голова пошла кругом, а потом на многое открылись глаза, сдался и махнул рукой:
– На баркасы!
Первый раз он кидал сеть в пустое море, зная, что ничего не вытянет, кроме медуз, но все не зря палубу топтать… Глупо мучились, обливались, выпрастывали из невода медузье «сало», и только довольный Алик сказал:
– Ну и фончик сняли!
– Красота, – сказал и Сима.
А Ван Ваныч прибавил:
– Теперь осталось рыбу поймать!
Но рыба как провалилась.
К «Нырку» приближаются другие сейнеры, и оттуда кричат в рупоры и просто так, трубкой приложив ладони ко рту:
– Много взяли?
– Вся наша.
– Хвостик видели?
– Зачем кидали? Эй!
– Для фона! – орет Кирюха, хохоча до слез. – Фо-она!
– Чего-о?
Дядя Миша спрятался в своей каюте, где стрелка кренометра прилипла к нулю, закрыл дверь, но дверь тонкая, и ему слышны и веселая перекличка, и смех, вся эта шумиха.
– А где Бурый?
Нет, прятаться стыдно. Он выходит на палубу и шагает к трапу, но походка у него уже другая, не такая уверенная, и ноги чуть-чуть дрожат в коленях, когда он поднимается на мостик.
– Полный вперед! – приложив губы к раструбу голосового телеграфа, командует отсюда дядя Миша тихо, но зычно, и «Нырок» взбивает за собой снежный ком воды.
– Куда спешите? – заинтересованно кричат с соседнего сейнера.
И дядя Миша, подперев ладонью собственный голос, неожиданно отвечает на все море:
– Америку догоняем!
И снова тянется день, который сам себе очень нравится и никак не хочет кончаться.
Ван Ваныч заходит к Зиночке и просит связать его с берегом.
– У аппарата Кайранский, – доносится голос Гены. – Как успехи?
Ван Ваныч сдержанно объясняет ему ситуацию и спрашивает, что снимать. Гена молчит минутку, а Ван Ваныч срывается:
– Кайранский!
– Дайте подумать, – усмехается Гена. – Я только Гена, а не гений.
Подумав, он предлагает снять несколько сценок культурного досуга.
– Алло! – вибрирует в трубке его голос. – Посадите за шахматы жениха и бригадира. Это сюжетная деталь.
Предложение нравится Алику, и он сгоняет с трюмной крышки отсталых рыбаков, которые так заколачивают «козла», что в соседних морях русалки вздрагивают, и высыпает на сухие доски шахматные фигуры: у механика нашлись, к счастью. Механик с «Нырка» ездил даже, оказывается, на районный турнир.
– Прекрасно, прекрасно, – говорит Ван Ваныч, подражая Горбову.
Алик сам расставляет фигуры, но… выяснилось, что ни Кирюха, ни дядя Миша ни разу в жизни в шахматы не играли, а дядя Миша, тот просто и понятия не имеет, куда что двигать.
– Дайте слово, что вы научите играть бригадира, чтобы не было липы, – налетает Алик на механика. – Даете? Ну вот… А вам стыдно, дядя Миша. Сели. Для кино хватит всего два хода. Пешку на две клетки вперед. Потом конь… Вот так. По букве «г». И думайте. Думать можно сколько угодно. Сели.
– А мне все равно! – говорит Кирюха, тоже садится к доске и делает первый ход пешкой, будто ставит печать в центр доски.
Рыбаки сгрудились за их спинами, как любители. (Это называется постановка кадра.) Дядя Миша долго думает. Трещит аппарат.
– Ваш ход! – напоминает Алик.
Но дядя Миша все думает. Желваки на его скулах вздулись булыжниками и катаются. Он берет доску за углы, встает, подносит к лееру и ссыпает фигуры в воду. Они медленно опускаются в подводное царство – пешки, офицеры, королевы и короли.
Сима прижимает свой аппарат к груди и смиренно спрашивает Алика:
– На что фокус наводить?
И тут… тут выпрыгивает из радиорубки Зиночка, долгая и тонкая, как антенна, счастливая, точно ее поцеловали, и звонко выпаливает:
– Саенко в небе!
8
Самолета еще не видно, но все уже говорят с ним по радио. «Гогочут, как гуси», по выражению Горбова. Он на всякий шум говорит: «Как гуси».
– Витя, Витя!
– Дай рыбу!
– Витя! Рыбу!
А где он ее возьмет? Он только мычит в ответ что-то невнятное.
Еще час, и ясный шар солнца уже так низко, что его закрывает силуэт одиноко проходящего вдали сейнера. Это «Ястреб». Ничего и ему не дал Саенко.
Сашка все еще стоит на капитанском мостике. Он закрывает глаза и видит Тоню. А когда открывает – перед ним темнеющая вода. Море густеет.
Гул самолета возникает за спиной, и Сашка оглядывается. Поначалу ему хочется рвануться к трапу, ему кажется, что Витя Саенко летит с вестью о найденной рыбе. Но будь это так, Марконя уже прибежал бы на мостик с радиограммой.
И Сашка трет кулаками глаза и опять смотрит в небо и слабо машет знакомому и незнакомому Вите рукой.
Маленький самолет приближается, покачиваясь с крыла на крыло. Что бы это значило? Сашка перестает вертеть вскинутой рукой и видит, как летчик отодвигает прозрачный колпак, тоже вытягивает из кабины руку и тоже машет ею. Прощается? Нет, он снижается и делает круг над сейнером, он так близко, что виден тросик антенны, – малиновый в закатном луче, и вдруг от руки Саенко отделяется что-то и летит вниз. Вымпел! Саенко выглядывает из кабины, свесив голову набок, и голова его наполовину перетянута чем-то белым. Как у раненого.
Но рассмотреть Сашка не успевает, глаза его поймали и держат красную черточку вымпела на воде, а самолет уходит, гул мотора тише и тише. Сашка и не знает, что Саенко спешит к зубному врачу.
Ведром на длинной веревке, которым черпают из-за борта воду, чтобы драить палубу, он подхватывает вымпел с первого взмаха. Удачно! В красном поплавке – записка.
«У Синих камушков рыба, – читает Сашка. – Подошел большой косяк судов на десять. Зови всех. У меня отказала рация. Привет. Саенко».
Он читает раз, второй, третий. Вот и все. Так коротко и так много сказано. Есть рыба! Самолета уже не видно. Надо бежать в рубку и торопить все промысловые суда в квадраты 502–506, к Синим камушкам, как ласково зовут их меж собой рыбаки, потому что вокруг них вода всегда самая синяя, неправдоподобно синяя, – может, так тени падают, когда солнце бьет сбоку, что вода светится искристой синевой, а сами камни, разной высоты, пористые, щербатые, сами камни рыжие и серые в разное время дня. Сашка от этих камушков далеко и первым туда не придет.
В рубке Марконя дремлет, положив голову на рацию. Рация – штука жесткая, металлический ящик, и Марконя подсунул под щеку ладошку. Волосы у него на голове торчат ежиком, а глаза, даже закрытые, чуть-чуть навыкате.
– Очнись! – толкает его Сашка.
Марконя вздрагивает, прокашливается и сейчас же начинает кричать:
– Я – «Ястреб», я – «Ястреб». Саенко, ответь «Ястребу», Саенко, ответь Марконе, – унижается он. – Марконя слушает. Вот черт! Молчит! Все время молчит!
И вопросительно смотрит на Сашку своими телячьими глазами. До чего же у него добрые глаза!
А Сашка делает шаг – на палубу. Почему он не сказал Марконе о вымпеле? Почему не велел немедля выйти на связь с другими сейнерами? Он тихонько огибает всю палубную надстройку и останавливается у рулевой. Там стоит штурвальный Кузя Первый и косит глазами в журнал «Огонек», развернутый и приставленный перед ним к стеклу. Он не видит бригадира.
– Читаем? – хлестким голосом спрашивает его Сашка.
Кузя Первый поворачивается на голос.
– Нет. Картинки смотрим. Только.
На губах у него крошки. Мало того, что он любуется картинками, он еще и перекусывает.
– Пирожка домашнего хочешь?
– Кузя, – обрывает его Сашка, – Кузя, когда это кончится? Еще раз увижу, спишу на берег, хоть ты и Первый. Сиди в библиотеке и трескай бублики!
В самом деле – как несправедливо все еще устроено на планете! Такой флегматичный, неповоротливый, ненаблюдательный парень, ну просто баба, поперек себя шире, крутит штурвал и мечтает о пирожках, если мать забыла сунуть ему в робу сверток, как детсадовцу, а темпераментный, не будем говорить о нем других слов, братишка Кузя Второй задыхается на почте только потому, что он Второй.
– К Синим камушкам! – командует Сашка.
– Рыба? – оживает Кузя Первый и, накручивая колесо штурвала, кладет «Ястреб» вправо, пока Сашка сдавленно посылает дальнейшую команду в машинное отделение:
– Полный вперед. Рокочет море за «Ястребом».
А Сашка идет по палубе и вдруг замечает, что палуба пуста. Ни души. Повернув надраенную медную рукоять, он толкает плечом узкую дверь и свешивается с трапа в кубрик. Спят ребята. Утомились от безделья и дрыхнут. Отсыпаются наперед. Висит на столбе, подпирающем нары, гитара и чуть покачивается оттого, что «Ястреб» набирает ход.
Над палубой зашевелился воздух. Как разбуженный, «Ястреб» просит скорости. Прислонившись спиной к белой стенке, Сашка соображает, что никто не видел, как он подобрал вымпел. Никто. Ну и что из этого? Зачем он спрашивает себя об этом? Зачем?
Еще никогда Саенко не проверял, как взяли показанную им рыбу. Показал – улетел, что ему, кто и как погрузился. Всех не расспросишь… Конечно, сейчас кино… Но он уже у аэродрома. Его снимать не будут. Да и Сашка сниматься не хочет. Рыбу привезти, когда другие придут пустыми. Чтобы Тоня ахнула. Всех удивить. А там – снимут не снимут! «Вот так мы и живем, рыбаки из маленького поселка Аю».
Сашка растирает ладонью лоб. «Ты не можешь этого сделать», – говорит он себе, но уже понимает, что сделает. Лоб мокрый.
Не сломайся рация у Вити, сейчас бы с разных сторон бежали к Синим камушкам все аютинские суда. Там рыба. А сколько? Может, ее там не на десять, а на один сейнер. Может, Витя ошибся? При чем тут Витя?
«Да не подбирал я никакого вымпела! – уговаривает себя Сашка. – А к Синим камушкам пошел, потому что мало ли куда гонит надежда. Сам пошел».
А позвал бы его старый бригадир Михаил Бурый, у которого прохлаждаются эти киношники и который забрал к себе Кирюху? Ведь забрал! В горле у Сашки подсыхает, словно туда забился жаркий ветерок. Голова кружится, как у пьяного, от мысли, что он может прийти на «Ястребе», заваленном рыбой, когда сам дядя Миша воротится налегке. Со своими киношниками. И с Кирюхой.
«Ступай в радиорубку, – толкает себя Сашка. – Не выкручивайся. Без фиглей-миглей. Вымпел ты подобрал, подлец».
А прийти к берегу он может так…
Замерцает впереди пригоршня аютинских огней. Ударится бортом о причал тяжелый «Ястреб». А он, Сашка, не сможет сдвинуться с места, потому что будет по колено завален рыбой. Если забили трюм под крышку, рыбу сыплют прямо на палубу, вокруг бригадира, так что ему уж потом ни шагнуть, ни выбраться без посторонней помощи невозможно. Завидный старый обычай.
Сашкина рука немеет от предчувствия рукопожатий. Да, сейчас они бросят невод и возьмут много рыбы. И, заломив кепку и лихо сверкнув глазами, он крикнет:
– Вали на палубу!
Мать наденет белую блузку, белую косынку на седые поредевшие волосы и пойдет в кино смотреть, как ее сыночка встречает все Аю. Ведь будут встречать… Так придумал этот, сценарист, который укачивается, несчастный.
Девчата станут завидовать Тоне. Хорошо. Раз завидуют, значит, она счастливая.
– Эй, невесты! – крикнет он им, когда «Ястреб» стукнется о причал. – Принимайте рыбу. Освобождайте. Умру!
Пока не затемнели вдалеке Синие камни, Сашка все думал, как же это будет.
Но пришел он гораздо лучше.
Глубоко осев в воду, «Ястреб» устало подползал к аютинскому причалу, перерезая бухту наискосок и оставив в стороне силуэты виновато дремлющих на рейде пустых кораблей. Низкой точкой летел над гладким морем огонек на мачте «Ястреба», как птенец, отбившийся от стаи береговых огней. Он нашел их и возвращался.
Ребята здорово накричались и охрипли у Синих камней, выгребая рыбу, но так всех распирало от гордости, от веры в Сашку, от молодости, что они вдохновенно срывали уже надорванные глотки:
Ходили с аломаном мы
В далекие места.
Пылала южной полночью
Хрустальная хамса,
Путями океанскими
Прошли мы целый свет,
Но лучше берегов родных
Нигде на свете нет!
Вот и причал длинной лентой вытягивается навстречу. Ближе, ближе. Приглушив мотор, «Ястреб» стукается и скребет по краю трепаными кранцами. (Это такие толстые чурки или старые автопокрышки, навешанные по бортам для смягчения удара, для здоровья и долговечности корабля.) Все на свете забыв, Сашка улыбается. Сколько ни ходит рыбак по морю, как ни любит море, а домой вернуться – всегда праздник. Сашка не может пошевелиться. Рыбой забиты и трюм, и пожарные ведра, и даже две спасательные шлюпки, притороченные к бортам за кормой на уровне планшира. А самого бригадира она завалила со всех сторон. Сашка чувствует ногами ее тяжесть сквозь мягкие сапоги, серебряно посивелые от чешуи. И видит при свете причальных прожекторов, как по всей палубе бегут, сочась, мутные от жира ручейки.
– А рыба, гляди – рыба какая, – раздается гордый голос Ильи Захарыча. – Царица!
А там, где сгрудились возле бочек девчата, стоит Тоня. Жаль, Сашка не видит, как она сцепила руки перед грудью, ладошка к ладошке, словно певица (я помню, когда у нас в клубе выступала филармония), и сладко протянула:
– Нет, вы гляньте… Гля-аньте, девочки! Мой Сашка… А?
От восторга она не отдавала себе отчета в том, что говорит вслух, а девочки все слышали. Ее Сашка! Пожалуйста! Ну и ну!
9
Гена Кайранский этот день провел в грустных размышлениях о том, как ему что-то надоело, а чего-то хочется. И поскольку вездесущий Кузя Второй в обеденный перерыв случайно оказался на пороге правленческой комнаты, где стояла рация, где размещался, можно сказать, колхозный штаб, ему, Кузе, и довелось услышать эти размышления.
– Что у вас есть, Кузя?
– У нас есть сдвиги.
– А еще?
– Есть, конечно, и недостатки…
– Написать бы такое, чего вы сами о себе не знаете!
Кузе было интересно слушать.
– А как это вы пишете? – спросил он. – Непонятная работа.
– Старик! – ответил ему Гена. – Разве это работа? Унылая служба!.. Есть задание, что снимать, а что не снимать, а художник только оживляет сюжет. Угости сигаретой.
Кузя видел, что Кайранский дымит все время, стреляя сигареты из чужих пачек, поэтому он успел заскочить в рыбкооп и не пожалел двугривенный на «Прибой».
– А вы художник? – спросил он Кайранского, распечатывая и протягивая пачку. – Как считать?
– Какой я художник? – философски улыбнулся Гена Кайранский. – Этот вопрос, старик, решаем не я, не ты, а время. Уж оно разберется.
В общем-то он был славный парень, даже скромный. И Кузя спросил еще:
– А что можно почитать из вашего творчества? Скажите, я достану.
– Не скажу, старик, – чистосердечно ответил Гена, – потому что нечего мне сказать.
– А в чем же разбираться? – так же простодушно высказался Кузя Второй и сочувственно заморгал своими ребяческими глазами в пшеничных, откровенно сказать, рыжеватых, просто рыжих ресницах.
– Да, брат. Да, старик, – согласился Гена. – Ты попал в самую точку. Живешь и забываешь, что время горит, как солома. Все временно… А дальше что? Должно же быть что-то настоящее дальше? Или поездишь, поглядишь, попишешь и уйдешь без следа?