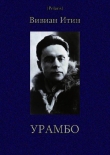Текст книги "Избранные произведения в 2 томах. Том 2"
Автор книги: Дмитрий Холендро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Мирошников молчал.
– Ну вот… Без меня ведь соображаешь, а спрашиваешь… Как же их знать и любить, если нынче тут Маня, а завтра Таня? Ты мудрей меня, научи! Или пусть этот писатель научит. Пшеничку хорошо скопом поднимать, машинами! Я степняк, хлебороб. Знаю пшеницу. Но коров и у нас к дояркам приписывали, чтобы доярки характер их помнили, не путали.
– При чем тут коровы?
Иван Васильевич присел к столу, взялся за кисет, но отложил.
– А при том, – сказал он, вглядываясь в глаза Мирошникова. – Мне Колёскин говорил, Егорыч. – Да, конечно, Колёскин была фамилия профессора, а Сосин называл его, как друга, Егорычем. – Егорыч мне говорил: «Раздаивайте лозу!» Это, тезка, научный термин, между прочим, – «раздаивать». Ученый человек говорил: через тройку лет она вам вместо корзины полтонны отборных ягод вывесит. А как, опять я тебя спрашиваю, ты будешь «раздаивать», если не кумекаешь, какая она, что ей делали, с какого бока к ней подойти? Вслепую?
Мирошников вытащил из кармана газету, затряс шуршащим листом, разворачивая, и наконец прочитал:
– «Здесь работают на колхозной земле, как на своей».
А Иван Васильевич вдруг расхохотался в голос, неудержимо, и хохотал, пока не закашлялся.
– Хорошая цитата. Ее при въезде в колхоз на арке повесить не стыдно. Гордись, да и только.
В самом деле, великие слова, мечта, но тогда грызло его изнутри честное, можно сказать, сомнение. Спорили, искали, и сказал он Ивану Васильевичу:
– Слушай! Предъявляют серьезное обвинение! – Чуть было не вырвалось – тебе, но это было бы предательством, перед своей затеей Иван Васильевич ничего от него не прятал, во всем советовался. – «Собственники»! Читал ведь? Не отшучивайся!
Но Иван Васильевич опять усмехнулся.
– Видел живых собственников? Они за свое зубами держались… А наши-то «собственники» стараются для всех.
– Но, видно, есть в нашем опыте что-то такое!
– Есть, – ответил Иван Васильевич. – Одна разумность. Больше ничего.
– Что будешь отвечать на статью?
– За меня сама земля ответит.
– Эх, брат, – вздохнул тогда Мирошников. – Хочешь молчать и ждать?
– Цыплят по осени считают, тезка.
– Так до осени далеко.
– Твоими бы устами мед пить, – еще раз усмехнулся Иван Васильевич, но теперь устало. – А мне кажется, осень – вот она. Дела много, а дней не хватает.
– А что у людей в душе? – спросил Мирошников.
– Сам узнай. – Иван Васильевич опять посмотрел ему в глаза. – Спроси, не бойся, тезка. Боишься?
Не стал говорить с людьми Мирошников, наутро оглядел из «газика» густые сады и виноградники и укатил с Сосинским вопросом: «Боишься?»
А чего он боялся? Спрашивал себя об этом Мирошников, стоя перед могилой Ивана Васильевича… Если бы сейчас пережить все сначала, конечно, не так было бы… Горько думать взрослому человеку – если бы…
Море с ослепительным равнодушием сияло внизу, а когда неслышно и почти незримо плывущее облако загораживало солнце, казалось совсем седым, будто тоже постарело.
Мирошников оглянулся. Дома птичьей стаей обсели ближний склон. Многие из них спрятала зелень – разрослась. Ставили когда-то новые дома на пустых клочках, сажали возле них прутики, а теперь из прутиков вымахали тополя. Ветерок проникал в кроны деревьев, шевелил листву, и она трепетала, поворачиваясь изнанкой, тоже седой…
Вышло солнце и все облило свежей яркостью. Тополиная листва словно помолодела.
Было тихо. Было так хорошо вокруг, что Мирошников удивился этому внезапному ощущению. Смешно признаться, но за годы, прожитые здесь, за добрую треть жизни он вот так ни разу и не поразился здешней красоте. И ходил и ездил, гонимый заботами, как незрячий. За всю жизнь у Мирошникова не было ни одного беззаботного дня…
Сама красота для него была не отдыхом, не радостью, не забвением, а деловой вещью. Красивая земля – разрыхленная, красивое дерево – с белой известкой на ноге, весь сад стоит, как в подштанниках…
О ком же он думал-то все эти годы, ничего не видя по-настоящему вокруг себя? Когда топал по этой дороге в тяжелых сапогах, когда… О себе? Не было у него дел только для себя, не было! И если он боялся, так за Сосина.
А Иван Васильевич сказал ему, казня несправедливостью:
– За себя ты боишься, тезка.
Это было уже в райисполкоме, куда Сосин приехал вскоре, потому что история замешивалась круто. Не до личных обид было, и Мирошников сказал:
– Ладно, эти слова я тебе прощаю, но ошибки твоей тебе, брат, не простят.
Обронил – твоей, нагнувшись над ящиком стола, чтобы достать газету с новой статьей. В новой статье говорилось о сознательности в труде и о том, что Сосин-де разрушает ее, подменяет необщественными интересами, – как будто обществу хорошие сады не нужны, не нужно, чтобы люди с толком растили их и выхаживали. Жирными строками были напечатаны письма двух председателей – «Мы предупреждали». О чем?
– Чего ты хочешь? – спросил Мирошников. – Говори прямо.
– Жизнь делать людям.
– От меня чего хочешь?
– Помоги отстоять, что начали. Не для себя прошу.
– Сейчас момент неподходящий.
Было это в пятьдесят первом году. Спешили поправить хозяйство, не до экспериментов. Не разобравшись, могли снять и такую голову, как у Сосина.
– Неподходящий? – переспросил Иван Васильевич.
– Время! – сказал Мирошников. – Человек, он ведь в определенном времени живет, не в вакууме…
– Так… – начал Сосин и запнулся, на лице его появилось упорное выражение, с которым не могла сладить даже смертельная усталость. – Время – оно, конечно, делает человека, можно сказать. Но и человек – он тоже свое время делает…
– Это философская категория, – закуривая и ломая спички о коробок, ответил ему Мирошников, – а сейчас речь идет о тебе, о твоей судьбе, Васильич.
Но Сосин словно и не слышал, думал о своем и еще только подступал к главному:
– Момент… Подходящий момент выбирают подлецы. А честный человек за дело должен бороться всегда.
– И подлеца тебе прощаю, – с усилием ухмыльнулся Мирошников. – Стерплю. Потерпи и ты. Завтра развернем твое начинание…
– Завтра, послезавтра, – с насмешкой ответил Сосин, клонясь набок, к подлокотнику кресла. – Сегодня!
– Снимут тебя с колхоза.
– Так я сам уйду, если начатое сломаете… Кем я сделаюсь перед людьми? Перед тобой кем я сделаюсь, скажи и ты прямо? Как быть? Посоветуй, друг!
– Покайся, пока не поздно, – откровенно посоветовал ему Мирошников. – Скажи, ну, проглядели, мол… Люди подсказали…
Иван Васильевич качнул головой, еще ниже прижался к подлокотнику и посмеялся, глядя на Мирошникова через стол непонимающими глазами:
– Умно! Ну, я покаюсь… А деревья? Вдруг они не поймут? – Он еще сохранял способность шутить. – Сдохну я, а буду стоять на своем.
– Вот что надо, – сказал Мирошников, словно бы обрадовавшись и подавшись вперед, чтобы быть к Ивану Васильевичу поближе. – Ложись в больницу. Давно пора. А то, и правда, помрешь.
– Вытяну, – ответил Иван Васильевич. – Я стожильный!
Тогда Мирошников закричал:
– Брось ты свои шутки! О тебе беспокоюсь, тебя спасти хочу! Ну, дадут мне выговор, перенесу. А уж дать-то дадут, не пожалеют!
– А я вот как раз тебя жалею, – сказал Иван Васильевич, безотчетно и часто застучав по столу крепким на худой руке кулаком, как в дверь стучался. – Без характера ты, тезка, на поверку-то вышло. Мужик умный, голова есть. Но характер – он, может, поважнее ума иной раз! Бесхарактерный – это, можно сказать, беспартийный!
– А иной раз и на характер наступать приходится, философ. Где ж он, характер, помещается, по-твоему, если не в голове?
– Вот здесь. – Сосин постучал себя кулаком по груди. – Или где пониже, – прибавил он жестоко и без вспышки. – В пятках, например. Не подумай на какое другое место, я тебя обидеть не хочу…
Второй раз Сосин фактически назвал его трусом.
– Неужели ты не понимаешь? Стой!
Но он ушел.
Сняли Сосина. Перед заседанием Мирошников последний раз предложил ему покаяться, и помнится, как Иван Васильевич прикрыл глаза и податливо качнул головой, будто соглашаясь. Успокоил. А на исполкоме набрал побольше воздуха и заговорил такими словами, что и защищать его уж было ни к чему… Обманул, старый! После Мирошников подошел к нему и только сказал с обидой:
– Не послушался… Что теперь делать будешь?
– В больницу лягу.
– Мог бы и раньше… Что? Время появилось?
– Да нет… Доктор говорит, силенок у меня маловато, а мне их надо побольше, чем всегда.
– Драться будешь?
– Я упрямый. Ванька-встанька.
Умер Иван Васильевич на операционном столе. Хоронил его весь колхоз. Рассказывали, что люди гроб несли на плечах, меняясь, от районной больницы до той горы, на которой завещал он положить себя, словно мог видеть все сады, и виноградники, и табачные рядки, и свое село, если доктора доконают. Шутил еще, перед тем как уехать из колхоза, и не шутил… Грузовик с черной каймой на бортах тянул и побрякивал пустой сзади… Рассказывали… Мирошников на похоронах не был.
Вышло так, что и ему трудно было оставаться в районе, и он обрадовался, когда предложили поехать на учебу в столицу, и еще больше обрадовался, когда оставили работать там… А теперь вот пришел к Ивану Васильевичу… Поздно! Отдал человека… Даже могилу его нашел не сразу, спросил у одной старухи, она вздернула руку:
– Во-она где!
Вспышки на море давно успокоились и улеглись в одну остро блестящую полосу, улетавшую к горизонту. Полоса становилась короче, зацветала малиново. Солнце заходило за горы, и горы тяжелели, теряли призрачность. Где-то в селе с громовой ноты вырвалась из рупора на столбе музыка. Она разбудила птиц, передремавших жаркий день, и птицы наперебой засвистали, затенькали…
Долго же он простоял… Шофер, поди, клянет его. Пора спускаться… Может, жива «старуха»? Разыскать бы? Как она его примет? Зайти в правление? Зачем? Там другие люди, и не помнят Ивана Васильевича так, как он. Что ему скажут? Кто он им? Никто. Пенсионер столичный… Не знают его. Приехал, и хорошо…
Так думал Мирошников, спускаясь, и пока спустился, успокоился немного. Другие забыли, а он вот приехал. Часто ли тут бывают люди? А он вот побывал…
«Волга» стояла под раскидистым орехом, где днем была тень, а сейчас и прохлада, возле самой арки, на которую Мирошников, когда приехал, не обратил внимания. Дойдя до машины, он поднял глаза и увидел: «Колхоз имени Сосина». Крупно было написано, во всю арку. Вон как!
– Едем? – нетерпеливо спросил шофер, открыв дверцу. Мирошников сел и нашарил в кармане валидол, но зубы не сразу смог разжать, чтобы втиснуть таблетку.
Чужая мать
Все, что она любила, она нашла здесь. Вдоль берега зеленели сосны. Это не совсем точно – зеленели. Они были скорее голубыми в ясном воздухе, когда на небе ни облачка, а небо такое просторное, что начинаешь ощущать, насколько же оно неоглядней всей земли. Тем более что всей земли и не видно, она ограничена с одной стороны песчаными дюнами, за которыми шелестело море; и этот шелест день и ночь напоминал, что земля там обрывалась, исчезая под волнами; с другой – зубчатой полоской леса за шоссе; с третьей – домами и строениями рыбацкого поселка, старыми, об этом говорило не только то, что они были деревянные, но и то, как дерево потемнело от времени, будто его закоптили годы. Годы, которых столько сгорело на ее глазах незримо….
Жизнь ее была трудной и такой долгой, что самой не верилось. Вырастила она шестерых детей, сыновья учились на разных рабфаках, в разных институтах, воевали в разных местах – на юге и на севере, и сейчас работали на разных работах, и жили в разных городах, близких и далеких, не сразу соберешься съездить; нарожали много внуков и внучек, особенно дочери, смело подражавшие ей, и она записывала в тетрадку все дни рождений, чтобы вовремя посылать телеграммы на поздравительных бланках, а в последнее время завела страницу и для правнуков.
Дети все звали к себе, она привыкла к поездам, бескупейным вагонам, обходившимся подешевле, хлопотливым сборам и посадкам с тяжелым чемоданом и множеством раздувшихся сумок и потрескавшихся бумажных свертков, потому что если уж она ехала, то не на два-три дня, и всегда клялась решительными словами, что в следующий раз возьмет в дорогу одну-единственную сумку, но опять откуда-то набиралось вещей больше, чем было рук, всем надо было отвезти хоть маленькие подарки: кому чашку, кому вязаные варежки – еще неизвестно, понравятся ли, теперь даже малыши модничают, кому банку любимого варенья из ежевики с орехами, кому непомерную кастрюлю для хозяйства – у дочерей не хватало времени на магазины, мама купит, у мамы его хватало на все, только вот разве некогда сидеть в коридорах поликлиники…
Как-то сын прислал ей путевку в дом отдыха на юг, и там было поначалу празднично, все заботились о ней, иногда даже становилось совестно жить вот так, на готовом, и она благодарила сына в письмах, но внутри оставалось беспокойство оттого, что две девушки, с которыми она поселилась, посмеивались над ней, когда она достала из чемодана купальник; совсем что-то уж бессердечное сказали, когда она заметила в сердцах про вальс, что он красивее твиста, в вальсе кружились и словно летали, а тут знай себе топчутся, а главное, перед сном девушки усаживались на плетеный топчан на балконе и подолгу шушукались, пряча от нее какие-то свои тайны, она их стесняла, это ее мучило, она прикидывалась спящей, но засыпала позже их, боясь, что помешает им случайным вздохом или скрипом кровати.
Поделилась впечатлениями от дома отдыха со знакомой во дворе, и та поняла ее и посоветовала поехать отдохнуть в один маленький прибалтийский поселок, где можно недорого снять комнату, жить одной и быть себе чуть ли не полной хозяйкой.
Так она и попала сюда.
Ей нравился открытый песчаный берег, где никто не мешал соседу – берег был большим, а людей мало. Нравилось море – неглубокое, иди себе, иди, пока забредешь по пояс, и ласковое: волны невысокие, негромкие, нестрашные. Только раз за месяц она увидела его сердитым, в горбах и ямах. Она сидела на пустом пляже одна, покрыв свою седенькую голову косынкой, а потом опустила ее и на глаза, чтобы уберечь их от песка; уже много лет слабеющие глаза стали ее главной заботой.
– О мать! – услышала она молодой, не смеющийся, а честно восхищенный голос. – Ты морячка!
Она приподняла с глаз косынку и оглянулась. За ее спиной проходили три рыбака в брезентовых робах и высоченных сапогах. Они несли на плечах скрутки мокрых сетей, и тот, кто назвал ее морячкой – она узнала его по голосу, – приостановился и спросил:
– Хорошо тебе?
– Конечно, хорошо, – несмело ответила она. – Еще бы!
– Любишь море?
Она махнула рукой и засмеялась:
– Ой! Да я и вижу-то его второй раз! На Черном была и вот здесь, у вас.
– У нас море хорошее, – он вытащил из-под куртки пачку сигарет, почиркал спичкой и прикурил, спрятав огонек в могучих ладонях.
– Хорошее, – подтвердила она.
Он пошел за товарищами, оставляя на мокром песке следы, через несколько шагов повернул голову и крикнул:
– Где живешь, мама?
– У Мильды, – крикнула она, назвав имя хозяйки дома.
Здешние жители не очень бойко говорили по-русски, потому что поселок до недавнего времени был глухим, и она освоила несколько латышских слов, встречая по утрам свою хозяйку непременным «лабрит!» – вместо «доброго утра», и еще «лудзу» – пожалуйста и «палдиес» – спасибо. Но этот высоколобый бровастый рыбак с обветренным лицом, светлыми глазами, в которых таилась улыбка, и откровенной улыбкой на больших растянутых губах, произносил русские фразы уверенно, хоть и с акцентом. Он вскинул повыше голову.
– Я приду. Рыбу тебе принесу!
– А как тебя зовут?
– Эрик.
Ее не очень-то баловали знакомствами, и он ушел, но будто оставил свою улыбку.
Она стала ждать его вечерами, узнавать, вернулись ли рыбаки с моря, сидеть на крыльце. После шторма задождило, сыпал и сыпал густой моросящий дождь, капель не видно, а поднимешь лицо, и оно сразу становится мокрым. Большое небо сплошь затянуло словно бы одной тучей.
Она сидела на крыльце под огромным черным зонтом, заменявшим ей крышу, и слушала музыку. Рядом с ней, накрытый пластиковой клеенкой, играл маленький транзисторный приемник, подаренный младшим сыном. С сосен смыло свет большого голубого неба, и теперь они стали сочными и зелеными, вся округа позеленела, насколько хватал глаз, потому что сосны росли и во дворах, и на дюнах, схваченных их корнями и застывших вдоль берега, и дальше, где отдельные сосны скапливались в лес. Она уже ходила туда за черникой. Ей нравилось, что в лесу аккуратные дорожки, и к тому же так чисто, что они кажутся выметенными. И было в лесу не сыро, а сухо от песка.
В полдень с неба стянуло наконец тучу, ее длинный край лениво удалялся от моря, и вот уже на иглах сосен вспыхнули капли солнца. Они закололи глаза и с разноцветных лепестков флоксов и гладиолусов, с белых и красных мохнатых пучков гвоздики. Здесь любили цветы. Не скупясь, сажали их на сельском кладбище, за которым находили время смотреть, прибирая случайный сор и опавшие листья. Рассказывали, что раз в году, поздней осенью, в день поминовения усопших, на могилах всю ночь горели свечи. И это ей тоже нравилось.
– Мама!
– Эрик! Наконец-то!
Они встретились, как давние знакомые.
– Да подожди ты со своей рыбой. Заходи. Заходи в гости!
– Спасибо, мама. Как вытрем ноги? Сапоги вон, грязь. Правда?
– Ничего. Я положу тебе тряпку. Где ты пропадал?
– Где рыбак пропадает? В море. Не пропал!
– Нет, не пропал, – радовалась она. – Садись.
– А рыбу куда?
– Клади на стол.
Он уселся, табуретка под ним заскрипела и покосилась, мать постелила на стол свою клеенку с желтыми квадратиками, а он развязал внушительный узел.
– Это камбала. Вкусно жарить. Это – маленькая – салака. Тоже вкусно жарить. Еще вкусней коптить. Я тебе принесу копченую.
– Ой, куда мне? Этой хватит! Сколько тебе за нее?
Он посмотрел долгим взглядом, не переставая улыбаться.
– Зачем, мама? Я так принес. Мне денег не надо.
– Как не надо?
– Еще спросишь – я обижусь, уйду. И никогда не приду. Не надо, мама.
Она хотела сказать, что у нее есть деньги, но ничего не сказала, а вернулась из кухни с тарелкой щей. Эрик, осторожно согнувшись над ее кроватью, рассматривал фотографии с загнутыми уголками, приколотые к стене.
– Это кто? Внук это называется?
– Нет, правнук. На следующий год поеду провожать его в школу, повезу портфель.
– Ого!
– Да, большой уже.
– Хороший парень.
– Да… Красивый. Умный. Стихов знает много. Ему прочтут, а он уже запомнил, тут же повторяет.
– Ого!
– Ну а будет ли хорошим… вырастет – узнаем.
– А это, мама?
– Это мои дети.
– Все?
– Все мои. После войны съехались, снялись вместе.
– Порядок. Еще совсем молодые.
– Теперь уж нет… Садись, остынет. Любишь щи?
– Я щи люблю, – твердо сказал он и потряс в воздухе сжатым кулаком, уходя на кухню мыть руки, а когда попробовал, закрыл глаза, втянул голову в плечи и замычал от удовольствия: – Ма-ма! О-хо-хо! У нас так не умеют щи варить.
– Не хвали, а ешь. Нарочно хвалишь.
– Я – нарочно? Честное слово, нет. Честное слово, мама.
– На второе у меня только гречневая каша. Я мясом не увлекаюсь.
– С мясом у нас затруднения, – сказал Эрик, вытирая губы. – Коров держат для молока, и то не все. Мы рыбу ловим. Морской закон. Моря много, рыбы много. Давайте камбалу пожарим?
– Так ее чистить надо!
– Я помогу.
Он надел ее фартук, выбрал нож поострей и стал быстро орудовать на кухонном столе, отрезая камбале голову, косо вспарывая брюшко и выгребая оттуда внутренности. Он хорошо промыл рыбу и сложил в эмалированную миску. Она тем временем снова развела огонь в плите, накалила сковородку, налила в нее масла.
– Наше море богатое, – говорил Эрик. – Зови сюда всех детей. Рыбы хватит.
– Рыбы-то хватит, – отвечала она, – а их не дозовешься. Заняты. Некогда. А всех вместе, наверное, никогда уж и не соберу. Разъехались кто куда. И много их у меня.
– А я один живу, – сказал Эрик, все так же улыбаясь.
Она положила камбалу на сковородку и выпрямилась.
– Совсем один?
– Мать с отцом немцы расстреляли. К ней фашист приставал, офицер. Отец хотел убить его, ударил этим… как зовут? Которым капусту рубят…
– Секачкой.
– Точно. Ударил секачкой, сильно ранил… Их вместе сразу увезли, расстреляли; не знаю, где лежат… Мне тогда было два года… Меня стал дедушка растить, – снова сбился он. – Кормил, и учил, и все… Он умер, когда я в армии служил.
– Дедушка?
Эрик кивнул головой, начавшей рано лысеть со лба, оттого и лоб казался таким высоким.
– Похоронили здесь. Сестра из Риги приезжала. Дедушку закопала и дом продала. Она думала, я сюда не вернусь. А я вернулся, мама.
– Родная сестра?
– Да-да, Гуна. Близко живет, а редко приезжает. Совсем не приезжает иногда целый год. А! – Эрик махнул рукой. – Мама! Камбала подгорит!
За столом он спросил, издалека посчитав пальцем ее детей на фотографии.
– Шесть?
– Шестеро. Целых шестеро, Эрик, – улыбнулась она.
– И все целые?
– Все. Слава богу.
– А папа?
– А вот папа у них погиб.
– На фронте?
– Нет, грузы везли на фронт. Папа у них был строгий и веселый. Придешь еще, я тебе о нем расскажу, послушаешь, если будет интересно. Такие люди редко встречаются. Таких теперь не найти… Ох, как он меня ревновал! Не приведи господи! Я красивой была.
– Отдай за меня дочку, – сказал Эрик, вставая, и показал на карточке пальцем какую. – Отдашь?
– Отдала бы! Да она давно замужем. Четверо ребят. Муж хороший, можно сказать… Отдала бы на счастье! Рыбак – это ведь настоящий мужчина, а?
– Хорошо говоришь, мама. Я запомню. Свейки! Прощай!
– Ты куда сейчас?
– Спать. На эту ночь в море идем. Шторм помешал, надо план делать.
– А где ты живешь?
– Квартирант. Как дачник. Комната есть.
– Что же ты не женишься?
– Комната есть, девушки нет! Была одна – далеко. Сюда звал – не поехала, к себе звала – я не поехал.
– Значит, не любил. И она не любила. А любили – съехались бы, нашли себе место.
– Твоя правда, мама. Наверно, так. Ты умная.
– Да ну! Не про меня речь. Есть же здесь хорошие девушки?
– Одна хотела. И ее старики хотели. У них свой дом.
– Ну?
– Я не хотел. Зачем мне дом? Я себе свой дом буду строить, уже получил участок. Построю – тогда женюсь.
– Ну вот! А говоришь, денег тебе не надо!
– Надо и не надо, – сказал Эрик, надевая ладную морскую фуражку. – Я деньги не люблю. Помогут друзья-товарищи. Я сам сложу дом лучше всех. Меня дедушка учил. Приедешь через два года, пущу тебя жить. Маме будет комната бесплатно. Приедешь?
– Конечно приеду. Как же! В свою комнату! Я к тебе и на свадьбу прикачу.
– Будешь, как мама, за столом сидеть! Самая главная!
И они опять рассмеялись, легко и счастливо. Он ушел, а она все еще думала: прекрасный мальчик! И что за дурочка не поехала сюда к нему? Не умеют людей разглядывать. Нос видят: тот курносый, тот длинноносый. Модный костюм видят: этот – да, тот – нет. А Эрик – душа. Отчего так трудно сходятся люди? Каждый о себе думает, а надо бы друг о друге. Спроси ее – она не знает, есть ли другие дороги к счастью.
В сумерках, а иногда и затемно, возвращаясь с моря, Эрик часто заходил к ней, и она кормила его свежей рыбой или свежим творогом со сметаной, иногда они так засиживались, рассказывая друг другу о себе, что он засыпал за столом. Тогда она с несмелой улыбкой качала его за плечо и провожала домой, чтобы уснуть спокойной. Ранним утром под ее распахнутым окошком, бывало, слышалось:
– Ма-ма!
И когда она выглядывала, наскоро проведя рукой по голове и промаргивая заспанные, прозрачные, обесцвеченные временем, вымытые слезами глаза, он махал ей рукою, она – ему, а иногда звала:
– Эрик! – и давала с собой в море пирожки с яблоками, которыми всегда славилась среди родни и знакомых.
Как-то в воскресенье Эрик явился в белой рубахе, в галстуке, в начищенных полуботинках и даже с напомаженными, прилизанными волосами. В руках у него были белые гвоздики на длинных стеблях.
– Мама! Мы отдыхаем, – сказал он, отдавая ей цветы и галантно прищелкнув каблуками. – Поедем с тобой в Тукумс!
– Ой, Эрик! Это далеко! Это что такое?
– Нет, совсем нет! На автобусе! Наш районный центр! Верно, она же выводила в обратном адресе – Тукумского района.
– Что мы там будем делать?
– Гулять. Отдыхать. Ресторан. Универмаг.
– Да мне ничего не надо покупать. Я все привезла.
– Кино смотреть! Бери далекие очки, мама. – Я и не знаю, что на себя надеть.
– Самое красивое платье.
Она покрутила головой, поставила цветы в воду и стала осматривать свои наряды на гвоздиках в стене, приподняв ситцевую занавеску. Эрик вышел во двор, ждал терпеливо. Она выбрала платье, причесалась, набросила на шею фиолетовую косынку. Ну, вот…
Универмаг был двухэтажный, почти сплошь из стекла, в котором плавало солнце, за прилавками – пестрым-пестро от всего на свете, выбор был богатый, но больше всего ей пришлась по душе кухонная посуда, она позавидовала здешним хозяйкам и начала присматривать посуду для дочек и жен своих сыновей, но спохватилась, что здесь-то ее провожать до Риги да сажать в поезд некому, а руки всего две и обе заняты; и ушла, ничего не купив и вздыхая про себя о мясорубке.
Забыла о ней только в ресторане.
Официант почтительно подал ей раскрытое меню. Эрик сказал при этом:
– Пожалуйста, мама. Что тебе нравится?
Она посидела с минуту, держа украшенную рисунком какой-то старинной башни папку в ладонях. Ей приходилось слышать, что и сыновья с женами и дочери с мужьями редко, но все же заглядывали в рестораны по какому-нибудь уж очень праздничному случаю. Мужчины сами хаживали чаще, в дни больших получек. Им даже в голову не приходило пригласить с собой бабушку и сидеть с ней вдвоем. Ей самой стало бы смешно, случись такое… Она долго не могла выбрать кушанья, да и не разбирала слов…
– Выбирай сам, Эрик, что хочешь. Я же не взяла близких очков.
– Я тебе прочитаю.
Официант принес и поставил на стол высокую вазу с гладиолусами… После обеда Эрик снова пощелкал по пачке, выбил сигарету.
– Покурим, чтобы на улице не пускать дым около тебя.
– Очень много ты куришь, Эрик.
– Знаю.
– Зачем?
Эрик пожал плечами.
– Зачем-зачем!
– Это вредно.
– Знаю.
– Вот и не кури. Здоровей будешь.
– Знаю.
Он улыбался и мял огромными пальцами тоненькую сигарету.
– Ну, кури!
В ресторане скромно звучала музыка. Не оркестр. То ли по радио, то ли заводили пластинки.
– Спасибо, Эрик, – сказала она, вставая.
– Э, мама! За что?
– Палдиес, – повторила она.
– Лудзу.
– Куда мы теперь?
– В кино.
– Ох, разоришься со мной!
– Что ты, мама! Как можно? Я богаче всех. У меня есть ты.
Эрик подождал, пока она поправит соломенную шляпку с фиолетовой ленточкой – она сама прикрепила ленточку, когда собиралась ехать к морю, отрезав от косынки полоску шелка, – и взял под руку.
– Ты – моя королева.
– Ой, Эрик! Мне ведь восьмой десяток.
Он погрозил ей пальцем.
– Не обманывай, мама. Это неправда.
– Правда, Эрик.
– Но этого никто не знает. Только ты. А я не знаю. Не слышал. Ты еще самая молодая и красивая…
– Ну конечно!
– Я бы с тобой пошел танцевать.
– А что бы мы с тобой танцевали?
– Вальс!
– Вальс… Ты знаешь, как я танцевала вальс?
– Я знаю.
– Кавалеров всегда была очередь. Гимназисты, даже уланы… Я сама сельская, крестьянка, но, пока училась, нас во всяческие собрания приглашали на танцевальные вечера. «Вальс с вами… Вальс только с вами… Прошу!» Я со всеми танцевала. Любила вальс!
– Ля-ля-ля-ля-ля! – запел Эрик, наклоняясь, а она сказала:
– Штраус.
– Эрик знает! Спеть еще?
– Тсс!
Вдруг он погрустнел, первый раз, кажется, за все время их знакомства перестал улыбаться, и большеротое лицо его стало угловатым и серьезным, даже жестким.
– Я не помню свою маму. Совсем. Какой у нее голос? Я был очень маленький. Забыл. Можно думать, не слышал. У сестры есть фотография. Я смотрю: «Ты моя мама?» Она молчит. Если я не так сказал чего-нибудь, не сильно сердись, мама.
– На что же мне сердиться, Эрик? Я сама тебя люблю.
– Оставайся у меня жить!
– Ну, как же так, Эрик? Нельзя.
– Шесть детей, восемнадцать внуков, четыре правнука… Я знаю. Ты – чужая мать… Вот кино!
Он опять улыбался; спросил, покупая билеты: подальше или поближе брать, и они посмотрели фильм о мальчишках, которые жили в южном городе, не успели вырасти и ушли воевать…
Тукумский день запомнился ей как подарок. Отчего это чужой человек находит время побеседовать с ней после адской и опасной работы в море, и нет у него при этом других интересов, кроме этой искренней беседы, а свои все куда-то спешат, то к делу, то к телевизору? Наверно, свои давно все знают, а незнакомому интересно…
Но настал и день отъезда. Эрик отпросился у бригадира, проводил ее в Ригу, усадил в вагон и долго махал рукой с перрона, а она стояла у окна. Плотный сверток с вяленой рыбой, обвязанный шпагатом, сунула поглубже в ящик для вещей под полкой, с трудом приподняв ее – все боялась, как бы пассажиры не пожаловались на запах, не упрекнули. В ее тетрадке на отдельной странице появилась запись, сделанная карандашом: адрес Эрика.
Дома рассказы о нем вызвали шутки:
– Слыхали, у бабушки кавалер появился!
– Молодой!
– Неженатый?
– Ну, бабушка!
Эрик часто спрашивал ее перед отъездом, приедет ли она еще, она обещала, а он не верил: такие обещания не то что забываются, но спотыкаются о множество жизненных помех, откладываются из-за них и не осуществляются. Но она обещала твердо. В конце концов велела сказать, что ему привезти, и он долго пожимал плечами, смеясь и не зная, что попросить, пока не заказал красную рубашку. Вот и станет он здесь первым парнем!
И она часто заходила по дороге с рынка в «Синтетику» и однажды увидела там рубаху, с замиранием сердца узнала, есть ли сорок третий размер воротничка, и купила, и домой возвращалась с улыбкой, представляя себе, как он будет рад, как пойдет в красной рубахе через весь поселок, как будет стоять у моря среди товарищей, заметней всех.
Зимой она вспоминала это море, и берег со следами чаек, которые зябкими шагами переступают по песку вдоль волны, и длинный причал, окруженный рыбацкими баркасами, и носы черных лодок, задранные к небу над песком. Сначала она не понимала, зачем это так, но потом разобралась – это были старые лодки, отплававшие свое по воде. Рачительные хозяева-рыбаки не хотели с ними прощаться, а зарывали на треть в песок носом вверх, зашивали досками спереди, делали в обшивке дверцу, полки, и получались из лодок береговые кладовочки, склады для снасти, для весел, для рабочей одежды, для чего хочешь. И лодки долго еще жили возле моря своей второй жизнью и смотрели просмоленными днищами на волны, качавшие их когда-то, и днем и ночью дышали морскими ветрами.
В начале лета она написала Эрику, что приедет пораньше, чтобы не обмануть правнука, который ждал ее перед школой, значит, скоро приедет, справлялась, какая погода, но Эрик не ответил. Он и тогда сказал, что писать не будет, – одно говорить: говорит по-русски ничего себе, а пишет плохо, и второе – еще дети обидятся, кто такой, у мамы много своих детей. Мать вздохнула – сама писать не любит, глаза плохие, и Эрик остался без ее адреса, не взял.