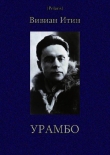Текст книги "Избранные произведения в 2 томах. Том 2"
Автор книги: Дмитрий Холендро
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
Ему стало неловко. Вокруг молчали, и она, считая разговор законченным, вслух дочитала бумагу:
– «В нашей семье семеро детей и больная бабушка…»
На улице очередь к камере хранения вытянулась еще длиннее, стала бесконечной. Кеша долго брел вдоль нее. Стоял старик с рамой, плотно завернутой в газету и обвязанной веревочкой, – может, картина, а может, фотография близкого человека, которую надо было старику сберечь. Стояла девочка у чемодана, который ей не поднять и не подвинуть. Да очередь почти и не двигалась, а мать, верно, побежала пока в магазин, купить что-то к обеду. Этой заботы никто не отменил.
Кеша шагал и вглядывался в лица. А вдруг?
Шагах в пяти от него какой-то мужчина в шляпе, похоже, тот, что был в райсовете, окликнул женщину, распахнул руки и прижал ее к себе, как сокровище. Сначала молчал, а потом захохотал от счастья – вместо слез, что ли. Вот тебе и очередь! Тут встречались. И защемило в горле от радости за этого чудака в шляпе и от зависти.
– А вы кого ищете? – спросила Кешу женщина в кисейном платке.
– Знакомую с улицы Тополей.
– Сейчас я спрошу, – сказала женщина, в оба конца очереди тонко, голосисто крикнула по-узбекски и подождала. – Нет, с этой улицы никого.
И так понятно было – молчала очередь.
– А который час, вы не знаете? – спросила женщина.
Кеша вынул дедовские часы и вспомнил, что не завтракал, если не считать давней еды в самолете. Как по команде, засосало под ложечкой.
Но не так-то просто было в этот день и поесть. У ближайшего перекрестка на столиках пельменной лежала пыль, а над столиками в потолке светилось небо. Чуть дальше в огромных окнах ресторана темнели складки жалюзи, а стекла хрустели под ногами. Магазины вокруг тоже пустовали. Провалы их витрин были наискось перечеркнуты рваными проводами. Рассказывали, что ток догадались выключить при первых содроганиях земли, спасли город от пожаров. Молодцы: дежурили, помнили инструкцию на этот счет или сами сообразили: короткое замыкание – пожар, а провода всюду рвались, как нитки. Пожаров мало было, с ними быстро справились. Но уберечь город от разрушений никто не мог…
Знакомый цирк стоял без купола. И кинотеатрик, у которого топтались вечерами счастливые ребята и девушки, рухнул. Совсем. Отпоказывал свои живые картины разных лет. Теперь на улицу смотри – картина! Остатки многих вывесок, сорвавшихся со стен, приставили к фундаментам домов на тротуарах, у ног, а от фундаментов ползли по стенам трещины, как бикфордовы шнуры.
– Молодой человек! Сойдите с тротуара! Молодой человек, сойдите…
Кеша не сразу догадался, что это к нему относится.
Медленно катилась мимо милицейская машина с репродуктором на крыше, и требовательный голос повторял одно и то же.
У ларька возле сквера тянулась очередь за пирожками. Кеша пристроился. Очень уж вкусно пахло. Дразняще. На весь сквер. Галдела очередь о повторных толчках. Ссылались на радио. Спрашивали, кто и что слышал. Обсуждали, где спать. Ясно, не в домах, даже у кого дома и уцелели. Город выезжал под чистое небо. Хватит ли палаток? Ясно, не хватит.
Перепоясанный тремя кушаками, согнутый, как запятая, немощный старик крикнул что-то злое двум девушкам, и те потупились и быстро ушли из очереди, сверкая голыми ногами.
– Что он им такое сказал? – спросил Кеша мальчишку в школьной форме.
– Что они голые ходят, оттого и землетрясение. Их земля проглотит! Надо паранджу носить.
– А что это за паранджа?
– Не знаю.
Мальчишке помогли, объяснили люди постарше:
– Накидка была такая, как мешок. Для женщин. С сеткой из конского волоса на лице. Чтобы хоть что-то видеть.
– Когда это носили?
– Носили.
– А когда эту самую паранджу носили – не трясло, что ли?
– Здесь всегда трясло.
– Ну!
– Бомбу под землей испытывали! – раздался уверенный, всезнающий голос.
– Какую еще бомбу?
– Атомную. Может, нет? А зарево-то! Зарево! А гул? Мне один серьезный человек сказал – нарушили подземное равновесие. Не рассчитали. А теперь – пойдет! Тут яма будет.
– Какая яма?
– Добром не кончится!
Разглагольствовал дядька, сидевший возле очереди у медицинских весов, на которых, верно, и взвешивался тот серьезный человек. У ноги дядьки стояла темная бутылочка с квасом, а может, и не с квасом, дядька говорил и попивал, потягивал из бутылочки.
– Что ж, до атомной бомбы не трясло? – опять спросил Кеша.
– Проверьте свой вес! – поставив бутылку на землю, закричал дядька. – Не для удовольствия, а для здоровья!
– А нам палатку дали! – сказал школьник. – В палатке не страшно.
Кеша купил четыре пирожка, больше постеснялся, и отошел в поисках места, где бы присесть. Хоть раз – за весь день. И вдруг попал он под косые чинары, они прилегли к земле, последним рывком взметывая макушки к солнцу и роняя рябые тени на красный песок.
«Я тут занималась, когда сдавала экзамены в школе».
Ему показалось, что сейчас он увидит Мастуру.
Прошагав мимо чинар, Кеша сел по другую сторону сквера на краешек бетонного основания под железной оградой. Ел, осматривался. Не увидел он ее. Ну, лесничий, в тайге бы ты быстрей нашел кого хочешь! А ведь всего три дня тому назад она кричала через весело скачущий ручей:
«Что это за имя – Кеша?»
«Иннокентий!»
«Как у Смоктуновского?»
«Я не артист».
И опять показалось, что не было этого.
Куда пойдешь теперь? Прилетел. А на что жить будешь? От всех твоих капиталов дня через три останутся рожки да ножки. И дома не продашь – нету… Ладно, пока сиди, жуй пирожки с мясом-луком.
Всех пирожков он не успел дожевать. Взгляд его упал на заднее стекло автобуса, отходящего от остановки, словно убегавшего от толпы, которая штурмовала его двери. На улицах мало было пешеходов. Все предпочитали ездить посередине дороги, а не ходить под стенами.
– Хаким-ака! – закричал Кеша, вскочив.
На задней площадке только что отошедшего автобуса стоял старик-фотограф с улицы Тринадцати тополей, о чем-то говорил с другим стариком, придавленным к нему вплотную. Кеши он не видел и не слышал, конечно.
Автобус уходил, и Кеша бросился следом:
– Хаким-ака!
Куда там! Старик к нему спиной повернулся. А Кеша бежал. На подножке автобуса гроздьями теснились висуны, и хоть бы кто обратил внимание, только один, с петлями сушек на шее, сверкнул зубами и взмахнул рукой: отстал – не беги, мол, понапрасну, не мучайся, жди другого автобуса.
Но тут наконец узкобородый старичок, притиснутый к Хакиму-ака, застучал по его плечу, затыкал пальцем в стекло. Хаким-ака пригляделся, полез в пиджак за очками. Фотограф, а близорукий… Старый, конечно. Надел очки и расплющил нос о стекло, зашевелил губами. А что?
– Где Мастура? – задыхаясь, крикнул Кеша. – Она живая?
Висун, тот, что с сушками, догадался, закричал с подножки в открытую дверь автобуса по-узбекски. Хаким-ака повернулся к нему, а висун ответил Кеше:
– Он не знает.
Так и пошел разговор – на бегу и через висуна.
– А как ее фамилия?
– Он найдет! Обязательно найдет!
– Я буду ждать ее… у театра Навои… В семь вечера… Каждый день!
Больше ничего не успели… Разрастаясь, пронесся грузовик навстречу, и шофер погрозил Кеше кулаком. Кеша отставал. Трещал милицейский свисток. И не было сил дышать, жаркий ташкентский воздух выскакивал изо рта, как резиновый, от пота щипало глаза.
Кеша свернул в тень от какого-то дома, сунул руку в карман за платком, наткнулся на мелкие монеты и огляделся в поисках сатуратора с газировкой. И тут… он увидел Мастуру.
Она стояла в своем полосатом платье у сатуратора и пила воду. С крепким пучком волос на голове, уложенным в два кольца. Он видел это, потому что она стояла к нему спиной. Стоило бежать за автобусом так, что сердце до сих пор не могло улечься.
Он приблизился и тронул ее за плечо. Она рывком оглянулась.
– Простите, – сказал Кеша.
Не она… Платье то же, а девушка совсем другая. Поставила стакан и, не сказав ни слова, побежала. А похожа…
– Воды, – попросил Кеша.
И только он сделал глоток, как неведомо откуда нахлынул гул. Подобно обвалу. Дикий, девственный, ни на что не похожий и от этого жуткий. Вздрогнула земля и затряслась, будто прямо под подошвами очередью прошлись отбойные молотки. И стакан лязгнул по зубам. В стеклянных конусах сатуратора заплескались сиропы. Продавщица исчезла, забыв тарелку с мелочью, будто сдуло большую женщину. Кеша тоже невольно попятился к дому. Сверху плюхнулась и разбилась у ног плита тяжелой бетонной облицовки. Он попятился к стене еще ближе, почти прижался к ней. Зычный голос вывел его из оцепенения.
– Куда? Дуррррак!
Чистильщик обуви, съежившись, сидел на углу у своего ящика и отчаянно махал Кеше щеткой. Кеша подбежал к нему.
– Что это?
– Оно!
…Родившись вдруг, оно прокатилось под городом, где-то в его недрах, тяжелой круговой волной. Волне нужны были море, вода, а земля не хотела повторять ее движений, земля держала на себе людей, животных, дома, деревья и просила покоя, сопротивляясь никому не подвластной силе. За толчком последовало эхо, потому что волна ходила привычно: прилив – отлив. Но уже у городских окраин она сникала, глохла и не тревожила жизни так безжалостно и нелепо.
В торговом центре ташкентских Черемушек – Чиланзаре – под дверным косяком гладильной комнаты жались друг к другу девушки в рабочих фартуках. У стен комнаты на длинных стойках висели платья и халаты, покачиваясь, как маятники. Много разного товара, нуждавшегося в глажке, грудами лежало на стеллажах.
Утюги, упавшие с гладильных досок, прожигали линолеум. Один утюг зло чадил, подняв нос, как кобра, с длинным хвостом шнура.
Мастура первой пришла в себя и бросилась поднимать утюг, стала затаптывать и заливать из графина искры на полу, а потом позвала на помощь подругу.
– Куда вы? – закричала третья. – Надо стоять под косяком! Может повториться!
Но больше не трясло.
– На нашей улице и так одни развалины, – прислушиваясь к тишине, прошептала Мастура. – Сейчас, наверно, и они рассыпались.
После толчков люди вели себя по-разному: кто кричал, а кто, наоборот, шептал еле слышно.
8
Рассыпались глиняные заборы, и улица лежала без них, как без одежды. Стали видны все голубятни, цветники под окнами, раньше скрытые от глаз прохожих. Дворовые деревья, тоже выставленные теперь всем напоказ, жались друг к другу, словно бы от страха или смущенья.
Снова он смотрел на улицу Тринадцати тополей, а все не верилось. Казалось, прикрой глаз, откроешь – и будет она прежней. Какой видел он ее в последний раз. Дверь с наклейкой: «Астарожна – акрашена», занавеска в окне, легкая, как свет солнца… Ни окна, ни занавески… Черная дыра с рваными краями…
Интересно, приходит Мастура к дому? Может хоть раз прийти, взглянуть, что осталось? Кеша поворошил ногой кучу мусора возле очага во дворе, раскопал кусок угля и большими буквами нацарапал на стене: «Ищу тебя, Кеша».
Он не спрашивал себя, зачем искал Мастуру. Пока хотел лишь узнать, что жива, хотел увидеть. Бросил уголь в пыль и двинулся к своему дому… Меж акациями неподвижно висели качели, на которых всегда раскачивалась веселая девчонка.
«Тетя Фаня! Что вы делаете? Там же человек стоит!»
Это она кричала. Где она нынче? Человек-то вот он…
Кеша тронул качели, и они, пустые, легко залетали вперед-назад, будто соскучились.
В вечерней тиши слышнее стало, как бормочет арык. Вспомнился первый вечер в этом городе, страшно далекий вечер, и то, как он выкатил камень из арыка под забор, и то, как смотрел с этого камня на славный домик, ставший кучей обломков среди цветущих слив…
На столбе, оставшемся у ворот, висела фанерка со словами: «Продается дом». Кеша оторвал ее, запустил в арык и невольно проводил глазами. Вода унесла фанерку в полумрак… Быстро темнело – может быть, от пыли. Ветер поднимал пыль с развалин. Пыль висела над всем городом, как туман.
Умыться бы…
Кеша стащил пиджак, зацепил за ветку у дворовой колонки и нагнулся над ней, зафыркал. Кран был сорван, – может быть, тушили что-то, – и вода свободно вздувалась и прыгала над железной трубой.
Фу, хорошо! Только ноги до смешного потяжелели сразу. Находился сегодня. Кеша подошел к кровати, сбросил с нее доски и кирпичи, подумал, что надо вытянуть ее отсюда под сливу, подальше от стен, но сначала сел и сунул в губы сигарету. Посидел и покурил просто. Где-то лаяла одинокая собака. Вороны лениво каркали над головой. Булькала вода.
Кровать не поддавалась, залезала ножками в пыль, цеплялась за обломки, за кусты, скребла по камням. Наконец доскреблась до большой сливы. Кеша вовсе сбросил верхнее одеяло, обсыпанное чердачной трухой, похлопал по подушке, набитой пылью так, что в носу защипало, отчихался и рухнул, вздыхая блаженно. Подрыгал ногами, пока не слетели сапоги. И теперь, когда над головой прорезались и даже засинели звезды, удивился, как они тут близко. Словно бы не только земля, а и небо здесь другое.
«Кого родственники взяли, кого знакомые…»
Ну, а если ее вовсе нет под этими звездами? В поезде она сейчас… Или улетела… Но это же неизвестно, парень. А что же тебе известно? Одно известно – не такой он, кажется, чтобы не искать, пока не узнает. Сам диву дался, когда почувствовал это.
И на следующий вечер, и на третий, и на четвертый засыпал он с этим чувством…
Разбудили его птицы. Слива над головой была набита щебечущими воробьями, как погремушка зернами. Никелированные шары на теткиной кровати лучились, словно каждый шар сам был маленьким солнцем. Все было безмятежно – и эти суматошные воробьи, забывшие про землетрясение, и солнце в никелированных шарах, и кровать под зеленым деревом, – вот только трещины на зыбких стенах, улица без заборов, ворота ничком, только нарастающий, неразгаданный спросонья железный грохот, от которого шарахнулись ввысь воробьи.
Кеша в трусах подскочил к забору, выходившему на поперечную улицу. Земля не тряслась, а гул нарастал отсюда. Наконец он разглядел сквозь пылищу: по улице лязгали танки, самые настоящие танки, как на войне. Он оделся наспех, побежал за танками и не видел, как к стене от дома Мастуры подполз бульдозер, во всю мощь ударил по ней, «под дых», своим скребком, и рассыпалась с камнями надпись «Ищу тебя», и все окуталось пылью.
Танки с разбегу вламывались в пустые дома, и те вздрагивали, как живые, и превращались в руины и воспоминания. Танки пробивали иные дома насквозь, но сколько-то они еще стояли, пошатываясь и прощаясь с городом, который дал им место много десятков лет тому назад. Пыль коричневым дымом вылезала из-под рухнувших стен, стирая с глаз деревья, улицы и сами танки. Каково-то дышалось танкистам!
Из пыльной мглы выбился строй поливальных машин. Прорубая себе путь сверкающими секачами, они то усмиряли пыль, то вязли в ней.
Люди скапливались вокруг, смотрели, как падают стены.
И Кеша смотрел, как за дорогой оголялась высокая стена, разделенная на разноцветные прямоугольники и квадраты, четкий план бывших комнат, еще недавно таких укромных. Взгляду открылись все цвета побелки. Чья-то легкомысленная, розовенькая. Чья-то бледно-зеленая, как говорят, салатовая. Чья-то желтая, как яйцо всмятку.
– Это Исановых? – спросили рядом.
– Раз, два… Нет, Кашьянцев.
– У мадам Кашьянц плохой вкус.
– Зато была хорошая комната, – сказала немолодая женщина в слезах, вполне возможно – сама Кашьянц. – И рояль.
Губы ее, словно бы судорогой сведенные, сложились в мучительную улыбку. Что слезы? Слезами горю не поможешь.
– Жили-жили, – горестно проговорила ее соседка, – и всё!
– Не ждать же, пока на голову упадет, – вздохнул длинный мужчина, вытер очки и успокоительно положил руку на ее плечо.
Бульдозеры подгребали битый кирпич, ломаные доски, куски лепнины. Немые свидетели чьей-то юности, чьих-то радостей, чьих-то потерь превращались в мусор. Но там, как на цыпочках, еще тянулась к небу лестница, а там торчала длинная шея обезглавленной колонны, а там, над неубранными холмами, как над могилами, чернела в пустоте окованная железом печь, напоминая, что придут холода. Они здесь недолгими бывают, но злыми. Об этом говорили в толпе. Для того и разбивают стены, чтобы на месте развалин быстрее разлеглись строительные площадки. А кто строить будет? Почитайте газеты.
«Из Москвы, Харькова, Минска в Ташкент прибыли стройпоезда. На железнодорожных платформах – экскаваторы, башенные краны, другая техника. В вагонах – квалифицированные мастера».
В одном месте бульдозеристы обошли ветхую дворовую будочку с косой крышей и деревянной трубой.
– Нехай стоит!
– Пригодится.
Ребята в грязных рубахах швырнули бревно в кузов самосвала, и низкорослый крепыш с раздутой грудью и шеей, на которой не сходился ворот, крикнул:
– Взял бы да помог, чем глазеть!
Кеша перепрыгнул через камни, подумал, что пиджака жаль, но что же делать-то, и стал выволакивать бревна, мешающие экскаватору, из-под ковша. Носили их и швыряли в машины, увозившие древесный хлам куда-то для дела. Дерево оказалось долговечней камня. Оно могло еще пригодиться. Могло хотя бы гореть.
Потом, вооружась лопатой, Кеша расчищал со всеми подъезды для самосвалов. Экскаваторы ссыпали в них каменный прах, и самосвалы увозили его в загородные овраги, ставшие кладбищем для многих ташкентских домов.
Расчисткой руководил молодой гигант, на зависть рослый, знающий свое дело, а потому добрый.
– Махотко! – кричали ему. – Когда перерыв?
– Сегодня! – отвечал он с хитроватой улыбкой. – Ручаюсь!
– Кто заставит нашего Махотко психануть, тому ставлю бутылку пива, – сказал крепыш, позвавший Кешу работать.
– Ты знайди ее, бутылку пива!
– Знайду!
Весь он был раздавшийся вширь, и лицо его, тоже широкое, тугое, в капельках пота, блестело.
– Махотко! – злобно крикнул он, пряча в запыленных ресницах маленькие лукавые глаза. – Я приехал город строить, а не в дерьме копаться.
– Устал, – великодушно отозвался Махотко, – отдохни.
Сам он долбил ломом глыбы, не лезущие в ковши.
– А? – восхитился крепыш, присел на бревно и спросил у Кеши, нет ли закурить, а то и в магазин сбегать «часу нема», сказал он, так вкалывают. Прямо с поезда – на расчистку.
– Как тебя зовут? – спросил Кеша, раскапывая сигареты в кармане.
– Бобошко.
– Это ж не имя, однако.
– А имя буде, як подружимось. Не поспишай.
– Ты откуда?
– С Украины. Запомни: первыми в Ташкент кто прибыл? Харьковские хлопцы! Сидай!
Парень-бомба не предлагал, а приказывал.
Закурили. Но Кеша тут же вскочил. К развалинам подошла колонна узбекских студентов с лопатами на плечах. Впереди держали транспарант: «Педагогический институт». Подальше по фанерному щиту прыгали буквы: «Трясемся, но не сдаемся!»
Как же он забыл, дурень! Эх, дурень! Педагогический – это ведь Алимджан. Оставив в недоумении нахмурившегося Бобошко и прыгая через кучи, Кеша подбежал к узбекским студентам. Их колонна уже разбредалась, и он поймал за руку одного парня.
– Слушай, педагогический! Где найти Алимджана, который это… ну молот, кидает?
– С какого курса?
– Черт его знает!
– А факультет?
– Да черт знает!
Парень посмеялся:
– Так и спрашивай у черта!
Прислушиваясь к ним, другой крикнул весело:
– Алимджан? Он на спортивных сборах. Отпустили!
Третий подтянул кушак на животе, чтобы не надорваться, сказал солидно:
– Нет, Алимджан уехал в кишлак. Маме показаться. И тогда все вокруг расхохотались, а еще один крикнул:
– Какие сборы? Какая мама? Алимджан в библиотеке. Там вот такие камушки с книг руками надо снимать…
Он развел руки до отказа, показывая, какие камни, поплевал на ладони, сам покрепче схватился за держак лопаты.
Лопаты застучали по камням, вонзились в мусор. Кеша вернулся к Бобошко, тот крикнул, как на мальчишку:
– Ты бегать будешь или работать?
Сам Бобошко уже держался цепкими, как клешни, руками за конец бревна. Кеша огляделся. С глыбы на глыбу к ним прыгал Махотко, прижимая пальцем табак в трубочке.
– Бобошко, – сказал он, – дуй в горком комсомола за кроватями.
Бобошко бросил бревно и выпрямился.
– А где той горком? Поехали со мной! – позвал он Кешу и объяснил бригадиру, что это местный.
Бригадир повернулся к нему:
– Ташкентский? А ну, покажи лапы! Без перчаток больше не хватайся, лучше в самом деле кати с ним. Помоги. Огонек есть?
Задымив, Махотко отошел, а Кеша так же властно, как говорил Бобошко, предложил:
– По дороге заедем в библиотеку.
– И в цирк! – засмеялся Бобошко. – Там собачки с бантиками!
Он изобразил цирковую собачку. Довольно смешно. А Кеша понял, что умрет этот Бобошко, а в библиотеку заехать не даст. Принципиально. Ладно! На обратном пути соскочит и отыщет библиотеку сам, а потом вернется сюда, на расчистку. Не убежит… Интересные люди эти бобошки. Город он построит – для людей, а свернуть куда-то на одну минуту, что для человека, может быть, важнее всего на свете, не свернет. Рассказать ему, зачем в библиотеку? О Мастуре… Нет, не хочется. Не подружимся мы с тобой, Бобошко, не узнаю я твоего имени, пузырь.
– Тебе зачем это в библиотеку? – спрашивал Бобошко, пока грузовик, в который они забрались, трясся и пылил по улице. – Хе! Книжки читать? Это потом. А сейчас вкалывай!
Граждане! Боритесь с подземной стихией!
Плакатик был напечатан наспех, на обрезках бумаги, и наклеили его на горкомовской двери, вероятно, в расчете на улыбку. Во всяком случае, кто замечал, пробегая, непременно улыбался.
Горком выглядел внушительно. Опять не дом, а крепость старинная. Средние века… Каменные столбы фонарей у входа. Четырехгранные. Каменные урны. Как памятники. Для комсомолии парадно, но по самодельной вывеске ясно было, что горком переехал сюда на днях. Видно, свое здание развалилось. Здесь тоже в рамах верхних этажей торчали куски острых стекол, а лестницу внутри перегораживала веревочка с предупреждением: «Хода нет. Связь через подвал». Видно, в верхних комнатах трудились смельчаки и энтузиасты, но ходили туда не по этой лестнице – она треснула, а каким-то запасным ходом из подвала.
Пустовала большая вешалка с одной-единственной чистейшей шляпой, возможно, забытой до землетрясения и теперь смахивающей на музейный экспонат.
У настенного телефона с крученым-перекрученым шнуром толпились свои и приезжие, беспрерывно названивая кто куда и добавляя к петлям на шнуре новые.
Бобошко с Кешей врезались в глубину говорливой толпы, окружившей смуглого молодого человека, разговаривающего сразу со всеми. Люди вокруг него крутились, как на карусели, а он стоял в белой рубашке с засученными рукавами, отсылая кого налево, кого направо, олицетворяя само терпение, и карусель не останавливалась ни на миг. Это был горкомовский регулировщик.
– К Муртазаеву! – сказал он, не дослушав Бобошко до половины и показав рукой.
В кабинете была деловая обстановка – никакой суеты, как будто за стенами не пылили развалины, не жались к деревьям палатки, не гомонили дети. Впрочем, их воинственные голоса залетали и сюда. Выселенные землетрясением на улицу, дети вынесли с собой под небо неистощимый запас смеха, визга, свиста, плача, считалочек, разбойничьих кличей, и все это – от рассвета до заката. Весь Ташкент кипел детскими голосами.
Муртазаев прикрыл окно и сказал девушке, писавшей за другим столом:
– Мастура! Подобрала вожатых для второго лагеря? – И Кеше с Бобошко: – Разбиваем пионерские лагеря прямо в городских парках. У нас много зеленых парков. – И девушке, которую звали Мастурой: – Подбирай скорей, ребята по улицам гоняют – беда! – И Кеше с Бобошко: – Значит, так. Насчет кроватей к Арсланову. Вот адрес.
Кеша так пристально смотрел на девушку, что она перестала писать, отмахнула за спину косу, подняла глаза. А он спросил:
– Есть у вас тезка… С улицы Тринадцати тополей… Не знаете такой?
– Потеряли? – сразу догадался Муртазаев.
Кеша виновато кивнул головой, Бобошко дернул его за рукав.
– Фамилия? – спросил Муртазаев.
Кеша вырвал свой локоть из пальцев Бобошко и пожал плечами.
– А что вам еще известно о той Мастуре?
– Коса такая же…
– И все? Ну, будем спрашивать каждую Мастуру, с какой она улицы. Найдем – с вас калым. – Муртазаев улыбнулся и сделал пометку в блокноте. – Заходите. Сами вы откуда?
– Сибирский.
А что, если бы сидела здесь Мастура? А что, если ее найдут? Через райком. Вот, скажут, вам Кеша. А он ей нужен?
«Я же улетаю».
«Ну и улетайте!»
А тут еще Бобошко прилип, навалился – самым натуральным образом – в коридоре, припер грудью к стене.
– Ты сибирский? Ха, гляди на него! За девушкой приехал? Правда? Говори! Правда?
– Ну!
– Ты с ума не спятил – пытать в райкоме про дивчину? Ха! Вот индюк!
– Он же записал.
– А что с тобой делать – малахольным? Как ему тебя иначе выставить? Эх ты!
Бобошко выругался.
Вышли из средневекового здания и перепрыгнули через арык с летящей водой. Водитель спросил:
– Есть кровати?
– Пока один адрес!
Водитель свистнул.
– Спать на земле и эту ночь!
И остервенело дернул машину с места.
Миновали улицу за улицей. Всюду стояли стены с небом в окнах. Кое-кто упрямо ремонтировался. Там заткнули пробоины в стене половинками деревянных ворот, там подпирали бревнами еще целые стены, авансом. Но чаще селились в палатках, раскиданных почти под всеми ташкентскими деревьями…
Раньше строителей ташкентцы возвели для себя брезентовый, парусиновый, матерчатый город. Стояли палатки новехонькие, с армейских складов, на тугих, как тетива, растяжках. И старые, выгоревшие палатки, с обвисшими боками. И палатки – одни заплатки. Большие – для многодетных семей, которых среди узбеков хватает. Любят детей. Маленькие – для одиночек, словно люди на рыбалку выбрались в кусты, да только реки нет рядом. Были еще и самодельные палатки, круглые, похожие на юрты – дедовское жилье. А то и просто, по-современному, привязывали к спинкам кроватей палки, на палки вешали разноцветные балдахины из ситчика, вот и дом. Скопления палаток обрастали кухнями на свежем воздухе, ларьками, шашлычными. Удивительная пошла жизнь у людей…
И все же адрес на бумажке привел к такому месту, какого Кеша еще не видел. Выехало под небо учреждение… Тенистый бульвар добросовестные канцеляристы разгородили белыми шнурами от дерева к дереву на клетки, как на кабинеты, в каждом – столы, за ними писали, стучали на машинках, перебирали папки, листали документы, укрощали бумаги скрепками, щелкали на счетах, разговаривали по телефону – только женщины. Куда ни глянь – одни завивки и косы, одни бабы. И там на столике цветы в банках, а там, на ветке дерева, картонная висюлька с надписью: «Не сорить». Ну и бабы!
Склонились через шнур к одной:
– А мужчины где?
– На расчистке.
– Нам бы товарища Арсланова.
– Зачем?
– За кроватями.
– А что у него, кроватная фабрика?
– А у нас?
– Попробуйте!
Женщина махнула рукой в сторону, будто оттолкнула.
Бритоголовый, в тюбетеечке и военном френче с дырочками от орденов над карманами, Арсланов прятался в сиреневых зарослях. Он провел ногтем над строкой в развернутом журнале.
– Кто Махотко?
– Я Махотко, – сказал Бобошко.
– Распишитесь.
Бобошко расписался, спросил:
– А кровати где?
Склад был рядом, тоже на свежем воздухе. Кровати разных фасонов высились штабелями. Не успели присмотреться – качнуло воздух. И засвистело так, будто над городом понеслись густым потоком реактивные самолеты. Сразу. Деревья отвесили поклон до земли, и все их ветви потянулись в одну сторону, а тем, что не послушались или запоздали, ветер с безжалостным хрустом выломал суставы.
Лист жести, подобранный ветром где-то среди развалин и поднятый в воздух, грохоча, вмялся в кабину грузовика, высадив смотровое стекло. Колыхнулись, разваливаясь, шаткие штабеля кроватей. Шквал пыли хлестнул по всему живому и закрыл небо.
Кеша оглянулся – над бульваром мелькали стаи бумажных листков. Землетрясение? Нет, не похоже. Только ветер. Но какой! Он шумно валил столетние великаны, обнажая их рваные корни.
Кеша закрыл голову руками, спасаясь от песка и пыли, и подумал: пришла беда – открывай ворота. Над палаточным Ташкентом, ухватившимся веревками за жалкие колышки, ревел ураган.
9
И все же к семи вечера он спешил на площадь театра Навои, как обещал старику-фотографу. Конечно, за этот день Хаким-ака вряд ли нашел Мастуру. А вдруг? Если и нашел, из-за такого урагана она вряд ли придет. А вдруг?
Ураган беспокойно затихал. Деревья еще раскачивались, зеленое море ташкентских парков волновалось.
В том парке на окраине города, где размещались строители из Украины, еще стоял лесной шум. Но самым могучим, самым крепким деревьям уже надоело раскачиваться, они первыми опомнились, застыли и только перебирали листьями, уцелевшими на ветвях. На земле листьев было больше.
Листья все еще слетали на дорожки и тропинки парка, совсем неслышно, листьями занесло поляны.
На одной из полян скинули с грузовика кровати, и Кеша спросил водителя, не вернется ли он в город.
– Нащо? День кончился, – ответил тот. – А стоянка же у нас рядом!
Бобошко снова ухватил за руку.
– А тебе куда?
– Знаю.
– Э! И я знаю! – сказал Бобошко, ехидно засверкав мелкими зубами. – Шукать ту кралю! Бежи пешком!
Кеша и правда побежал. Не хотелось слушать Бобошко. Не переоделся. Чемодан закинул в палатку, как приехали, в чем работал, в том и побежал. Черт с ним!
Парк вдруг раздался, зазеленело широкое поле, хоть в футбол играй. На краю поля сколачивали деревянную трибуну, как для праздника.
– Зачем это? Слышь!
– Как зачем? Завтра открываем наш стройлагерь «Украина».
– А!
Подумалось: верно, где-то есть и сибирский лагерь. Какая разница?
В другом краю стоял грузовик с платформой, – видно, привез гору бревен, лежавших рядом, и уже собирался уезжать.
– Эй! Эй!
– Чего кричишь, как зарезанный? – ответил из кабины немолодой дядя.
– Через центр едете?
– Можно и через центр, если надо.
– Надо, но платить нечем, – сказал Кеша на всякий случай.
– Не такси, – ответил дядя. – Садись. И перестань кричать.
– Нажмите.
– Чудаки люди! – сказал дядя. – Куда спешишь? Торопиться надо к тому, кто тебя ждет. Понятно?
– Понятно.
Дядя подобрел и нажал. И ни о чем больше не спрашивал. Завизжали тормоза у площади Навои, но Кеша не сразу узнал ее. Фонтан молчал. Пыль витала над сквером. Ее поднимал не ветер – детские ноги…
Как много детей!
Дети носились среди деревьев, лазили и прыгали по скамейкам, копошились в сухой чаше фонтана, играли в классы, в прятки, в чехарду, в индейцев, нацепив на головы куриные перья.
Большое, безопасное небо поднималось над сквером, и детей привели и прикатили сюда для жизни. У каждой скамейки, на которых сидели мамы и бабушки, стояли коляски с малышами, как лодки у причалов.
Кеша все смотрел на детей, а потом вдруг поднял глаза. Электрические часы показывали семь.
Он присел на край сухой мраморной чаши и стал ждать среди детской беготни и криков. Старичок в очках и тюбетейке, возле которого примостился Кеша, оторвался от газеты, протянул ее Кеше.