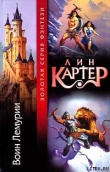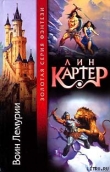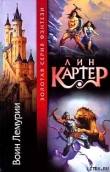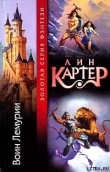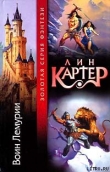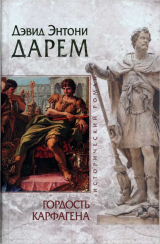
Текст книги "Гордость Карфагена"
Автор книги: Дэвид Энтони Дарем
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 42 страниц)
Это воспоминание взволновало Публия. Корнелий говорил с ним так, словно предчувствовал свою смерть. Сын не презирал сентиментальность отцовских слов. Наоборот, он гордился ими. Они укоренились в его сердце рядом с непоколебимой верой в правоту Римской республики. Однако искренность отца огорчала его. Он не знал, сможет ли дожить до подобной мудрости. Он гадал, сможет ли показать себя достойным такого человека. Ион не мог сказать наверняка, что путь его жизни оправдает ту надежду, которую отец возложил на него во время их последней встречи.
Ему не терпелось вернуться на поле боя, но заботы о наборе рекрутов и обучении новых отрядов задержали его в Риме. Все дни напролет он думал только о войне. До полуденного зноя Публий муштровал солдат – бывших фермеров, рабов, торговцев и наемников. В свободное время он изучал хроники прежних войн и расспрашивал тех, кто уже пострадал от хитрой стратегии Ганнибала. Он поглощал все, что слышал, перерабатывая и переваривая сведения до тех пор, пока они не превращались в ткань его сознания. Он держал свое мнение при себе, но охотно выслушивал тех, кто мог дать ему какую-то полезную информацию. Публий начал изучать обы
16 Гордость Карфагена чаи Карфагена. И, естественно, он часто размышлял о Ганнибале. Не бывает непобедимых людей, говорил он себе. Это факт! Даже боги имели слабости. В юности он увлекался греческими легендами и теперь иногда вспоминал об эпохальном повествовании Гомера. Ахиллес был великолепным, смелым и бесподобным воином, однако и он обладал уязвимым местом. Ганнибал тоже должен иметь свою слабость. Должен.
Увлекаясь тренировками, Публий часто гонял своих солдат по девять часов кряду. Сколько раз он вдруг понимал, что вечернее солнце, удлиняя тени, уже садится за горизонт, и что солдаты смотрят на него с нескрываемым изумлением. Сколько раз лейтенант отводил его в сторону и напоминал ему о времени дня. Другие офицеры не одобряли его рвения и говорили, что даже на войне римлянин должен оставаться римлянином. Он не должен забывать о распорядке дня: первая половина для работы, вторая – для отдыха.
Отвлекаясь от размышлений, Публий постоянно поражался тому, что естественный ход жизни оставался неизменным. Спеша на Форум ранним вечером, с мыслями о жестоких сражениях, он с неодобрением поглядывал на своих соплеменников. Сам Публий неизменно носил тогу, но горожане по вечерам одевали яркие туники – красные, желтые, голубые, с золотыми вышивками – или плащи с капюшонами, которые недавно вошли в моду. Незамужние женщины спешили на карнавальные зрелища. Солдатские вдовы алчно поглядывали на торсы и ягодицы молодых мужчин, о чем-то шептались со служанками и хихикали, как девочки. Воздух оживал от звуков веселья. Повсюду слышались песни и шутки. Запах жареных колбас сменялся ароматом медовых печений. Вокруг царило томление, толкавшее каждого к чревоугодию, похоти или покою.
Он проводил вечера с Лаэлием – его товарищем по оружию. Они обсуждали планы на будущее и говорили о войне. Публию нравились такие моменты. Он находил в них странную радость. Лаэлий был единственным человеком, которому он мог доверить свою печаль. Публий не понимал, как жители Рима могли предаваться мелким удовольствиям. Почему они все забыли? Неужели они потеряли гордость? Или их ввели в заблуждение? А может быть, в этом и проявлялся римский дух? Люди не имели выбора, кроме того, чтобы жить, пока они не встретят смерть. Так было всегда. Возможно, горожане Рима – проститутки, страстные матроны и накачанные вином сенаторы – знали истины жизни лучше, чем он. Возможно, в этом и была великая мудрость, казавшаяся глупостью.
Помимо всего перечисленного имелись другие моменты, в которых Публий не находил ничего достойного. Например, Теренций Варрон по-прежнему пользовался уважением Сената. Ни на одном человеке в истории Рима не лежала ответственность за смерть стольких римских солдат, но это, казалось, никого не тревожило. Публий не обвинял его публично, потому что знал, что римляне судят человека за ошибки лишь тогда, когда сами страдают от них. С другой стороны, вина за поражение была возложена на тысячи солдат, окруженных Ганнибалом при Каннах. Их настолько презирали, что Сенат отказался выкупать плененных воинов и запретил родне платить за них деньги африканским захватчикам. Считалось, что они заслуживали мук во вражеском плену. Публий, избежавший позора, уважал этих солдат. Никогда прежде государство не бросало стольких воинов на произвол судьбы.
Со временем некоторые из них вернулись домой. Не получив за пленных выкуп, Ганнибал отпустил солдат на свободу и позволил им пройти через всю страну, не желавшую больше им помогать. Многие рассматривали это милосердие как глупость, но Публий видел здесь разумное решение – удар, нацеленный в сердце нации. С другой стороны, он презирал позицию сенаторов. Они отправили вернувшихся солдат на Сицилию, чтобы они служили Риму на чужой земле и не оскорбляли глаз горожан своим позором. Невероятный идиотизм! Публий знал, какой стыд испытывали эти люди. Они могли бы стать героями последующих сражений. Кто больше них доказал свою храбрость? Любой воин, уцелевший при Каннах, видел смерть в лицо – тот ад, который не походил ни на что иное в памяти людей. Несмотря на осуждение сенаторов, горечь поражения связала их вместе, породив особое братство между ними.
На Иды нового года он произнес в Сенате речь. Призвав к уважению отца, Публий попросил благословить его на ратные подвиги.
– Сограждане, – сказал он громко, – если вы цените память о погибших братьях Сципионах и называете их героями нации, то выполните мою просьбу. Позвольте мне отправиться в Иберию и занять место отца. Он оставил там незаконченное дело, которое я хотел бы завершить.
Зал притих на несколько мгновений. Затем сенаторы приступили к обсуждению вопроса. Некоторых смущала юность Публия. Другие полагали, что ему не следовало жертвовать собой из-за траура по отцу. В Иберии собралось несколько вражеских армий, и большинство политиков склонялось к мнению, что Рим должен отказаться на время от этого полуострова. Впрочем, особых возражений не было. Зная, что никто другой не захочет подобного назначения, сенаторы согласились удовлетворить желание молодого человека. Они не могли предоставить ему большую армию. Ресурсы государства не позволяли такой щедрости. Между тем перед ним стояла грандиозная задача. Но если он сам того хотел...
* * *
Сапанибал ни разу не заикнулась о попытке Имилце уплыть в Италию. Она не осуждала ее за глупость и не рассказывала ей, как узнала о плане побега. Это молчание стало для
Имилце еще большим укором. Конечно, идея побега была абсурдной. Она сама не могла объяснить себе, что на нее нашло. Просто она узнала, что Ганнибал зимует близ Капуи, и ей захотелось отправиться к нему. Но какая судьба ожидала бы их с сыном, если бы она инкогнито прибыла в чужеземный порт? Как принял бы их Ганнибал? Узнал бы он ее? Или она его? А что случилось бы, если бы ее схватили римляне?
Имилце по-прежнему считала Сапанибал жестокосердным существом. Однако по прошествии нескольких дней она начала чувствовать себя в долгу у этой женщины. В семье, с которой она породнилась, ей приходилось завоевывать одобрение каждой родственницы. Она не привыкла к такому унижению. По ее личному мнению, многие карфагеняне вообще не имели права осуждать других. Любое движение их рук выдавало жадность. Гримасы губ отражали похоть. Языки говорили об их ненадежности, а за трепетом век проглядывала мелочность умов. Но у женщин Баркидов все было иначе. Каждая из них казалась ей островом спокойствия. Дисциплинированная Сапанибал беззаветно служила своей семье и демонстрировала родовую честь при любой возможности, которая была доступна для женщины их класса. Даже Софонисба, болтушка и сплетница, обладала силой воли, необычной для ее возраста. А Дидобал вообще поражала Имилце каждым своим движением, каждым сказанным или невысказанным словом, каждым жестом и взглядом, наклоном головы и трепетом ноздрей. Их встречи по-прежнему сохраняли церемониальную напряженность, и в разговоре с ней мать клана обычно произносила лишь полдюжины фраз – тот минимум, который допускался вежливостью.
Ранней весной, когда пошли дожди, Имилце заслужила честь расчесывать волосы старой женщины. Ее обучали этому искусству с тех пор, как она приехала в Карфаген. Сложность местных причесок оказалась для нее открытием. Она слышала, что южные народы судили по прическам о социаль ном положении и влиятельности людей. Каждый нечетный день недели она приходила в покои Дидобал – небольшую комнату, стены которой были увешаны слоями цветастых тканей. Неизменно теплый воздух помещения наполняли запахи благовоний. Имилце боялась здесь даже пошевелиться. Вдоль стен по несколько рядов стояли масляные лампадки. Это множество крохотных огней создавало ровное сияние. Однажды, переступая их, Имилце подпалила платье. А в другой раз, сделав неверный шаг, она сбила ногой две лампады. К счастью, служанкам, вбежавшим с мокрыми простынями, удалось затушить огонь. Дидобал никак не комментировала промахи Имилце.
Однажды утром через пару недель после неудачного побега Имилце вновь пришла в покои свекрови. Она начала расчесывать густые и темные волосы Дидобал, просеивая локоны между пальцами – от макушки и вниз. Эти локоны не рассыпались вяло по плечам, каждая прядь обладала пружинистой силой. Имилце отмеряла их пальцами и разделяла на полоски. Ей помогала служанка. Некоторые пряди она окропляла ароматным маслом с корицей, другие посыпала крапинками серебра, в третьи вплетала ленточки водорослей. Сегодня она придавала волосам свекрови традиционную форму «бюста Элиссы». Тугие косы лежали ниже затылка полукругом, выстраивая платформу, к которой крепился золотой шлем. Спереди он держался на двух загнутых дугах из волос.
Чтобы заполнить неловкое молчание, Имилце, как и прежде, завела разговор. Слова изливались из нее по собственному желанию: замечание о слишком высоком уровне воды в оросительных баках; воспоминание о сне, который она видела прошлой ночью; оставшийся без ответа вопрос о судьбе вуали мудрой Танит – любимом атрибуте богини. И затем, не зная, что еще сказать, она пожаловалась на тоску о муже. Это нечестно, сказала Имилце, что Ганнибал сражается так далеко, что он не может вернуться на зимний сезон, как всегда поступали солдаты на протяжении всей истории.
Дидобал прочистила горло и посмотрела на служанку. Девушка отступила на шаг, повернулась и ушла. Другие служанки последовали за ней. Они скрылись за складками ткани на стенах – бесстрастные лица, потупленные взоры, глаза, как у каменных статуй. Дидобал прогнала их одним взглядом. Имилце испугалась, что старая женщина велит ей уйти, но та вдруг спросила ее:
– Ты так сильно любишь моего сына?
– Да, – ответила Имилце.
– И ты считаешь, что, кроме тебя, никто из женщин не любил и не любит так сильно своего супруга?
– Мне трудно говорить о том, что чувствуют другие женщины. Но я любила Ганнибала всегда!
– Судя по твоему тону, ты полагаешь, будто я ничего не смыслю в этом деле. Думаешь, ты единственная была влюблена в своего мужа?
– Нет, я не это хотела сказать...
– Когда мы впервые встретились, я не знала, как относиться к тебе, – произнесла Дидобал. – Ты не вызывала у меня доверия. Прости меня, но матери трудно видеть, как сын отдает свою любовь другой женщине. Мать всегда хочет оставаться первой: первой маткой, первым дыханием между зубов, первой беспричинной любовью...
Женщина медленно повернула голову, вытягивая густые локоны из рук Имилце. У нее были большие глаза, желтоватые белки, с сеткой вен, и темно-коричневые радужки, которые в этот момент выглядели почти черными.
– Надеюсь, ты понимаешь меня, – добавила она.
Дидобал снова повернулась, показав невестке свой профиль.
– Вот почему я принимала тебя настороженно и наблюдала за тобой. Конечно, все это постыдно. Стоило тебе что-то сделать в Карфагене, как мне тут же докладывали об этом. Почему я так поступала? Потому что человек раскрывает себя не через слова, а через сумму поступков, совершенных за какое-то время. Мне хотелось знать, вошла ли ты в мой дом из-за богатств? Заботишься ли о судьбе мужа? Уважаешь ли традиции его народа наедине с собой? Участвуешь ли в развлечениях, которые наш город предлагает знатным женщинам? Не жеманничаешь ли под взглядами влиятельных мужчин? Прости меня, но я беспокоилась о чести нашей семьи.
Имилце попыталась продолжить свою работу. Она вставила заколку, чтобы удержать уже заплетенные косы на месте, затем взяла гребень из слоновой кости и начала расчесывать оставшуюся копну верхних волос, спутанных предыдущей укладкой. Постепенно, пока Дидобал говорила, она замедлила движения и, наконец, замерла с гребнем в руке. Ее побелевшие пальцы сжались на инкрустированной жемчугом рукоятке. Откуда у ее свекрови такой набор вопросов, думала Имилце. Она не могла представить себе, какие ответы Дидо-бал получила в ходе своего расследования. Все это время за ней наблюдали! Теперь многое становилось понятным. Вот почему ее побег оказался неудачным. За ней все время следили...
– Гамилькара тоже было нелегко любить, – продолжила Дидобал. – Они с Ганнибалом одной и той же породы. Мы, женщины, живущие с таким огнем, благословенны и прокляты. И знаешь, у нас с тобой есть сходство. Во время войны с наемниками я не могла пережить разлуки с мужем и совершила поступок, от которого ты, с великой мудростью, отказалась. Когда мой супруг оттеснил наемников в пустыню, я поехала к нему. Мне довелось попасть в его лагерь через два дня после битвы под Малым Лептисом. Гамилькар победил, но я никогда не видела его таким – покрытым кровью и грязью, с покрасневшими глазами и шелушащейся кожей, как будто он побывал в огне. Я думала, он рассердится. Но Гамилькар не сказал ни слова. Он набросился на меня, словно лев. Такого не было в наших прежних отношениях. Он взял меня, как шлюху. Муж вообще не разговаривал со мной, не выражал ни ласк, ни доброты ко мне. Он испачкал мое тело чужой кровью – красками войны.
Все казалось ужасным, Имилце. Но той ночью я подумала, что если во время кампании мой муж настолько груб, то я просто обязана быть с ним, чтобы вывести его из этого состояния. На следующее утро он взял меня за руку и повел к краю долины, где проходило сражение. Гамилькар показал мне поле боя и провел меня по высоким холмам из человеческих тел. Имилце, моли богов о том, чтобы никогда не увидеть подобного зрелища. Трупы лежали на жаре три дня. Раздувшиеся тела сотрясались и выпускали газы, словно жизнь по-прежнему обитала в них и проявлялась в спазматических движениях. Некоторые из трупов взрывались, будто в них кипела жидкость. Меня тошнило от чудовищных запахов. Прожорливые птицы, наглые, как демоны, затемняли небо. Стервятники с длинными шеями слетались со всех направлений.
Однако это было только начало. Я провела неделю рядом с мужем, в течение которой он заставлял меня наблюдать за казнями пленных. Они несколько дней распинали захваченных наемников. Кое-кого из воинов отпускали на волю, отрубив им руки. Некоторым отсекали ноги по лодыжки. Их бросали в пустыне на съедение гиенам. Иных ослепляли. Кому-то отрезали языки. Кого-то кастрировали или заталкивали в клетки к пойманным львам. Война оказалась страшнее всех моих ожиданий, а Гамилькар, мой супруг, вел себя как варвар. Я до сих пор вижу кошмарные сны с теми ужасными картинами. И сейчас, где-то на другом поле боя, все это снова повторяется. Наши возлюбленные становятся палачами или жертвами. Вот почему я решила больше не тревожить мужа. С тех пор я не вмешивалась в его дела. Мне было ненавистно то, что он заставил меня увидеть. Наверное, я никогда не пойму, как такой благородный человек мог совершать подобные действия. Из-за этого я провела большую часть жизни вдали от него. Моя любовь не угасала, но мне больше не хотелось оставаться рядом с ним на длительное время.
Не знаю, Имилце, поймешь ли ты мои слова, но я не советую тебе отправляться к мужу на войну. Не стремись понять его. Принимай супруга в мирные дни, когда он в твоих руках и смотрит на сына с любовью. Так будет лучше. Иначе, если ты узнаешь о войне слишком много, ты начнешь ненавидеть своего супруга. Мне бы не хотелось, чтобы ты разочаровалась в моем сыне.
– Такого никогда не случится, – прошептала Имилце.
– Тогда сохраняй свою неосведомленность. Пусть глупости мужчин останутся для тебя таинственной загадкой.
– Вы считаете, что они ничего не стоят?
– Ничего не стоят? – скривив губы, переспросила Дидо-бал. – Нет, я бы так не сказала. Мир растет на борьбе существ, обитающих в нем. Как пища питает тело силами, так и войны питают богов. Одно земное создание должно господствовать над другим. Я не хочу, чтобы нашу страну использовали, словно рабыню, поэтому ежедневно молюсь о победе сына. Что еще мы можем сделать? В день, когда эта война закончится, в каком-то месте начнется новая бойня. Ужасное правило, но так было всегда. И у нас нет причин думать, будто что-то изменится.
– Значит, мы никогда не сможем жить в мире?
– Да, пока не умрут боги, – сдержанно ответила Дидо-бал.– А мы обе знаем, что они бессмертны. Боги всегда найдут способ, чтобы заставить нас танцевать перед ними. Вот что означает рождение во плоти. Воистину, Имилце, я чувствую, что боги недовольны этой войной. Не знаю, что происходит, но беда надвигается на нас, как шторм, идущий с севера. Небеса предрекают бурю. Давай помолимся за всех моих сыновей.
Дидобал опустила ладонь на запястье снохи. Имилце почувствовала, как пальцы женщины, украшенные множеством перстней, сжались на ее руке. Это давление вызвало в ее уме образ гиганта и маленькой девочки.
– Прости мою прежнюю хитрость, – сказала Дидобал. – Ты мне нравишься, дочка.
* * *
Публий вывел из Остии флот, перевозивший десять тысяч пехотинцев и тысячу кавалеристов – ту малость, которую Рим выделил ему на этот год. Едва солдаты ступили на твердый грунт в порту Эмпорий, он начал восстанавливать их силы, истощенные путешествием. Присоединив к своей армии уцелевшие остатки местных легионов, он покинул греческий город. Ему не хотелось искушать притомившихся воинов дешевыми соблазнами. Молодой консул разбил лагерь вблизи и приступил к сбору полезных сведений. Прежде он никогда не был так занят делами и не управлял таким количеством людей. Каждый момент дня и ночи бросал свой вызов, и ему приходилось нести полную ответственность за жизни солдат. Он знал, Рим слишком далеко, чтобы он мог полагаться на чье-то руководство. Отныне иберийская кампания возлагалась на него, и только он отвечал за будущие победы или поражения. Лишь постоянная активность не давала ему задуматься о шаткости его позиции и важности миссии, которую он выполняет.
За семь дней Публий направил приглашения всем племенным вождям, уже признавшим власть Рима, и даже некоторым из тех, кто пока поддерживал союз с Карфагеном. Прибывающие делегации выказывали различную степень энтузиазма. Многие приезжали с жалобами, а не с обещаниями – с явной тревогой и скептическим отношением к такому молодому лидеру. Неужели у Рима не осталось опытных генералов? Почему к ним прислали мальчишку, у которого грудь едва поросла волосами? На что он рассчитывал там, где его отец и дядя потерпели неудачу, – особенно теперь, когда ситуация стала еще хуже? Корнелий и Гней были опытными командирами, с многолетним воинским стажем, с двумя армиями и силами союзников. Но их уничтожили. Теперь, после того как Магон Барка прибыл с пополнением, в Иберии действовали три карфагенские армии. Они прокатывались по стране, как грозовые облака, бросая молнии возмездия на прежних предателей. Ганнон приколотил вождя ваккеев к кресту и отправил пятьсот его юных соплеменниц в Новый Карфаген в качестве наложниц. Гасдрубал выжег дотла земли вдоль Тагуса от гор до самого моря, порабощая племена, уничтожая деревни, подчиняя их лидеров с презрительными плевками, на которые карфагенские генералы были большие мастера. Магон обложил южные племена новой данью. Он собирал огромную армию, похожую скорее на орду, и готовил ее для похода на Рим. Учитывая все эти обстоятельства, посланники племен просили Публия дать им гарантии, что новая римская армия не будет разбита и не сгинет со света, как их несчастные предшественники.
К своему удивлению, Публий довольно спокойно смотрел в эти настороженные глаза. Пока переводчики выслушивали сообщения вождей и передавали ему их суждения, он успел привыкнуть к иноземным лицам, одежде и поведению. Чем больше неуважения к нему демонстрировали иберийцы, тем тверже становился его подбородок, тем больше уверенности появлялось во взгляде, тем более плавными получались движения рук. Он не обещал им ничего конкретного, так как ни один человек не мог решать такие сложные вопросы. Но он планировал сражаться с карфагенянами так, как римляне раньше не сражались. Он напомнил вождям, что Сенат никогда не пытался договориться с африканцамм, поскольку его соплеменники понимали, что любая длительная война неизменно меняет свое направление. Да, до сих пор римляне часто ошибались, торопились там, где требовалось терпение, были честными, когда следовало хитрить, проявляли сдержанность, когда нужно было демонстрировать ярость. Во многих случаях они сражались неправильно. Даже его отец совершал ошибки. Но зачем их повторять?
Подобные речи вызывали разную реакцию, но при каждой новой встрече с племенными вождями Публий верил в свои слова все больше и больше. Он открывал в себе неведомые прежде черты дипломата и оратора. Однако время поджимало, и он не мог ждать милости вождей. Ни он, ни Лаэлий – всюду сопровождавший его как тень – не раскрывали своих планов, связанных с войной. Публий не доверял остальным офицерам. Его единственным компаньоном оставался верный друг. Только с ним он рассматривал варианты действий, карты Иберии и собранные данные. Они на четвереньках ползали по мраморному полу и обсуждали пути и подходы к врагу, начиная от самых явных и кончая более сложными. Они понимали, что им нужно нанести удар – чем раньше, тем лучше. Их армия не могла надеяться на пополнение из Италии. Судя по письмам из Рима, Ганнибал планировал нанести очередной удар, который еще больше усложнил бы их задачу. Они должны были завоевать доверие старых союзников и тем самым гарантировать себе возможность новых побед. Люди и народы охотно шли в компанию победителей.
Вот о чем думал Публий через два месяца после своего прибытия в Иберию. Раннее лето уже становилось сухим и знойным. Период любезностей с вождями подходил к концу. Публий чувствовал, что они начинали сомневаться в нем. Каждый проходящий день усиливал их колебания. Они как бы говорили: похоже, этот новый консул вообще не имеет какого-то плана действий. А истина заключалась в том, что он засыпал и просыпался, ел, ходил и ездил верхом с необъяснимой верой. Он находился на грани откровения, которое могло стать ключом, открывающим Иберию. Но чтобы взять его в руки, ему требовалось понять, как добраться до этого ключа.
Войдя в кабинет, он застал Лаэлия лежащим на картах. Тот делал какие-то записи на пергаменте. Его тело закрывало круги, отмечавшие три карфагенские армии. Левая нога упиралась в лагерь Гасдрубала в устье Тагуса. Правая нога покоилась на Столбах Геркулеса, где обосновался Магон. Торс располагался в центре полуострова, где Ганнон проводил очередную боевую операцию. Однако самое важное место оставалось неприкрытым. Оно находилось в совершенно другом регионе. И Публий вдруг понял, насколько оно было изолированным, уязвимым и слабо защищенным.
– Все это время мы думали только о собаках, а не об овце, которую они охраняют, – сказал Публий. – Лаэлий, что ты видишь с высот своей позиции?
Лаэлий встал и осмотрел разложенные карты. Он начал повторять свои прежние аргументы – что лучше всего напасть на силы Ганнона, так как, если верить поступавшим сообщениям, он имел проблемы с примкнувшими к его армии кельтиберийскими отрядами.
– Мы могли бы переманить их к себе...
Публий коснулся его запястья.
– Послушай, друг, помнишь, как ты спас меня при Каннах? Ты посоветовал мне осмотреть поле боя с другой перспективы, чтобы я увидел направление взгляда моего врага. Прислушавшись к твоим словам, я уцелел в том сражении. Отныне ты должен поступать подобным образом каждый новый день, каждый момент, пока все это не закончится. Баркиды не сражаются как римляне. Они ведут себя иначе, чем обычные люди. Теперь посмотри на карты и скажи мне, где их слабое место? Что связывает карфагенские армии, но находится вдали от них – незащищенное и выставленное напоказ?
Лаэлию потребовалось только одно мгновение, чтобы понять смысл его слов. Растерянность на лице помощника сменилась смутным пониманием. Затем уголок его рта приподнялся в усмешке.
Когда через две недели они направились на юг, их отряды перемещались с удвоенной скоростью. Лаэлий и несколько кораблей под его руководством скрытно двигались вдоль берега. Разделившись на мелкие отряды, кавалерия прочесывала местность и убивала каждого, кто мог выдать их маневры. Публий рассказал о цели похода только нескольким избранным офицерам, а их было не больше, чем пальцев на одной руке. Он так настаивал на секретности, что сообщал двадцати тысячам воинов лишь те сведения, которые им следовало знать на текущий день. Для дальнейших побед в Иберии ему требовался успех в самом первом деле. Он ничего не оставлял на случай и поэтому ежедневно общался с людьми. Во время похода Публий скакал рядом с солдатами и поднимал их боевой дух. Все должно перемениться, говорил он им. Сами боги подсказали ему это. Их армия в Иберии больше не будет участвовать в мелких стычках. И они не будут сражаться без ощутимой выгоды. Они никогда не станут делить свои силы и полагаться на верность иберийцев. Их легион будет наносить решительные и выверенные по времени атаки. Скрывая свои маневры, они не позволят Баркидам раскрыть их действия вплоть до момента нападения. Да, Ганнибал уже переписал многие правила войны, но теперь пришла их очередь. Они возьмут перо из его рук и допишут свое окончание истории.
Его армия обошла Акра-Лееку на большом расстоянии, переправилась вброд через реку Сегуру и добралась до мыса Пал. Миновало семь дней, однако многие воины изумились, ког да увидели очертания города. Никто из них не верил, что это место и было целью их похода. Они тщетно искали какое-то другое объяснение тому, что их маршрут пролегал так близко к карфагенской столице в Иберии. Многие солдаты опустились на землю, чтобы обдумать безумный план, приведший их в пасть к врагу. Они поняли, что консул решил напасть на Новый Карфаген.
Их появление застало местных жителей врасплох. Сонные пастухи поднимались из травы не более чем в броске копья от передовых отрядов. Взглянув на отряды, они поняли, что видят перед собой римскую армию. Многие из них попытались убежать, но пали замертво от метких дротиков кавалерии. Рабы, прекратив работу, смотрели на римлян с ближайших полей. Вскоре на дозорной башне взревела огромная труба. Горожане бросились к воротам, как кролики к норе. Перед тем как большие створки захлопнулись, шесть всадников помчались из города в разных направлениях, унося предупреждения Баркидам. Это были гонцы. По указанию Публия за ними погнались патрульные отряды.
– Догнать и убить, – приказал проконсул. – Никто не должен ускользнуть.
Тем же вечером, разбив палаточный лагерь у основания перешейка, Публий обратился к собравшимся отрядам.
– Город за моей спиной – это величайший монумент карфагенской власти в Иберии, – сказал он. – Из него в Африку переправляются богатства всего континента. В нем собрана огромная добыча его удаленных хозяев. Нас ждут сокровищницы, доверху набитые серебром, янтарем и золотом, склады с оружием и осадными механизмами, кузницы с железной рудой и огромными горнами, где создаются орудия войны. Там в городе нас ждут дворцы со слугами и фонтанами, которые в праздничные дни наполняются вином. Мы вскоре увидим храмы, где африканцы совершают жертвоприношения своим темным богам. Мы прогуляемся по дивному лесу с экзотическими животными, привезенными из Африки. Стены города будут защищать многие тысячи людей, но это торговцы и моряки, аристократы, жрецы и чиновники, иберийские пленные, рабы, старики и молодежь. Они не солдаты. И когда мы победим их, нам достанется великое множество женщин. Разве Гасдрубал не похвалялся тем, что держит при своем дворе тысячу красавиц?
Две последние фразы Публий произнес для украшения речи, но, порадовавшись произведенному эффекту, он заговорил с еще большим энтузиазмом.
– Вот что ждет вас в этом городе! А кто защищает его? По моим сведениям, там меньше тысячи солдат. Да, меньше тысячи! Возможно, вы удивитесь этому, но поставьте себя на их место. Они не ожидали, что мы направимся сюда. Африканцы настолько уверовали в свое превосходство в этом регионе – они так долго сеяли здесь разрушение, – что перестали замечать свою уязвимость. Они похожи на Ахиллеса, который, имея лишь единственное слабое место, пал от стрелы врага, попавшей именно туда. Где была его мудрость? Почему он не придумал железную защиту, которая прикрыла бы его? Ведь она сделала бы его абсолютно непобедимым! Но нам нужно учесть один фактор. Мы не одни в наших битвах на земле. Армии смертных людей сражаются на малой сцене, за которой наблюдают боги, а они никогда не позволяют одному народу быть идеальным во всем. Я верю, что Аполлон предложил нам этот город в дар. Только не говорите мне, что я ошибаюсь. Только не говорите мне, что вы не хотите отобедать в залах Баркидов!
Позже Лаэлий сказал командиру, что тот развил впечатляющий талант оратора. Услышав его похвалу, Публий улыбнулся и ответил, что Лаэлий тоже развивает впечатляющий талант – делать из мухи слона. Они два дня обсуждали план осады, перемещали отряды и производили разведку местности. Особое внимание уделялось внешней бухте, рифам на мелководье, а также приливам и отливам во внутренней гавани. Весь второй день консула сопровождал рыбак, который долго прожил в Новом Карфагене. Недавно он был обижен важными людьми и разорен до нитки. Этот мужчина ненавидел город и в то же время знал подробности, которые так сильно интересовали Публия.
Атака началась на четвертое утро, и в ней, на первый взгляд, ничего особенного не было. Дождавшись рассвета, легионеры нагрузились высокими лестницами и направились на перешеек. Они шли вперед под фланговым прикрытием лучников. Залпы стрел с горящими наконечниками посылались далеко за стены на крыши домов. Из городских ворот появился небольшой отряд, но, оценив численность атакующих противников, солдаты карфагенского гарнизона быстро оттянулись назад. Публий шагал в передних рядах, прикрытый щитами трех оруженосцев. С бесстрашным видом он подгонял солдат, напоминал им о долге и распалял их жажду мести. «Соотечественники, – кричал он легионерам, – в этом городе Ганнибал превратился в мужчину. Здесь он планировал уничтожение Республики, бесчестие римских женщин и победу над их родиной. В этих стенах он мечтал превратить их в своих рабов!»