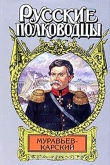Текст книги "Судьба генерала Джона Турчина"
Автор книги: Даниил Лучанинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
ТИТУЛОВАННЫЙ ЛИТЕРАТОР
На бастионе появился новый офицер, прикомандированный артиллерийским штабом к турчаниновской батарее.
– Подпоручик граф Толстой, – представился он, стукнув каблуками, и пожал Турчанинову руку.
– Кажется, мы с вами уже знакомы, – приветливо улыбнулся Иван Васильевич, признав офицера, с которым переправлялся на ялике через Севастопольскую бухту.
На время своих дежурств Толстой устроился в оборонительной казарме – длинном зале под тяжелыми каменными сводами, где стояли, высунувшись в амбразуры, крепостные орудия. Здесь жило бастионное офицерство, все вместе – артиллеристы, пехотинцы, моряки. Интерес к новому сослуживцу сразу же возрос, когда казалось, что он, находясь при штабе, осведомлен о только что закончившемся сражении при Инкермане. Вокруг усевшегося на каком-то ящике подпоручика собрались батарейцы, посыпались вопросы. Ничуть не чванясь, тот принялся рассказывать о недавнем деле.
В Крым, по его словам, прибыли с севера крупные подкрепления. Главнокомандующий, стоявший с армией на Северной стороне, решил перейти в наступление и атаковал позиции англичан на Инкерманских высотах, чтобы прорваться в стык между двумя корпусами. Англиине дрогнули, стали было отступать, но тут подоспели французские войска и отбросили наших назад...
А с какой отвагой бросались наши солдаты в штыки! Как стойко держались под убийственным огнем! Суворовские чудо-богатыри... Подпоручик рассказывал с увлечением, блестя глазами, жестикулируя.
– А каковы наши потери? – задал вопрос Турчанинов. Зайдя по делу в казарму, он услышал, что рассказывает Толстой, и присел на пушечном лафете послушать.
– Говорят, больше десяти тысяч, убитыми и ранеными, – проговорил Толстой серьезно и печально.
– Почти треть участвовавших в сражении, – уточнил Турчанинов вслух, но как бы для себя, и больше уже не задавал вопросов.
Штабс-капитан Коробейников крякнул, остальные офицеры промолчали. Помолчал и граф. Из всего услышанного складывалась довольно-таки невеселая картина: у громадной массы русских войск не было в тот день руководства. Отряды бросались в бой разрозненно, по частям, и уничтожались превосходящими силами противника. Генерал Даненберг растерялся и оказался совершенно беспомощным. Сам Меншиков находился в то время вдали от поля боя, в Георгиевской балке, где приятно проводил время с прибывшими в Крым великими князьями. Впрочем, стратегические свои таланты главнокомандующий достаточно показал еще во время первой встречи с врагом – сражении при Альме, после чего в войсках Меншикова стали называть Изменщиковым.
Толстой сказал:
– В артиллерийском штабе все убеждены – неприятель не возьмет Севастополя.
– Конечно, не возьмет! – пылко откликнулся прапорщик Ожогин.
– Есть три предположения, – продолжал Толстой, одарив его благожелательным взглядом. – Или он пойдет на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, чтобы прикрыть свое отступление, или укрепляется, чтобы зимовать. Более всего вероятно второе.
– А пойдет на приступ – получит по зубам! – воскликнул Ожогин в мальчишеском задоре. – Ну чего смеетесь, господа? Думаете, не получит?
– Мишенька, вы прелесть! – сказал с польским акцентом сухощавый, горбоносый, чрезвычайно учтивый поручик Лясковский. Из-под нарочито расстегнутого потертого сюртука у него виден был атласный, правда несколько замасленный, жилет, а на пальце с грязным ногтем сверкал в перстне фальшивый бриллиант.
Подпоручик Толстой произвел на батарейных офицеров самое благоприятное впечатление. Хорошо воспитан, ко всем внимателен, прост, ни тени какой-либо заносчивости или чванства. А ведь штабист...
– И не подумаешь, что граф! – восхищался после его ухода Ожогин, почувствовавший к новому сослуживцу горячую симпатию.
О том, что подпоручик Толстой – литератор, произведения которого печатаются в столичных журналах, на батарее узнали совершенно случайно, сам он ничего не говорил. Турчанинов вспомнил прочитанную им перед войной повесть «Детство», отличную, крепко уложившуюся в памяти повесть, и с того дня совсем иными глазами стал глядеть на молодого некрасивого офицера с пытливым взором, испытывая даже в душе некоторую неловкость, когда приходилось отдавать ему служебное приказание. Как-то в спокойный час зашел у них литературный разговор, и тут Иван Васильевич признался, стыдливо улыбаясь и перестав ощущать себя командиром батареи, что и сам в мирные времена кое-что пописывал. Для души...
– Славно! – воскликнул Толстой, будто осененный удачной мыслью, и, улыбаясь, крепко потер руки. – Знаете что, Иван Васильевич? Я как раз подбираю хороших, порядочных людей, владеющих пером. У нас в артиллерийском штабе родилась мысль выпускать журнал.
– Журнал? – поднял бровь Турчанинов.
– Да, военный журнал, с целью поддерживать хороший дух в войске. Журнал должен быть дешевый и популярный, чтобы читали солдаты. Я избран редактором. Деньги на издание даем я и некто господин Столыпин, капитан. Уже и название есть: «Военный листок».
– Что ж, очень хорошо, – искренне одобрил Турчанинов.
– Будем помещать описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах. Подвиги храбрости, биографии и некрологи хороших людей, преимущественно из темненьких. Военные рассказы, популярные статьи об артиллерийском и инженерном искусстве, солдатские песни... Я надеюсь, что журнал будет полезный не совсем скверный.
– Не скромничайте, Лев Николаевич! – засмеялся Турчанинов. – Хороший будет журнал... А разрешение получено?
– Князю Меншикову проект, который мы представили, очень понравился. Теперь дело за разрешением самого государя... Признаться, боюсь, что не разрешит.
– Почему так думаете?
Подпоручик с юмористически смущенным видом потер двумя пальцами нос.
– Видите ли, в пробном листке, который мы послали в Петербург для ознакомления, неосторожно помещены две статьи, в том числе моя, не совсем православные...
Большую часть времени подпоручик Толстой проводил у пушек, где следил за порядком на батарее, вел наблюденье за неприятелем. Турчанинов был доволен: храбрый, исполнительный офицер, хороший служака.
Случилось как-то Ивану Васильевичу обсуждать с фельдфебелем хозяйственные дела. Речь шла о фураже.
– Так что, ваше высокородие, овса у нас осталось всего ничего. Лошадей нечем кормить, – гудящим басом докладывал, стоя перед ним, бравый, хитроглазый усач фельдфебель при медалях и с тесаком на боку. – Прикажите фуражиру в обозе, пущай привезет.
– Погоди, Ковалев, – сказал Турчанинов, прислушиваясь. – Что за стрельба?
Над крышей блиндажа внезапно начали грохотать один за другим орудийные выстрелы. С низкого, выпирающего толстыми сосновыми бревнами потолка сыпалась земля. Кусок глины шлепнулся на стол. Турчанинов смахнул рассыпавшиеся желтые крошки, встал из-за столика. Набросил на плечи шинель, вылез из душного подземного жилья на свежий воздух и в расходящемся пороховом дыму увидел Толстого, – окруженный орудийной прислугой, подпоручик сам наводил пушку. Вот выпрямился, отступил на шаг в сторону, высоко поднял и с силой бросил вниз руку.
– Огонь!
Приземистый, круглолицый фейерверкер Березкин поднес тлеющий фитиль и тоже отступил вбок. Длинное желтое пламя выбросилось из медного жерла, пушка ахнула, окуталась дымом и, будто ожила, сама откатилась на несколько шагов назад. Пушкари вкатили ее на прежнее место.
– В самую точку, ваше благородие! – радостно крикнул наблюдатель.
– Лев Николаевич! – позвал Турчанинов.
Подпоручик, указывая то на орудие, то в сторону неприятеля, продолжал что-то объяснять Березкину, который слушал его с почтительно-недоверчивым видом. Турчанинов окликнул громче – на сей раз Толстой услышал. Подбежал. Темная от загара рука придерживала висевшую через плечо саблю. Они несколько отдалились от батареи – Иван Васильевич не желал, чтобы слышали разговор солдаты.
– Что это за пальбу вы подняли?
В тоне вопроса чувствовалось явное недовольство, и с лица подпоручика сбежало выражение готовности и веселого, почти озорного оживления, с каким было он подошел к батарейному командиру.
– Вам известен приказ вице-адмирала? – продолжал Турчанинов, мягко перебивая пытавшегося что-то ответить молодого офицера. – Снаряды предписано беречь, на два-три неприятельских выстрела отвечать одним выстрелом. А лучше и вовсе не отвечать, в ожидании штурма... В будущем соблаговолите помнить, Лев Николаевич.
БЕЛЫЙ ВОЛДЫРЬ
«...Вот и новый год начался, а мы все воюем, друг мой Евгений. Уже четыре месяца не умолкает гром пушек, день и ночь слышим его над собой. Но Севастополь держится, и будет держаться, и пока живы – не отдадим его врагу. Ни секунды я не сожалею и не раскаиваюсь в том, что сам попросился направить меня в Севастополь. Мы с тобой солдаты. Наш долг – если напал на Россию враг, быть там, где стреляют и где льется кровь...»
Письмо было адресовано Григорьеву, который сейчас находился далеко отсюда, в Закавказье, на турецком фронте.
В сущности, не только лишь повинуясь патриотическому чувству, пошел Турчанинов на войну. Год уже минул со смерти Софи, а все не покидало Ивана Васильевича ощущение внутренней черной, мучительно сосущей сердце пустоты. По-прежнему не находил себе места в осиротевшей петербургской квартире, где каждая мелочь напоминала о навсегда ушедшей. Война, представлялось Турчанинову, должна была душевно выпрямить его. Но стоило ли писать Григорьеву об этом – глубоко личном, потаенном?..
Турчанинов задумался, глядя на розоватый, с темной, внизу подсиненной сердцевиной огонек свечки, воткнутой в горлышко пустой бутылки, – огонек вздрагивал, вытягивался... Прозрачные, сползающие на стекло капли тут же мутнели и застывали... Из полутьмы блиндажа доносился могучий, с переливами, храп Воробья.
«Как твоя военная жизнь? – вновь принялся писать Иван Васильевич, макнув перо в пузырек с жидкими писарскими чернилами. – В прошлом письме я уже уведомил тебя о новом офицере на нашей батарее, графе Толстом, который оказался известным литератором. Человек очень приятный, с глубоким умом и с большой душой. К сожалению, пробыл он у нас только месяц, а затем был назначен на батарею под Симферополем. Не знаю, читал ли ты его повесть «Детство», напечатанную в журнале. Если не читал, прочти обязательно...»
Низенькая дверка блиндажа открылась, вместе с клубом морозного пара появился укутанный башлыком Коробейников, сегодняшний дежурный по батарее. Пугливо метнулся, готовый погаснуть, слабенький огонек свечи, Турчанинов защитил его ладонью.
– Пора, Иван Васильевич, – сказал штабс-капитан, покашливая, – через пятнадцать минут.
Их охватило жесткой свежестью морозного воздуха. Высоко и одиноко повис в небе стеклянный кружок ущербной луны. Зеленый подводный свет озарял покрытые недавно выпавшим снегом туры, брустверы, горбы блиндажей, кровли казарм – все это как бы отлитое из гипса. Ночь выдалась спокойная. Лишь иногда оранжево вспыхивала, осветив темный небосклон, зарница пушечного выстрела – чаще французского, чем нашего, – и, прочертив пологую огненную дугу, пролетала бомба, чтобы упасть на какой-нибудь из бастионов.
– Пу-ушка!.. – слышался тогда в тишине предостерегающий возглас наблюдателя.
Спотыкаясь о торчащие из-под снега бомбы и осколки, Турчанинов с Коробейниковым шли среди батарей, у которых хохлились, потопывая ногами, озябшие часовые. Резкие тени скользили по пятам, переламываясь то на ступенчатом пушечном станке, то на круглом плетеном боку туры.
– Мельников уже здесь? – спросил Турчанинов.
– Здесь. С командиром бастиона наблюдают.
В каком-то блиндаже, похожем на снежный сугроб, над которым поднимался освещенный исподнизу дымок и крутились красные искры, открылась на секунду дверь, выпустив полосу слабого света. Вылез сонный солдат, поскрипывая снегом, отошел в сторону справить нужду:
– Домой писали, Иван Васильевич? – спросил Коробейников.
– Да.
– Я вот никак не соберусь написать... Сынишка у меня, двенадцать лет ему, спрашивает: «Когда же, папенька, вы прогоните французов и вернетесь к нам?..» Что ему напишешь?
– Напишите, что уже скоро, – посоветовал Турчанинов, впрочем сам не веря тому, что говорит.
– Эх, Иван Васильевич! – хмуро, как бы с досадой, сказал Коробейников. – Нешто не видите, как воюем? Что делается?.. Не хочется обманывать ни себя, ни семью.
Турчанинов поглядел на мрачного штабс-капитана с интересом.
– Как-то странно вы говорите, Коробейников. Ведь вы же русский офицер.
– Это я знаю, что русский офицер. Не беспокойтесь, сумею умереть за веру, царя, отечество. Не хуже других... Да только умереть-то хочется с толком, Иван Васильевич.
– А что значит с толком?
– Вон и командир бастиона, – сказал штабс-капитан, уклоняясь от ответа.
Шесть-семь неподвижных фигур – дежурные по бастиону морские и пехотные офицеры, – темнели у одного брустверов: собрались возле амбразур, выдыхая парок, за чем-то наблюдали. Приближаясь, Турчанинов услышал барственный, грассирующий голос Завадовского – командир бастиона тоже не спал:
– Вы вполне уверены в успехе, штабс-капитан?
В ответ прозвучал негромкий басок стоявшего с ним невысокого офицера:
– С нашей стороны, Александр Иванович, сделано все. Контрмина подведена, камера приготовлена, заложено двенадцать пудов, ход забит мешками с землей...
– А гальванический запал сработает?
– Должен сработать, Александр Иванович. Турчанинов узнал штабс-капитана Мельникова, руководившего секретными подземными работами, что уже давно велись на бастионе.
– Так вы уверены, что они ведут именно в этом направлении? – с беспокойством продолжал Завадовский.
– Подпоручик Петрашкевич ясно слышал над собой работу французского минера.
– Когда это было?
– В ночь на девятнадцатое января. Следственно, направление контрмины правильное. Я решил подпустить их ближе... Двое суток ждем гостей.
– Угостите?
– Угостим на славу, Александр Иванович.
Офицеры негромко засмеялись. Кто-то молодым веселым голосом сказал:
– Tu l’as voulu, George Dandin![8]8
Ты этого хотел, Жорж Данден! (Из пьесы Мольера «Жорж Данден»)
[Закрыть]
Приник к дыре между заиндевелых мешков и Турчанинов. Штабс-капитан Коробейников, тепло дыша в щеку водочным перегаром, тоже глядел. Широкая, пустынная, припорошенная снежком лощина холодно и безжизненно искрилась под луной. Находившаяся за лощиной, скрытая темнотой, неприятельская траншея не подавала признаков жизни.
Какая обманчивая, какая коварная тишина! Представилось Турчанинову: глубоко в земле, под этой безлюдной зимней равниной, вот в эту самую минуту роют французские саперы длинную галерею. Роют, проклятые кроты, подземный ход в направлении 4‑го бастиона, чтобы подкопаться под бастион, заложить чудовищной силы пороховую мину и – отправить к чертовой матери все сооружение, вместе с людьми и орудиями. А едва смолкнет грохот взрыва – в дымящуюся пылью огромную брешь с развевающимися красно-бело-синими знаменами, с победным криком, хлынут тысячные колонны...
Глухо стучат под землей кирки и лопаты, скрипят нагруженные землей тележки, без устали работают полуголые, мокрые от пота, грязные люди. День и ночь трудятся французские саперы и не подозревают, что шаг за шагом все ближе придвигаются к своей гибели, что давно уже разгадан хитроумный замысел их штаба, что навстречу им, глубоко под ними, русские саперы и пехотинцы ведут от бастиона контрмину, чтобы подорвать их на полпути к укреплениям и навеки похоронить под землей. И с этой стороны, задыхаясь от пыли, от копоти свечей, тоже работают в духоте и тесноте подземной галереи полуголые грязные люди, и так же день и ночь стучат здесь кирки и лопаты, так же скрипят тележки с отработанной породой...
– Весь вопрос – не упустить времени, – сказал командиру бастиона Мельников. – Вовремя угадать, в каком направлении они ведут мину... Так я, Александр Иванович, и жил под землей. Почти не вылезал.
Вытащил часы с золотой болтающейся цепочкой, взглянул, в лунном свете блеснуло стекло циферблата. Впрочем, не только Мельников, поглядывали на часы и Завадовский и кое-кто из офицеров.
С каждой минутой нарастало томленье общего наряженного ожидания. Взорвется контрмина или не взорвется? А вдруг не взорвется? Сработает ли гальванический запал?.. Турчанинов был захвачен общим волнением, но, поглядывая на Мельникова, видел, что тот, хоть и пытается скрыть, волнуется больше всех.
Далеко в стороне от того места, куда все глядели, внезапно началась усиленная ружейная стрельба, по линии неприятельских окопов, беспорядочно вспыхивая и ухая, засверкали в темноте сотни колючих искорок.
– Вылазка! – сказал Завадовский, глядя в ту сторону. – Как будто на шестом бастионе?
– На шестом, Александр Иванович! – услужливо откликнулся один из моряков.
Сквозь суматошную трескотню выстрелов пробился далекий многоголосый крик, застывший на одной протяжной, стонущей ноте.
– Рукопашная... Ну, теперь пошло! – как бы с удовольствием сказал Турчанинову штабс-капитан Коробейников, когда и стрельба, и отдаленное «ура» внезапно оборвались и настало молчание. Только редкие хлопки цельных выстрелов слышались теперь.
– А знаете, это невольно как-то бодрит, – сказал Мельникову командир бастиона, закуривая сигару, – осветились рыжеватые усы с подусниками. Штабс-капитан Мельников, не отвечая, глядел на часы.
– Помню, – продолжал Завадовский, – однажды его светлость князь Меншиков...
– Смотрите! – крикнул кто-то.
В сияющей синеве лунной зимней ночи стало видно, как на ничейной полосе между нашими и французскими окопами заснеженная земля внезапно шевельнулась и стала пучиться. Почва под ногами Турчанинова затряслась, откуда-то исподнизу донесся глухой гул – будто сама земля испустила сильный и тяжкий вздох.
– Слава богу! – воскликнул штабс-капитан Мельников и, сняв шапку, перекрестился.
На минуту лощина вспучилась под луной большим белым волдырем, затем белый волдырь, разваливаясь и чернея на глазах, осел и превратился в глубокую, неожиданно возникшую на ровном месте впадину.
– Ура-а! – завопил, не сдержавши восторга, какой-то мичман, и все подхватили ликующий крик.
В ОГНЕ И ДЫМУ
Такого полковнику Турчанинову еще не пришлось испытывать.
Рано утром 28 марта по сигналу ракеты неприятельские батареи открыли по всей оборонительной линии огонь, который продолжался, день и ночь, ровно десять суток, по 6‑е апреля.
Бомбы падали, падали, падали, разрушали траншеи и брустверы, рвались среди пушек, били по блиндажам, по землянкам, по казармам, по пороховым погребам. Повсюду черными косматыми взбросами дыбилась земля, высоко взлетали камни, расщепленные обломки дерева, какие-то кровавые лохмотья. Грохот разрывов и повизгивание летящих во все стороны осколков смешивались с несмолкаемым разнобойным грохотом пушечных выстрелов, с командными криками, со стонами раненых, которых не было времени подбирать. Над батареями вспухали, разрастаясь, клубы дыма, смешивались с дымом разрывов, с поднятой пылью, в клубящейся то беловатой, то бурой мгле поминутно, сразу в нескольких местах, сверкали молнии выстрелов и мелькали, как тени, пушкари с банниками. Крепостная артиллерия вела яростный ответный огонь по врагу.
В те дни Турчанинов не мог знать, что по Севастополю непрерывно бьют около пятисот осадных орудий, не считая более мелких калибров, что хотя им противостоит с нашей стороны почти такое же количество пушек, но артиллерия противника подавляет и своим калибром, и количеством выпускаемых снарядов.
Иван Васильевич, закоптелый, разгоряченный, не отходил от пушек, наблюдая за работой своих людей. Все сейчас работали у орудий в злом, самозабвенном азарте. С черными от пороха лицами, оглушенные и отупелые, многие без мундиров, в разорванных, грязных рубахах, солдаты как бы не замечали того, что творилось вокруг, и старались только делать свое дело как можно лучше. Когда, сраженный осколком, падал один, тут же на его место становился другой. Они без устали подносили снаряды, заряжали пушку, забивая мохнатым банником ядро в разогревшееся медное дуло, стреляли, затем, хватая спицы зеленых колес, втаскивали откатившееся после выстрела, дымящееся орудие на прежнее место, снова заряжали и наводили на цель, раздув тлеющий фитиль, вновь прикладывали его к запалу... «Бей сначала по ближним батареям! – кричал Турчанинов артиллеристам, наблюдая, как они работают. – Подавил – переходи на дальние». Заметив, что соседний бастион, на который градом сыплются неприятельские бомбы, все реже отвечает сверканьем выстрелов, Иван Васильевич приказал перенести огонь на бьющие по соседу неприятельские пушки. Случалось, молча отстранив рукой наводчика, давшего промах, расстегнув тесный воротник сюртука, сам принимался наводить орудие. «Есть! Подбили, вашскородие! Вон убитых понесли!..» – слышались после выстрела радостно-одобрительные восклицания солдат. «Так и действуйте, братцы!» – говорил Турчанинов, переходя к следующему орудию.
В общем грохоте и шуме Иван Васильевич узнавал сорванные голоса своих офицеров, выкрикивавших одну за другой команды. Вон машет рукой поручик Лясковский. Вон штабс-капитан Коробейников помогает солдатам подносить снаряды... «Носилки-и дава‑ай!» – опять кричит кто-то: упала бомба, кого-то тяжело ранило...
В дымной мгле порой Турчанинов видел знакомую сутулую фигуру в золотых эполетах. Стоит с новым командиром бастиона Реймерсом, говорит что-то, указывая подзорной трубой на неприятельские позиции. Капитан-лейтенант Реймерс, сухощавый, белобрысый, подтянутый немец, слушает с почтительным видом, искоса поглядывая на пролетающие снаряды... Нахимов, только что получивший звание адмирала, в эти дни чаще обычного наведывался на 4‑й бастион.
По ночам бомбардировка несколько затихала, все же пролетающие туда и сюда бомбы полосовали высокое темно-синее звездное небо огненными пересекающимися кривыми. Мигающие вспышки выстрелов освещали работающих в потемках людей. Одни, с лопатами в руках, копали землю, другие таскали ее – кто на носилках, кто взвалив тяжелый мешок себе на спину. То, что было разрушено обстрелом за день, восстанавливалось ночью. В промежутках между выстрелами слышались скрипенье колес и окрики возчиков, привозивших на бастион туры, доносился говор. Утром обстрел возобновлялся с новой силой.
Турчанинов по-прежнему проводил время на батарее. «Снаряды беречь, зря не тратить! – строго наказывал он артиллеристам. – Стрелять только наверняка». (Уже на второй день бомбардировки на бастионе сказалась нехватка в снарядах). Закоптелое лицо его осунулось и заросло темной щетиной, глаза ввалились, он, как и все вокруг, наполовину оглох от стрельбы. «Выстоять чего бы то ни стоило! – воспаленно горело в мозгу. – Пока жив, пока двигаюсь – выстоять!..» Все в том же состоянии азарта, упорства и ненависти к врагу он питался кое-как, на ходу, спал не более двух-трех часов в сутки, валясь на койку в сапогах и сразу же куда-то проваливаясь.
Впоследствии не помнил Турчанинов, когда это произошло – на четвертый или на пятый день. Он заметил, что прапорщик Ожогин после каждого выстрела вскакивает на бруствер и, высунувшись по пояс, проверяет, куда попала бомба. Испачканный сюртучок, под которым видна голубая рубашка, распахнут, из-под заломленного картуза с кокардой выбился кудрявый чуб, щеки пламенеют. «Молодцы! Давай еще! Покажем, ребята, проклятым французишкам!» – размахивал он руками, приправляя речь солдатским матерком, наверно для пущей лихости. И артиллеристы, глядя на молоденького, веселого и смелого своего офицера, слыша его звонкий, бодрый голосок, проворней заряжали орудие.
«Ожогин!» – крикнул Турчанинов, поймав себя на том, что невольно любуется этим хорошеньким храбрым мальчиком. Прапорщик подбежал к нему, разгоряченный, с веселой готовностью глядя шалыми глазами. «Слушайте, Ожогин, – сказал Турчанинов. – Риск, говорят, благородное дело, однако попусту рисковать не стоит. Все и так знают, что вы не трус». – «Слушаюсь, Иван Васильевич!» – засмеялся польщенный прапорщик.
Едва Турчанинов отошёл на несколько шагов, как бомба ударила в пушку. Когда развеяло вонючий дым, оказалось, что орудие, у которого расщеплено колесо и поврежден лафет, выведено из строя, а на земле лежат ва человека. Один – наводчик – повалился на бок, держался за живот окровавленными пальцами, поджав ноги в грубых сапогах с подковками, и тихо, размеренно, как бы притворно, стонал. Другой был Ожогин. Прапорщик лежал, раскинув руки, в знакомой Турчанинову безжизненной неподвижности, но лицо у него, как показалось в первый момент, было почему-то накрыто красным платком. «Откуда этот красный платок?» – подумал Иван Васильевич и тут же с ужасом, с рванувшей сердце жалостью и болью понял, что лица у Ожогина нет. От лица остались только лоб, к которому прилипла черная прядь, да подбородок. «Ну чего смеетесь, господа? Думаете, не получит по зубам?» – вдруг отчетливо прозвучало в ушах Турчанинова... «Ложись!» – закричали в этот момент за его спиной, и он услышал нарастающее пришепетыванье в воздухе. «Прямо сюда летит», – мелькнуло у Ивана Васильевича, когда он растянулся плашмя на земле. Мимо него взвизгнуло, шлепнулось где-то недалеко... Он лежал, зажмурясь, ощущая грудью холод мокрой грязи, и ждал, что вот-вот рванет, как только что рвануло у пушки, но разрыва все не было. Приподняв голову, Турчанинов посмотрел, что с бомбой, и удивился: на том месте, где она должна была находиться, ничего не было. Но тут он похолодел всем телом – похолодел от корней шевельнувшихся на голове волос до поджавшихся в сапогах пальцев. Недалеко от него, в зарядном ящике, черт знает каким рикошетом попав туда, крутился темный шар с горящей запальной трубкой. Ящик был оставлен у двери порохового погреба, впопыхах ее забыли закрыть. С обостренной ясностью видел Турчанинов и эту бомбу в ящике, и эту распахнутую, сбитую из толстых неоструганных горбылей дверку, открывающую черную квадратную дыру входа. «Сейчас рванет. Погреб раскрыт, детонация, вся батарея взлетит на воздух...» И больше уж ничего он не сознавал. Не он, а кто-то посторонний, неведомой силой поднятый с земли, бросился к зарядному ящику, в котором, все еще крутясь, злобно шипела бомба. «Братцы-ы, за мной!..» Его это был голос или, задыхаясь, завопил кто-то другой? «После падения бомбы запальная трубка горит еще от пяти до десяти секунд... От пяти до десяти секунд...» Что было сил налег он на ящик, заскрипев зубами от натуги и отчаянья – нет, невмочь сдвинуть с места... Но тут рядом с собой увидел Березкина, поручика Лясковского, знакомые лица. Человек десять кинулись от пушек к нему на подмогу, мигом оттащили тяжелый ящик в сторону от погреба и едва успели вновь залечь, как тяжко грохнуло, с огнем, оглушив всех, повалил дым. Взорвался ящик с оставшимися там снарядами. Ящик, но не пороховой погреб.
С невыразимым душевным облегчением поднялся Турчанинов на ноги и почувствовал, как вдруг подогнулись под ним, обмякнув, колени и по всему телу тошно разлилась слабость. «Спасибо, братцы», – проговорил он и сквозь гудящий звон в ушах не услышал собственного голоса. Что-то говорил ему Березкин, немо шевеля губами, показывая себе на голову.
Турчанинов понял, тронул ладонью затылок, шею – все там было мокро, волосы слиплись, внезапно ощутилось жженье. Ладонь стала красной от крови. «Пустяки, царапина!» – беззвучно сказал он артиллеристам и махнул рукой, приказывая, чтоб разошлись по своим местам.