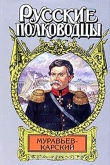Текст книги "Судьба генерала Джона Турчина"
Автор книги: Даниил Лучанинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЗНАКОМСТВО
Впервые судьба столкнула Турчанинова с той, кого ввали Моисеем, за несколько месяцев перед тем.
Как-то ранним осенним вечером, в сумерках, когда он сидел у себя, работая над заказанным ему чертежом, на улице послышался приближающийся конский топот. Ивану Васильевичу показалось – кто-то вбежал на крыльцо. Он поднялся из-за стола и с лампой в руке вышел в темные сени. Входная дверь была почему-то открыта. Турчанинов притворил ее, и тут лампа осветила прижавшуюся к стене и со страхом на него глядевшую негритянку. Она притаилась за дверью, она держалась за грудь. Сверкнувший крутыми белками отчаянный, молящий взор, темный палец, приложенный к губам, – молчи, дескать...
Иван Васильевич поглядел, высоко подняв лампу, быстро закрыл железный засов и, не говоря ни слова, показал беглянке на лесенку, что вела на чердак. Проворно и бесшумно, точно кошка, негритянка взлетела, подобрав юбки, по крутым ступенькам наверх и пропала в темноте.
Погоня проскакала мимо дома не останавливаясь, глухой галоп затих вдали. Турчанинов запер чердачную дверцу на замок и вновь принялся за работу.
С той самой ночи дом Ивана Васильевича стал одной из промежуточных станций «подземной железной дороги».
Несколько раз после того, уверившись в человеке, который не только не выдал ее, но и дал пристанище, навещала его таинственная негритянка, всегда появляясь ночью и ведя с собою трех-четырех беглых. Турчанинов прятал их у себя и тем либо иным способом давал знать на соседнюю «станцию» знакомому квакеру, в поселок, расположенный в нескольких милях от городка. Следующей ночью квакер, а чаще его сын, приезжали за беглецами, прятали их под кладью на дне большого крытого фургона и отвозили к себе.
Турчанинову случалось бывать в скромной, строгой и трудолюбивой семье Мак-Грэгоров. Сам хозяин, молчаливый шотландец со светлой кудрявой бородой викинга и детскими глазами, в неизменной темной куртке и темных штанах, ровный и приветливый со всеми, в свободные часы сидел обычно, надев очки, над раскрытой Библией – палец у него двигался по строчкам, губы под усами беззвучно шевелились. Все квакеры одевались так, в темные тона, скромно и просто. Такой же стати была и миссис Мак-Грэгор, женщина лет под пятьдесят, в чепце снежной белизны и в сером платье строгого покроя, – рослая, мужеподобная, спокойно-приветливая. Двадцатилетний Майкл, их еще холостой сын, был плечистый, тихий и бесхитростный здоровяк с копной льняных волос и белыми коровьими ресницами.
В доме у себя миссис Мак-Грэгор создала культ чистоты и порядка. Даже на кухне, заменявшей хозяевам столовую, ни пылинки, ни соринки; стены недавно побелены, деревянный пол навощен, полки блистают начищенной медью кастрюль и фаянсом уставленных в ряд тарелок. Садясь за стол, глава семьи предварительно вполголоса читал молитву, сложив ладони, все слушали стоя, склонив головы, затем говорили «аминь», усаживались и в набожной тишине принимались за еду.
Не раз заводил беседу Турчанинов с Мак-Грэгором, интересуясь верованиями и обычаями его секты. Квакеры, выяснилось, были противниками рабства; люди, утверждали они, рождаются свободными. Они отрицали убийство, казни, всякое насилие человека над человеком и не брали в руки оружие, отказываясь идти на военную службу. В любых обстоятельствах говорили правду.
– Ложь – великий грех перед лицом господа, – поучал Мак-Грэгор. – Мы никогда не лжем.
– Никогда? – переспрашивал Турчанинов.
– Никогда.
– Но ведь в жизни бывают случаи, когда нельзя сказать правду. Предположим, вы спрятали беглых, а к вам явилась погоня и начинает спрашивать, не спрятались ли они у вас. Что вы тогда делаете? Выдаете их?
Мак-Грэгор провел широкой ладонью по бороде викинга, точно смахнул мелькнувшую под усами хитренькую усмешку.
– Как раз недавно был такой случай. Господь указал дорогу к нам двум черным женщинам. Их преследовали по пятам, они были измучены. Едва я спрятал их, как примчались на конях нечестивые агаряне и стали шуметь и кричать, что беглые у меня, и требовать, чтобы я впустил. Признаться, я смутился и не знал, что делать. Но тут сам господь озарил разум Мэри. – Глазами показал на жену, которая чистила у кухонного стола картошку и слушала, молча улыбаясь. – Она громко, чтобы все слышали, сказала мне: «Пусть они войдут в дом. Пусть ищут. Ты же знаешь: у нас нет никаких рабов».
– И они вошли?
– Нет, поскакали дальше. Они же знали, что мы, квакеры, всегда говорим правду. И сейчас сказали правду. В доме квакера рабов нет. Мы считаем, рабство противно божьим заповедям.
– Замечательно! – расхохотался Турчанинов.
На первых порах очень приглянулись ему честные квакеры со всем укладом их жизни. Однако, присмотревшись к ним, подумал Иван Васильевич, что не для него такая скучная, слишком уж добродетельная, пресная жизнь, да еще подпертая библейскими текстами. Нет, не для него.
Вскоре семью постигло несчастье: умер сам Мак-Грэгор. Его ужалила гремучая змея, на которую нечаянно наступил, когда косил траву в прерии.
* * *
Вернувшаяся из Филадельфии Надин горела желанием применить на деле полученные медицинские познания. Гордясь женой, Иван Васильевич прикрепил на дверях дома маленькую, написанную им вывеску, на которой красивыми буквами было обозначено, что доктор миссис Турчин в такие-то и такие-то часы принимает больных. Соответствующая публикация появилась и в здешней, выходившей два раза в неделю, газетке, после чего Турчаниновы не без волнения стали дожидаться первых пациентов.
Однако день шел за днем, а пациенты не появлялись. Никто не звонил, не стучался в дверь. Лишь как-то раз забежала соседка попросить капель от расстройства желудка для ее десятилетнего Томми.
– Ничего, Наденька, не огорчайся, – пытался успокоить Турчанинов жену, болезненно ощущая горечь причиненной ей обиды. Он видел, с каким воодушевлением готовилась она начать врачебную свою практику, как рвалась приносить пользу окружающим. А в ответ с их стороны лишь холодное, враждебно-презрительное равнодушие, полнейшая отчужденность...
– Понимаешь, дитя мое, они просто не привыкли еще к женщине-врачу. Привыкнут – и будут обращаться, вот увидишь.
Успокаивал, но и сам не верил тому, что говорил. Непривычка непривычкой, но еще и какая-то иная была здесь подоплека.
Как-то Надин пришла домой с хозяйственными покупками совсем расстроенная. Оказывается, в лавке встретила доктора, который, поздоровавшись, спросил ее с самым любезным видом: «Ну как ваши успехи, коллега? Я слышал – процветаете?»
– Ты понимаешь, Жан, ведь он открыто издевался надо мной, я видела это по его гадкой улыбочке, – говорила Надин, и голос у нее дрожал, глаза влажно мерцали накипающими слезами. – Я убеждена, что все это его работа, этот негодяй порочит меня на всех перекрестках.
– Очень может быть, – уныло согласился Турчанинов, – Но ты не огорчайся, душенька, честное слово, не стоит. Плюнь на него. Проживем и без медицины.
Так или иначе, но вскоре Надин с обидой и горечью убедилась, что должна отказаться от желания помогать больным, страдающим людям.
Время шло, Турчанинов понемногу становился своим человеком в городе, везде ему попадались знакомые лица, встречные на улице раскланивались; где бы он ни появился – в землеустроительной конторе, куда иногда заходил за работой, в лавке, на почте, в аптеке, – его ждали приветственные возгласы и рукопожатия. Не мудрено, все здесь друг друга знали. Однако – диковинное дело – чем глубже врастал Иван Васильевич в бытовой здешний обиход, чем ближе узнавал окружавший его провинциальный американский люд, тем все больше и больше делались для него антипатичными, чужими эти люди с каким-то особым, непонятным складом мыслей.
– Интересный был у меня разговор с Майклом, – рассказывал он жене, вернувшись от осиротелых Мак-Грэгоров, к которым ездил по делу. – Честный парень! «Вчера, говорит, я полностью рассчитался с матерью – вернул ей весь долг. Гора с плеч! Теперь остается только уплатить проценты». – «Какие, спрашиваю, проценты?» – «Обыкновенные». – «Неужели, спрашиваю, родная мать берет с тебя, с сына, еще какие-то проценты?» А он глядит на меня с удивлением: как, дескать, можно задавать такие глупые вопросы? «Конечно. Ведь в банке она бы на эти деньги получала проценты. Чего же ей терять деньги?..» Поглядел я на честные его глаза и только руками развел. Какова же психология народа, ежели даже лучшие среди них так рассуждают?
– У них прямо идолопоклонство перед деньгами, – сказала Надин. – На днях я разговорилась с миссис Джонсон, знаешь, женой нотариуса. Так она мне заявила, что уважать можно только человека, умеющего делать деньги.
– Ну, значит, меня, Наденька, никак нельзя уважать, – невесело пошутил Турчанинов.
Надин ласково провела рукой по густым, отросшим его волосам.
– Но ведь я не американка, Жан... И такое мнение, – продолжала она, – не у одной только миссис Джонсон. Поговори с кем хочешь, и каждый тебе скажет: деньги для человека – это все, а без денег человек – дрянь.
В ближайший воскресный день Турчанинову пришлось встретить живущих по соседству Джонсонов. Тощий, длиннолицый нотариус в надетом, несмотря на зной, черном длиннополом сюртуке, чопорный, празднично торжественный, вел под руку пышущую здоровьем толстушку жену в капоре с голубыми шелковыми лентами. На потных лицах у обоих лежало умиленно-благодушное: выражение – возвращались из церкви.
– Рад вас видеть, мистер Турчин! – произнес нотариус скрипучим голосом, остановясь и приподнимая надетый ради праздника, лоснящийся шелковым ворсом цилиндр.
– Я тоже, мистер Джонсон, – сказал Турчанинов, касаясь полей измятой фетровой шляпы.
– Я все нахожусь под впечатлением проповеди. Какую проповедь произнес сегодня преподобный Трибс! На текст: «Низвергну гордых и вознесу смиренных». Я полагаю, в отношении проповедников мы можем потягаться с Вашингтоном. Жаль, что вы не слышали, мистер Турчин... Кстати, какой вы церкви? Я никогда не вижу вас у нас, пресвитериан. Наверно, методист?
– Нет, – сказал Турчанинов. – Не методист и не пресвитерианин.
– Может быть, конгрегационалист?
– Нет.
– Тогда адвентист?
– Нет.
– Менонит?
– Нет.
– Неужели католик?
– Тоже нет.
– Баптист? – сказала миссис Джонсон.
– Нет. – Турчанинов улыбался, забавляясь растущим недоумением мистера Джонсона.
– Квакер? – высказала предположение миссис Джонсон. – Хотя нет, на квакера вы не похожи.
– Мормон! – воскликнул мистер Джонсон.
– Как видите, у меня только одна жена, – засмеялся Турчанинов.
– Да кто же вы, наконец? Надеюсь, не магометанин?
– Я атеист, – сказал Иван Васильевич.
– Я не знаю такой церкви.
– Это церковь неверующих.
– Я вас не понимаю, – пролепетал мистер Джонсон, окончательно растерявшись. – Надеюсь, вы не хотите сказать...
– Да, я неверующий.
– О! – только и мог ответить мистер Джонсон, глядя на Турчанинова с изумлением, переходящим в ужас.
– О! – как эхо, повторила миссис Джонсон, круглое, краснощекое лицо которой приняло точно такое же выражение. Было похоже, они ждали, что вслед за таким неслыханным, кощунственным признанием под ногами Ивана Васильевича с грохотом разверзнется земля и он исчезнет в клубах вонючего серного дыма. Однако Турчанинов продолжал спокойно стоять перед ними и улыбаться.
– Да-а... – пробормотал нотариус, топчась на месте. – Ну что ж, позвольте пожелать вам всего хорошего, мистер Турчин. – Чопорно поклонился. Руки не подал и поспешно зашагал прочь от Турчанинова, волоча едва поспевающую за ним жену.
ВЫВАЛЯТЬ В СМОЛЕ И В ПЕРЬЯХ!
За последнее время Турчаниновы ощущали какой-то веющий на них от соседей и знакомых холодок отчуждения. При встрече с Иваном Васильевичем знакомые горожане, вместо того чтобы обменяться, как раньше, дружеским рукопожатием, перекинуться парой слов или фамильярно хлопнуть по плечу, только лишь подносили палец к шляпе, а чаще просто норовили не заметить и скорей разминуться. Всюду при его появлении разговор обрывался, лица становились замкнутыми, взгляды неприязненно-колючими, все, казалось, с нетерпением дожидались, когда он уйдет. Сосед нотариус совсем перестал кланяться.
Прекратились и заказы на портреты, что иногда давали Ивану Васильевичу лица состоятельные и почтенные, желавшие увековечить свой лик. Впрочем, быть может, сыграло здесь свою роль и появление опасного для Турчанинова конкурента – недавно обосновавшегося в городке фотографа, к которому и повлекло падких на дешевизну обывателей.
– Чужаки мы с тобой, Наденька! – говорил жене Иван Васильевич. – Люди с луны либо с другой какой планеты.
Он понимал, почему внезапно стало тянуть на них ледяным ветерком общей неприязни. Конечно, для нотариуса с женой свыше сил человеческих было удержаться и не сообщить всем и каждому потрясающую новость: живописец и чертежник мистер Турчин, оказывается, не верит в бога! Кроме того, догадывался Иван Васильевич, вспоминая, как бежал он от Старботла, очевидец этого злополучного события доктор, несомненно, раззвонил на весь город, что мистер Турчин, можете себе представить, тайный аболиционист! Сторонник освобождения негров!
Что касается жены Турчанинова, то с первых дней своего приезда она ощутила на себе осуждающее, высокомерно-враждебное отношение дамской части города, глубоко шокированной тем, что леди их круга занимается совершенно неподходящим и даже неприличным для женщины делом. Надин была горда и самолюбива. Она первая сделала соответствующие выводы и сразу же прекратила всякое общение со здешними дамами.
Как с горечью она убедилась, от врачебной деятельности пришлось отказаться. Что же оставалось делать, чем заняться? Превратиться, подобно окружающим, в респектабельную миссис, все интересы которой не выходят за пределы кухни, спальни и гостиной? Так и жить?.. Ни взгляды Надин, ни натура, пылкая и решительная, не мирились с этим.
– Знаешь, Жан, задумала я написать повесть, – призналась она однажды мужу, слегка конфузясь.
– Повесть?
– Да. Только ты не смейся.
– Дитя мое, зачем же я буду смеяться? У тебя, несомненно, литературные способности, я уже говорил... А содержание придумала?
– Пока в общих чертах, – сказала Надин. – Понимаешь... – Она закинула руки за голову, вдохновенно расширила глаза, устремленные в незримую поэтическую даль. – Понимаешь, это будут сцены из русской жизни. Я хочу показать положение современной женщины. Героиня у меня будет княгиня...
– Княгиня? – с недоверчивым удивлением переспросил Иван Васильевич.
– Да, княгиня, но с идеями... Молодая, красивая, передовая женщина... Она видит угнетенье народа...
Турчанинов слушал, радуясь прояснившемуся, оживленному лицу, вспыхнувшему в глазах блеску. Слава богу, опять окрылилась! Последнее время ведь ходила сама не своя, совсем пала духом, бедняжка.
А Надин, видя благожелательное внимание, с каким ее слушали, продолжала рассказывать:
– Писать я решила на французском, я достаточно хорошо им владею...
– Почему на французском, душа моя? – перебил Турчанинов.
– На французском все-таки скорее издатель купит. А кому продашь здесь повесть на русском языке?
– Это верно, – согласился Иван Васильевич. – Ну что ж, благословляю тебя на подвиг ратный. Принимайся за свою повесть.
И Надин храбро принялась за повесть. По вечерам, закончив домашние дела, усаживалась за стол, раскрывала специально купленную толстую тетрадку, макала появившееся в продаже новое изобретение – стальное перо – в чернильницу и начинала писать. Чуть слышно скрипело перо, потрескивал стул, когда она меняла позу. Турчанинов ходил на цыпочках, с уважением и нежностью поглядывая на работающую жену-писательницу. Освещенная настольной лампой черненькая, гладко причесанная головка с тяжелым узлом волос на затылке отбрасывала большую, ползающую по синеватым обоям, черную тень.
– Я хочу тебе прочесть одну сценку, – говорила иногда Надин. – Хочешь послушать?
– С превеликим удовольствием.
Иван Васильевич усаживался на диванчике поудобней, делал сосредоточенное лицо и, обхватив сплетенными пальцами худое колено, добросовестно принимался слушать.
– Ну как? – спрашивала Надин, закончив чтение.
– Очень мило, Наденька. Живо, интересно.
– Нет, правда? – спрашивала Надин, розовея от удовольствия.
– Правда, дитя мое! Прелесть как написано! – с полным чистосердечием уверял Иван Васильевич. – Так и видишь перед собой всех твоих персонажей. И слог какой!..
* * *
А страна жила своеобычной, огромной, тревожной жизнью. Америку лихорадило, все более усиливалась распря между свободными северными штатами и рабовладельческими южными. Вопрос, быть или не быть рабству, грозил гражданской войной. Недавно возникшая на промышленном, бурно развивающемся Севере республиканская партия, в рядах которой можно было увидеть и крупного заводчика, и лавочника, и зажиточного фермера, и рабочего, стояла за открытие земель необжитого еще, плодородного Запада для бесплатного расселения на них фермеров и за ограничение рабства негров. Рабство тормозило дальнейшее развитие промышленности и сельского хозяйства. Против республиканцев выступали демократы – партия помещичьего, хлопководческого, аристократического, застойного Юга, все богатства которого создавались каторжным трудом черных невольников, работавших под кнутами надсмотрщиков.
Готовились выборы нового президента. На пост будущего главы государства демократы прочили владельца громадных хлопковымх плантаций, участника мексиканской войны, судью Дугласа. Республиканская партия выдвинула Линкольна. Долговязый адвокат из Спрингфилда, готовясь сделаться президентом, ездил из штата в штат, из одного города в другой, произносил на митингах и собраниях вдохновенные речи против рабства, покоряя аудиторию неотразимой аргументацией, и – блестящий оратор! – приобретал новые и новые голоса.
«Как нация мы начали с декларации, что все люди рождены равными, – говорил он, стоя перед толпой слушателей. – На практике мы теперь произносим ее так: «Все люди рождены равными, кроме негров»...» В Эдвардсвилле он говорил: «Привыкнув к цепям рабства для других, вы готовите их для собственных рук и ног. Привыкнув топтать права окружающих вас людей, вы теряете собственную свободу и становитесь сами подходящими подданными любого коварного тирана, появившегося в вашей среде...»
Цитируя библейское изречение: «Дом разделенный выстоять не может», он говорил на съезде республиканской партии в Спрингфилде: «Я думаю, не может выстоять и правительство нашей страны, частично рабовладельческой и частично свободной. Союз североамериканских штатов станет целиком либо одним, либо другим...»
Газеты и ораторы южан-демократов угрожали, что если президентом будет избран республиканец, Союз штатов распадется. «Кто же ищет разделения, вы или мы? – спрашивал Линкольн. – Мы, большинство, не хотим разделения, но если вы попытаетесь отделиться, мы вам не позволим. В наших руках кошелек и меч, армия и флот, мы распоряжаемся казначейством – вы не в состоянии отделиться...»
Постепенно он делался все более примечательной политической фигурой.
Борьба вокруг вопроса об освобождении негров становилась ожесточенной, накал страстей усиливался. Газеты были полны запальчивых статей за и против рабства. Социологи и публицисты выпускали книги, где обсуждался этот вопрос на все лады. В двух новых, только что создавшихся штатах, Канзас и Небраска, избиратели сами должны были решить – быть их земле свободной или рабовладельческой. Наемные банды разгоняли избирательные комиссии, избивали аболиционистов, поджигали их дома. Группы вооруженных ружьями и ножами молодцов встречали избирателей, шедших к урнам голосовать, свирепыми выкриками: «Вырви у него сердце из груди!», «Перережь ему горло!» На улицах городов, на проезжих дорогах трещали выстрелы, убитые и раненые исчислялись сотнями.
Настал день, когда и Турчаниновых опалило жаром бушующих вокруг раскаленных человеческих страстей.
* * *
Надин сидела в тот злосчастный день у себя за столом, трудясь над повестью. Иван Васильевич ушел по каким-то делам в город. Тишина, наполнявшая дом, нарушалась лишь тяжелой поступью недавно нанятой черной служанки Салли, которая, мурлыча себе под нос заунывную негритянскую песенку, подметала комнаты. Внезапно послышался ее испуганный возглас, – очевидно, заглянула в окно, заинтересованная каким-то неясным шумом, который донесся с улицы:
– О боже! Наш масса бежит... Мисси, поглядите!
Вскочив из-за стола, Надин поспешила к окну, откуда открывалась уходящая в перспективу улица – невзрачная, безлюдная, сонная улица окраины, где бродили свиньи и паслись на пыльной травке гуси, – и замерла, держась за сердце. Спасаясь от преследователей, к их дому бежал белый человек – бежал отчаянно, что было сил, работая локтями, закинув темнобородую голову, как бегут от смерти. И этот человек, за которым, рассыпавшись поперек улицы, с воем и улюлюканием гналась толпа, был – не сразу это дошло до сознания Надин – был не кто иной, как ее муж. Еще не сознавая, что происходит, и только лишь понимая, что происходит нелепое, страшное, она бросилась навстречу ему, чтобы открыть входную дверь, – едва успела это сделать, как Турчанинов ворвался в сени и закрыл дверь на засов. Привалился затылком к стене, уронив руки вдоль тела, бессильно опустил веки. Дыханье с хрипом вырывалось из запекшихся губ. На мучнисто-белом, неузнаваемом лице багровел свежий кровоподтек под глазом.
– Жан! – крикнула она. – Что случилось?
– Ничего, – еле выговорил он, задыхаясь, и вытер потный лоб, мотнув полуоторванным рукавом летней рубашки. – Не волнуйся.
Снаружи послышались возбужденные, злые голоса, топотня тяжелых ног, поднимавшихся на крыльцо. В дверь забарабанили кулаками.
– Открывай!.. Открывай, проклятый аболиционист, а то хуже будет!
Тяжелые удары сыпались градом. Кто-то бил кованым сапожищем – дверь сотрясалась и трещала.
– Ах, если бы ружье!.. – простонал Турчанинов в бессильной ярости, беспомощно озираясь кругом.
Внезапно, вспомнив, бросился вон из сеней и вернулся с захваченным на кухне топором.
– Долой с крыльца! Буду стрелять! – крикнул через дверь.
Удары прекратились – по-видимому, опустело крыльцо, но минуту спустя в соседней комнате гулко лопнули и с дребезгом посыпались на пол оконные стекла, донесся стук упавшего камня. В сени влетела перепуганная Салли:
– Масса, они камни бросают!
– Не выходите!.. Спрячьтесь! – Турчанинов показал топором на чердак, где прятал беглых.
Подобрав пестрые юбки, негритянка застучала ногами по лесенке, нырнула в низенькую дверцу наверху, однако Надин не двинулась с места.
– Нет, Жан, я с тобой! – широко раскрытыми верными глазами смотрела на мужа. Он жарко стиснул ее в объятиях, бледную, трепещущую, решительную, поцеловал в губы так, что она задохнулась (поняла: навеки прощается), и подтолкнул к чердачной лесенке:
– Дитя мое, умоляю – спрячься...
Из комнат доносились тонкие, плачущие вскрики стекол и грохот падающих на пол камней. На улице слышались возбужденные голоса. Кто-то кричал:
– Пристрелить эту собаку! Джо, сбегай за ружьем!
Сжимая в руках топорище, подобравшись, Турчанинов стоял у дверного косяка, слушал, ждал. «Скоро поймут, что ружья у меня нет, выломают дверь, ворвутся... Одного зарублю, ну от силы двух, а потом... Вот когда она пришла, смерть... Неужели так никто и не выручит?.. Эх, не надо было вмешиваться, чего добился, Дон-Кихот Ламанчский?.. Только бы не тронули Надин...»
Послышался топот скачущих лошадей, кто-то (и похоже, не один, а двое) подъехал к дому, спрыгнул с коня, галдеж на улице на минуту утих. Турчанинов услышал поднимавшиеся на крыльцо тяжелые шаги Каменного Гостя. Негромкий властный стук в дверь, низкий, хрипловатый голос:
– Именем закона, откройте.
– Кто это? – спросил Турчанинов, держа топор наготове.
– Шериф. Откройте дверь.
– Не открывай, не открывай! – зашептала Надин, схватив за руку.
Однако Иван Васильевич, почувствовав, что нежданно-негаданно пришло спасенье, отодвинул засов и приоткрыл дверь, жмурясь от горячего и яркого, ударившего в лицо солнца.
Расставив ноги в ботфортах из буйволовой кожи, насунув на брови шляпу с загнутыми по бокам полями, стоял перед ним мрачноватый детина с большой серебряной звездой на груди. Тот самый, что приехал тогда со Старботлом на аукцион. За широкими его плечами теснились незнакомые, загорело-красные, потные, злобно-распаленные морды. Десятки глаз были нацелены из-под полей шляп на Турчанинова, точно ружейные дула. Среди своих преследователей Иван Васильевич узнал немало городских лодырей, тех, что целыми днями бездельничали у лавок. Впрочем, и еще кое-кого он заметил: вон воровато мелькает в задних рядах длиннолицый нотариус Джонсон, вон и приземистый, краснорожий сосед-лавочник... В стороне помощник шерифа держал на поводу двух оседланных лошадей.
Буйная, кричащая орава, обступившая крыльцо дома, притихла на минуту, ждала, что скажет шериф.
– Что здесь произошло? – спросил он, жуя табак – тяжелая, несколько дней не бритая челюсть мерно двигалась. – Почему вы взбудоражили весь город?
– Сэр, я никого не будоражил, – заговорил Турчанинов. – Я только вступился за человека, которого без суда и следствия хотели повесить.
– Какого человека?
– Негра. Его собирались линчевать, не знаю, за что.
– А, негра! – пренебрежительно ухмыльнулся шериф. – Так вы, значит, – смерил Ивана Васильевича леденящим взглядом, – защитник черномазых?
– Что с ним разговаривать! – крикнул кто-то из-за спины шерифа, и толпа вновь заволновалась, загалдела:
– Не слушайте его, шериф!
– Безбожник! Вон его из города!
– Долой аболиционистов!
Среди раскаленных лиц, кричащих ртов, сверкающих глаз высунулась рыжебородая голова в соломенной шляпе с полуоторванными полями:
– Ребята, вывалять его в смоле и в перьях!
– Правильно!.. Го-го! В смоле и в перьях!..
Шериф, полуобернувшись назад, поднял руку жестом волшебника, повелевающего стихиями:
– Джентльмены, спокойно! Тишина и порядок!.. Дальнейшее ваше пребывание здесь, – снова заговорил он с Турчаниновым, в голосе явственно звякнуло железо, – совершенно нежелательно, мистер Турчин. Предлагаю вам в двадцать четыре часа покинуть пределы нашего города.
– Куда же я поеду? – глухо спросил Турчанинов, внутренне поникнув. Всего ждал, только не этого.
Шериф продолжал жевать табак.
– Это меня не касается... Мы не потерпим у себя аболиционистов, ни явных, ни тайных. А вы, по свидетельству самых почтенных и уважаемых лиц, тайный аболиционист.
– Это кто же самые почтенные и уважаемые у вас люди? Уж не этот ли бандит Старботл? – зло спросил Турчанинов, позволивший себе роскошь на прощание резать правду-матку, хотя бы и самому шерифу в глаза. Тот, не ответив, казалось, насквозь пронизал Ивана Васильевича недобрым взглядом белесых глаз, затем сплюнул ему прямо под ноги и повернулся широкой сутуловатой спиной, плотно обтянутой зеленым сукном сюртука с двумя костяными пуговицами на талии. От одной осталась только половинка.
– Джентльмены, внимание! – сказал он толпе, усилив хрипловатый, пропойный голос так, чтобы все слышали. – Можете быть уверены, завтра этого иностранца здесь не будет. Надеюсь, ему не захочется совершить прогулку по городу в наряде из смолы и перьев. (Одобрительный гоготок среди слушателей.) А теперь, джентльмены, именем закона приказываю спокойно разойтись по домам... Давай, давай, ребята! Пошумели – и хватит!
Собравшиеся громилы поняли, что бесчинствовать им сейчас больше не дадут, и, выкрикивая последние проклятья и угрозы по адресу чертовых аболиционистов, разочарованно разошлись, шериф с помощником ускакали, пришпоривая лошадей. Турчаниновы остались одни. Надин бросилась ничком на кровать, зарылась лицом в подушки и заплакала навзрыд. Больше сдерживаться сил уже не было. Все пережитое – нет, не только за эти страшные полчаса, а за все три последних года их жизни – вырвалось теперь наружу отчаянными, достигшими какой-то мучительной, терпкой сладости рыданиями. Тяжелый узел черных блестящих волос с торчащими шпильками рассыпался по плечам, – они вздрагивали так горько, так безнадежно, узенькие, хрупкие женские плечики. Не в силах смотреть, Иван Васильевич уронил в ладони голову, сидел поодаль, бессильно весь обвиснув. Сквозь разбитые, треснувшие, зияющие зубчатыми пробоинами стекла входил с улицы свежий ветерок, шуршал забытой на столе газетой.
– Что же это такое?.. Что же это за жизнь? – вдруг подняла Надин от смятой подушки мокрое, с распяленными губами, некрасивое, жалкое лицо. – Проклятая страна! Куда ты меня завез?
Турчанинов молчал, не шевелился. Она поглядела на неясную сквозь пелену слез, размытую, по-прежнему неподвижную, понурую фигуру мужа, сидевшего с подпертой руками головой. Ожесточенное сердце ее внезапно дрогнуло при виде этого безмолвного и покорного всему отчаянья. Села, опустив ноги на некрашеный пол, вытерла глаза скомканным платочком.
– Жан!
Турчанинов не ответил.
– Жан, не огорчайся... – Всхлипнула, закалывая шпильками распавшийся на затылке узел. – Ты должен меня понять...
Иван Васильевич поднял взлохмаченную голову, вздохнул.
– Ты права, Наденька, – сказал ровным, неживым голосом. – Права... Но что же теперь делать?.. Ничего не поделаешь.
Поднялся со стула, сделал несколько растерянных, колеблющихся шагов. Остановился, потер ладонью горячий лоб. Хрустнуло под подошвой битое стекло.
– Ну что ж, дитя мое, будем укладываться...