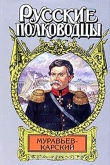Текст книги "Судьба генерала Джона Турчина"
Автор книги: Даниил Лучанинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
ПОВЕСИТЬ, А НЕ ЗАПЛАТИТЬ!
У себя в холостой квартире на Литейном князь Кильдей-Девлетов устраивал товарищескую пирушку, справляя окончание академии. Гостей было человек пятнадцать – все гвардейцы-выпускники.
Лампы мутно просвечивали сквозь слоистую пелену табачного дыма. Некоторые из гостей еще сидели за столом перед недопитым бокалом. Полупустые бутылки с багровыми и серебряными головками, тарелки с остатками еды, влажные красные пятна на смятой скатерти... Но большинство, уже насытясь и отяжелев, перешли в кабинет с коврами на стенах и с медвежьей шкурой на полу; расселись в мягких креслах и на низких диванах, курили и продолжали начатый за столом шумный, бестолковый разговор, то и дело прерываемый взрывами смеха. Выпито было вдоволь.
Развалясь в кресле, расстегнув парадный мундир, в котором было ему жарко и томно, Турчанинов клубами пускал дым из длинного – до полу – хозяйского чубука, оправленного в янтарь. Секунд-майор изрядно выпил, перед глазами колыхался легкий, стеклянный туман, настроение было прекрасным и ко всему благожелательным. Добродушно щурясь, с чубуком в руке, водил он вокруг чуть-чуть замутившимся взором. Знакомые лица, теперь багровые, смеющиеся, по-домашнему расстегнутые мундиры с золотыми и серебряными эполетами – «ватрушками»... Свой народ, славные ребята. Жалко, что теперь, по окончании академии, разлетимся кто куда...
А вон и сам хозяин, князь Илья. Разрумянился, хмельной. В белой шелковой рубашке и красных чакчирах, развалился на тахте с гитарой в руках, лениво пощипывает тугие певучие струны. Ворот отстегнут, треугольником чернеет заросшая грудь, видна золотая цепочка от нательного крестика. Красавец, рубаха-парень!.. Над тахтой коричнево-красной расцветки текинский ковер, на узорах ковра – перекрещенные сабли и пистолеты...
Время от времени князь Илья отдавал приказания лакеям:
– Тимошка, еще шампанского!.. Петрушка, раскури барину трубку!..
И низенький старичок камердинер Тимошка, в опрятном сюртучке, проворно семеня, приносил и раскупоривал новые бутылки. Пробки стреляли в потолок, пенилось и шипело в бокалах веселое игристое вино. Мастерски разливал Тимошка – ни единой пролитой капли... Но почему, – подумалось внезапно Турчанинову, – почему седой, благообразный старик должен зваться Тимошкой?..
Все говорили разом, и каждый говорил свое. В общем шуме голосов вырывались клочки фраз:
– ...говорю тебе: Владимир с мечами и бантом...
– ...Tiens! Mais c’est epatant!..[1]1
Да ну! Это изумительно! (франц.)
[Закрыть]
– ...нет, позвольте, господа, дворянская честь...
– ...у нее прелестные ножки!..
В углу, свесив на грудь голову с жидкими, зачесанными поперек лысины прядями, развалив колени, дремал в креслах плотный курносый павловец.
Кильдей-Девлетов взял на гитаре звучный аккорд и, подыгрывая себе, запел приятным сипловатым баритоном:
Не ис-ку-шай меня
без ну-ужды
Развра-атом неж-ности твое-ей...
– Слушайте, князь. Говорят, вы как-то интересно получили полк. Какая-то необычайная история, – надувая свекольно-румяные щеки и утираясь фуляровым платком, сказал дородный, добродушный, с мохнатыми бакенбардами, с густым черным ежиком, начинавшимся почти от бровей, полковник-преображенец.
– О, это замечательно! Я слышал! – воскликнул, крутя длинный ус, худой, пучеглазый улан.
Продолжая бренчать на гитаре, Кильдей-Девлетов кивнул.
– Рассказали бы, а? – не отставал преображенец.
– Расскажите, – послышались голоса. – Просим, князь.
Рванув напоследок струны, князь Илья отбросил на тахту загудевшую гитару, закинул руки за голову, потянулся сильным, коренастым телом.
– Ну что ж, господа, расскажу, если желаете. История действительно презабавная. – Хохотнул, вспомнив, под черными закрученными усами блеснули зубы. – Итак, стояли мы во время венгерского похода в одном паршивом местечке. Надо вам сказать, командовал я тогда эскадроном. Как-то собрались у меня командир полка и бригадный генерал, сели перекинуться в картишки. Сметали две талии, я стасовал карты и приготовился метать третью. И тут на пороге собственной персоной мой вахмистр Галушко. «Так шо, ваше сиятельство, Хаим до вас прийшов, гро́шей просыть». – «Каких гро́шей?» – «Та ж за сено, шо куповалы». – «К черту!» – кричу. Волнуюсь, понимаете, карта идет препаршивая, дьявольски не везет, а тут этот болван, понимаете, со своим сеном... Однако не уходит мой Галушко, все топчется. Очень, говорит, просит жид заплатить ему. «Повесить его, а не заплатить!» – кричу я и начинаю понтировать. Крикнул, понимаете, машинально, совсем не думая, – голова не тем была занята. Повернулся Галушко налево кругом, исчез.
Смотрю, спустя немного времени опять появляется. «Что тебе еще нужно от меня, сук-кин сын?» – «Так шо, ваше сиятельство, приказание выполнил». – «Какое, кричу, приказание?» – «Повесил жида», – отвечает Галушко. «По-ве-сил??» – «Так точно». – «Да ты, хохлацкая твоя морда, в своем уме?» – «Так точно, ваше сиятельство, у своем. Як було приказано повесить, я и повесил».
Такой грянул общий хохот, что в дверях, ведущих в столовую, стали появляться любопытные лица: «Что такое, господа? Что случилось?..» Но от них только отмахивались. Закинув голову, гулким басом хохотал длинноусый улан: Хо-хо-хо!» Мелким, блеющим смешком заливался конногвардеец: «Преле-естно... Преле-ест-но...» – «Як було приказано»... Преображенец, раскашлявшись, сделался малиновым, как нагрудник его мундира, вытирал слезы.
– Что же потом было? – спросил кто-то, когда нахохотались.
– Что потом? Ну, генерал и командир полка, натурально, набросились на меня: «Как вы смели дать такое приказание? Самоуправство! Безобразие!..» – «Ваше превосходительство, – говорю я генералу наихладнокровнейшим тоном, – если, по-вашему, мой приказ был неправильным, почему же вы молчали? Вы же мое начальство». Генерал крякнул и умолк... Все бы не беда, господа, но каша из-за этого проклятого жидка заварилась прескверная. Судом запахло. Я и мой вахмистр, понимаете, должны были отвечать. Дело пошло на окончательное утверждение к государю. А государь император...
Тут князь поднялся с тахты и – руки по швам – придал красному, налитому лицу благоговейное выражение. Глядя на него, поднялись с мест, пошатываясь, и другие офицеры. Поднялся и Турчанинов. Упоминать высочайшее имя полагалось стоя.
– ...А государь император собственноручно начертать соизволил: «Бригадному генералу – выговор. Командира полка за слабость освободить от командования. Командира эскадрона князя Кильдей-Девлетова, который сумел подчиненным ему солдатам внушить правила образцовой дисциплины, благодаря чему каждое его приказание выполняется немедленно и неукоснительно, – князь Илья обвел слушателей победным взором, – назначить командиром полка».
– Браво, князь! Фо́ра! – выкрикнул пьяненький конногвардеец, будто в театре, даже захлопал. Было похоже, надрался больше всех.
– А Галушко? – спросил усач.
– «Вахмистра Галушко, – как бы читая приказ, продолжал Кильдей-Девлетов, – за отличную службу представить в кандидаты на офицерский чин и назначить триста рублей пенсиону».
Турчанинов впервые слышал эту историю – и как-то вдруг не по себе ему сделалось, куда-то пропало недавнее благодушное настроение. Отталкивающими показались лица окружающих. Лица? Нет, пьяные, гогочущие рожи, на которые и смотреть тошно.
Злой взгляд Ивана Васильевича упал на оружие, развешанное над тахтой, где сидел с гитарой князь.
– Илья, у тебя какие пистолеты? – обратился к Кильдей-Девлетову умышленно громко: пусть видят эти богачи-аристократишки, что с князем он на короткой ноге.
– Кухенрейтера, – отозвался Кильдей-Девлетов.
– Я предпочитаю лепажевские, – сказал улан. – Прицельнее и курок мягче.
– Э, не говорите! Лепаж совсем не то! – возразил преображенец.
– К чему спорить, когда можно проверить? – сказал Турчанинов с улыбочкой. – Господа, ручаюсь, что из Кухенрейтеровского пистолета я с любой головы собью бокал. Кто желает убедиться?
Однако желающих проверить на себе преимущества Кухенрейтеровского пистолета не оказалось. Офицеры притихли. «Новый Вильгельм Телль», – услышал Иван Васильевич за спиной чье-то сказанное вполголоса замечание.
– Господа! – воскликнул князь. – Уверяю вас, Турчанинов превосходный стрелок! Parole d’honneur![2]2
Честное слово! (франц.)
[Закрыть] – И с жаром принялся рассказывать, как Иван на войне спас ему жизнь во время горячей схватки с венгерской конницей. Гонведы прорвались к батарее, которую прикрывал его гусарский эскадрон, началась рубка. Какой-то мадьяр, оказавшись сзади, уже занес над ним, князем, саблю. И если бы не Турчанинов, наповал уложивший гонведа пистолетным выстрелом...
– Так что же, значит, среди господ офицеров нет охотников? – повысив голос, бесцеремонно перебил Иван Васильевич князя и повел вокруг тяжелым взглядом, нагловато прищурясь. – Духу не хватает?.. Ну что ж... Илья, у тебя пистолеты заряжены?
– Что за вопрос!
– Дай-ка один, – сказал Турчаниновзи направился в столовую, широко шагая.
Оттуда он принес пустой бокал, поставил на стоящее у стены, украшенное потемневшей бронзой, бюро палисандрового дерева – екатерининской еще поры. Князь снял со стены один из пистолетов, передал Ивану Васильевичу. Тот отошел в дальний конец комнаты, к противоположной стене, встал там, слегка расставив ноги для упора. Положив длинный ствол на локоть, начал целиться... Черт, все-таки не чувствовалось в руке нужной твердости... В кабинете наступила тишина, все глаза были устремлены на Турчанинова, только слышалось безмятежное похрапывание спящего в кресле толстого павловца. Лампы моргнули от выстрела. Турчанинов опустил дымящийся пистолет и перевел дух: от бокала уцелела только ножка.
– В ружье! Тревога! – заревел сквозь дым павловец, вскочив на ноги и ошалело озираясь под общий смех.
– Славный выстрел, – сказал преображенец.
Кильдей-Девлетов был в полном восторге.
– Нет, каков? А?.. Вот так, господа, он уложил и гонведа с саблей... Мой спаситель, господа! Мы с ним боевые друзья, побратимы. Верно, Иван?.. Дай свою богопротивную рожу.
Набрякшие веки князя умиленно замигали, и, распахнув руки, он прижал Ивана Васильевича к груди. «Раскис», – подумал Турчанинов, ощущая щекой колючие усы.
– И за что я тебя, черта, люблю? – рассуждал вслух Кильдей-Девлетов, отстранив его и обеими руками держа за плечи. – Строптив, горд, как сам сатана, на ногу себе наступить не позволит... Нет, вру. Вот за это самое и люблю... Ба! Блестящая идея!.. Знаешь что, Иван?
– Что? – спросил Турчанинов.
– Едем на лето ко мне в Подгорное! – Он назвал одну из губерний среднерусской полосы. – В самом деле.
Иван Васильевич раздумывал в некоторой нерешительности. Честно говоря, малопривлекательной представлялась ему предложенная поездка.
А Кильдей-Девлетов продолжал наседать:
– И нечего тебе раздумывать. Старик мой будет только рад. Он у меня хлебосол, любит гостей, общество, широкая русская душа... Поохотимся. Познакомишься с соседями. Отец писал – есть премиленькие барышни. Чего доброго, – захохотал он резким, жестяным своим смехом, – еще женим тебя.
– Турчанинов, ни... никогда не же...женись... Будь м... мужчиной... – косноязычно пробормотал конногвардеец, укладываясь на медвежьей шкуре. Совсем развезло беднягу.
– А кто ваши соседи? – спросил словно бы невзначай Турчанинов.
– Максутовы. Две тысячи душ... Перфильевы. У них, кажется, дочка есть.
– Перфильевы, говоришь? – переспросил Турчанинов.
– Да.
– Ну что ж, – проговорил он как можно равнодушней, однако блеск глаз выдавал его радость. – Ну что ж... Спасибо, Илья.
– Вот и прекрасно! – Князь трепал его по спине. – Вот и отлично!
Но тут очухавшийся павловец заявил, что тоже хочет проверить твердость руки и меткость глаза. Он завладел пистолетом, который Турчанинов отложил в сторону. Пистолет вновь был заряжен, Кильдей-Девлетов поставил на бюро в качестве мишени бубновый туз. Павловец, кривя курносое лицо, с великим тщаньем спустил курок – и карта, прислоненная к стене, осталась стоять как стояла.
– Это не в счет, просто рука у меня дрогнула, – оправдывался павловец. – Позвольте, я еще раз.
Но длинноусый улан, разохотясь, уже отбирал у него пистолет, чтобы и самому попробовать. Потом еще кто-то захотел... Выстрелы хлопали один за другим, со стены, где появлялись новые дырки, осыпалась штукатурка, гуще и гуще клубился под потолком синий, просвеченный дым, все сильней пахло пороховой тухлятинкой.
– Довольно, господа, хватит! – остановил наконец Кильдей-Девлетов разошедшихся гвардейцев. – Ей-богу, квартальный прибежит... Господа! Предлагаю другое. А что, если махнуть в Новую Деревню?
– Ура-а! – восторженно загорланили офицеры.
– К цыганам! Ура-а-а!
Из двери выглянуло на шум старое бритое личико.
– Тимошка, лошадей! – крикнул Кильдей-Девлетов, натягивая на крепкие плечи гусарскую куртку.
Лошади были поданы.
Со смехом и галдежом, одеваясь на ходу, шумной гурьбой повалили офицеры на крыльцо, у которого, сдерживая нетерпение, позванивали, переговаривались гремучие бубенцы. И как же они сейчас зальются, как помчатся тройки одна за другой по пустынному, звонкому в поздний час Литейному проспекту, сквозь перламутровые сумерки петербургской белой ночи!..
Старичок камердинер прижимался к стене, пропуская разгулявшихся господ и стараясь стать еще более незаметным. Проходя мимо, уловил Турчанинов на себе усталый и хмурый взгляд выцветших старческих глаз, заметил осуждающе поджатый, запавший рот, но тут же все вылетело из головы. Вновь подхватила и понесла мутная, разливанная волна хмельного разгула. Э, не все ли равно! Гулять так гулять!.. Цыгане? Едем к цыганам!..
НЕМОЕ ЗНАКОМСТВО
Не мог, никак не мог отказаться Иван Васильевич от предложения князя Ильи поехать на лето к нему в именье. Так было кстати, так подгадало неожиданное это приглашение. Черт возьми, судьба!..
Месяца полтора назад, воскресным днем, решил пойти Турчанинов в собор, находившийся поблизости от их дома, – уж очень нахваливал ему Нил Нилыч хор соборный. Человек мышления рационалистического, к вопросам религии равнодушный, скорее атеист, нежели верующий, Иван Васильевич, однако, любил всякое хорошее пенье, в том числе и церковное.
Собор был в тот день переполнен. Опустив руку с фуражкой, Турчанинов стоял в тесной толпе молящихся, рассматривал позолоченный, жарко пылающий кострами свечей иконостас, перед которым, возглашая, появлялись то старенький попик в голубой ризе, то могучий дьякон с кадилом; изредка для приличия обмахивал грудь мелким, полным достоинства крестиком и вслушивался в благостное пенье, несущееся с клиросов.
А верно, прекрасно здесь пели. Стройно, слаженно и мощно гремели мужские и женские голоса, усиливаясь и взмывая под высокий купол, откуда глядел вниз седобородый библейский Саваоф; то затихали они в еле слышном ропоте: «Господи, помилуй, господи, помилуй», то опять нарастали и ширились, наполняя собор громом торжественного, моляще-величавого песнопения. Слушал Иван Васильевич и ловил себя на том, что невольно начинает поддаваться впечатлению, производимому обстановкой богослужения. Торжественное это пенье, эти горящие свечи, осыпанные играющими самоцветами иконы, обильный блеск золота, эти мистические возгласы, низкие поклоны, вздохи...
Некое движенье возникло среди молящихся: привели воспитанниц пансиона благородных девиц, толпа потеснилась и раздалась. Сопровождавшая пансионерок воспитательница построила их рядами, а сама встала позади – тощая, строгая, с клювастым носом, торчащим из черного капора.
Рассматривая свежие девичьи личики, Турчанинов заприметил одно из них и с этой минуты уже не сводил глаз. Тоненькая, среднего роста, девушка стояла, ни на кого не глядя, изредка осеняла себя крестом.
Видимо почувствовав на себе пристальный взгляд, она медленно повернула голову в его сторону. «Ах, хороша! Глаза какие...» Глаза были большие, темные, задумчивые, под длинными бровями. Он не отвел взора, он продолжал смотреть, не скрывая, что любуется ею.
То ли смущенно, то ли сердито, девушка отвернулась и больше уже не оглядывалась на Турчанинова.
Он выстоял обедню до самого конца, выжидая, когда народ, крестясь, двинется к выходу, и тогда пошел следом за пансионерками, которых повела обратно воспитательница, построив предварительно парами. Стояла гнилая петербургская весна, вдоль тротуаров тянулись почерневшие, сникшие сугробы, булыжная мостовая заплыла талыми лужами. Воспитательница и девицы подбирали юбки.
Легкое волнение охватило колонну чинно и благонравно выступавших девушек, когда они заметили, что за ними упорно идет молодой офицер. Одна за другой стали повертываться в его сторону головки в капорах. В колонне оживленно зашептались, послышалось сдержанное хихиканье. «Медам, силянс!»[3]3
Сударыни, спокойно! (франц.)
[Закрыть] – каркнула по-вороньи воспитательница. Однако та, на которую сейчас было устремлено внимание Ивана Васильевича, ни разу не оглянулась, хотя ее соседка по паре, плотненькая, круглолицая блондиночка, – заметил Турчанинов – успела уже что-то ей шепнуть. Тоненькая, неприступная, с гордо поднятой головой, девушка шла, по-прежнему глядя перед собою.
Турчанинов проводил девиц до самого пансиона, помещавшегося в каменном, старинной кладки, трехэтажном доме с пилястрами на уровне второго этажа. «Неужели так и не оглянется?» – думал Иван Васильевич, замедляя шаг при виде сбившихся толпой, входивших в подъезд попарно девушек. «Ну, оглянись же! Оглянись!» – сжимая от страстного напряжения кулаки, мысленно приказывал он и не сводил глаз с черного ее капора.
Оглянулась на него. И вместе с другими пансионерками скрылась за тяжелой, наглухо поглотившей ее дверью.
Когда подошло следующее воскресенье, он уже спозаранок был в соборе. Слабым благостно-певучим голосом возглашал священник, пел хор, синий благовонный дым поднимался к иконам.
Турчанинов стоял и поглядывал, томясь, на входную дверь. Он сразу увидел темноглазую девушку, едва она появилась в соборе. Турчанинову показалось, что на этот раз она тоже искала его глазами.
Вновь всю обедню не сводил он с девушки байронического взора. Она, казалось, не замечала и усердно молилась, но раза два украдкой – уловил он – бросила на него взгляд. Какая-то установилась между ними безмолвная внутренняя общность, почудилось Ивану Васильевичу. «Что тебе от меня нужно? – спрашивали ее глаза. – Я отметила тебя, выделила среди других, но кто ты такой?..» И вновь, когда после обедни пансионерки попарно возвращались домой, пошел он за ними. А когда она опять оглянулась, Турчанинов, показывая, что прощается с нею, поднес пальцы к козырьку фуражки. Девушка в ответ улыбнулась, краснея, и едва заметно наклонила голову.
Домой он не шел – плыл над землей, окрыленный. Начало было положено. Прекрасное начало.
Не дожидаясь больше воскресенья, он вооружился пером и на листке красивой, с золотым обрезом, специально купленной в магазине бумаги постарался изобразить свои чувства как можно изящнее. Умоляя о встрече, он писал все то, что пишут и всегда будут писать в подобных случаях. Признаться, и самому Турчанинову было вроде как бы совестно, когда писал. Тридцатилетний мужчина, взрослый бывалый человек, без пяти минут академик – и сочиняет, грызя гусиное перо, любовные цидульки на манер желторотого фендрика-прапорщика. Влюбился в девочку, потерял голову...
Как звали ее, тоненькую, неведомую, так внезапно опалившую ему душу чистой, строгой девичьей своей прелестью? «Ваше имя? – писал он. – Умоляю, сообщите мне Ваше имя, чтобы я мог с нежностью повторять его и вечно хранить в своем сердце»...
Несколько раз наново переписанное заветное письмецо было наконец готово, бережно сложено, и теперь предстояло лишь исхитриться ненароком передать ей в руки. Легко сказать «лишь»... Ах, узнать бы только, как ее зовут!
Однако в следующее воскресенье ему удалось это сделать. Протискавшись в давке мимо чинно выстроившихся черных капоров, он все же изловчился незаметно передать темноглазой девушке свое письмецо, благо стояла она с краю, причем успел при этом даже легонько пожать ей руку. Она не вздрогнула, приняла записку, Эта маленькая, стянутая черной шерстяной перчаткой рука, не выронила от неожиданности на пол, но, оглянувшись напоследок, увидел он, как горячим розовым полымем охватило бледные щеки девушки.
О, с каким же томительным мальчишеским нетерпеньем дожидался он новой безмолвной встречи в соборе, вымарывая один за другим дни на календаре-листочке! Был уверен, что в ближайшее воскресенье получит ответ, и ответ такой, о каком мечталось, – достаточно вспомнить юное личико, горящее растерянно-радостным смущеньем, взгляд, брошенный ему вдогонку... А дальше что? Посмотрим. Очевидно, придется – за соответствующую, понятно, мзду – прибегнуть к помощи швейцара, чтобы записочки передавал. Быть может, удастся в какой-нибудь из приемных дней и самому проникнуть в зачарованный сей замок, где, наглухо отрезанные от мира, томятся юные феи, которых рьяно оберегают от мужчин свирепые драконы в образе классных надзирательниц. Проникнуть, скажем, под видом родственника, кузена, что ли. Встретиться с ней лицом к лицу, перекинуться живым словом, шуткой, улыбкой, пожать украдкой ручку... Хотя, говорят, суровы драконы к подобным кузенам...
Горькое разочарованье ждало Ивана Васильевича. На этот раз среди приведенных, как обычно, на воскресное богослужение в собор пансионерок не увидел он ту, которой был полон эти дни. Однако была ходившая всегда с ней в паре круглолицая бойкая блондиночка, то и дело вскидывавшая теперь издали на него, с каким-то, видно, особым значением, остренькие и лукавые голубые глазки.
Обескураженный и встревоженный, брел Турчанинов после обедни за возвращавшимися домой воспитанницами, держась в некотором отдалении от них. Что могло с ней случиться? Уж не заболела ли?..
Он прошелся раз и другой мимо старого дома с пилярами, остановился, подумал минуту, затем решительно поднялся на крыльцо и позвонил. Открывшему дверь сановитому, в золотых галунах и седых бакенбардах, швейцару первым делом сунул в ладонь полтину серебром, принялся было затем расспрашивать, но так ничего толком и не узнал. «С темными глазами, говорите? Не могу знать, ваше благородие... Да мало ли у нас таких барышень – и собой хороши, и глаза темные»... Разговор происходил в дверях, швейцар, несмотря на благосклонно принятую полтину, дальше порога военного мужчину не пускал.
– Мосье! – окликнул тут Турчанинова сверху писклявый голосок, и, брошенный из открытой на втором этаже форточки, к ногам Ивана Васильевича упал на панель завернутый в бумажку камешек. Турчанинов поднял, развернул. Смятая, наспех набросанная карандашом записка была на французском языке. «Мадемуаль Софи́ Перфильева сдала экзамены и уехала к себе именье. За ней приезжала маман, – сообщалось в записке. – Не огорчайтесь, приходите в церковь. Я живу в Петербурге».
Дальше стояла подпись, на которую Иван Василье право же, не обратил вниманья, и следовал постскриптум: «Вы душка!!!» – с тремя восклицательными знаками.
Турчанинов поднял голову, чувствуя, как вдруг померк для него ясный нынешний день и ширится в душе холодная безнадежная пустота. Сквозь оконное стекло глядела сверху бросившая ему записку голубоглазая блондиночка, улыбалась, усиленно кивала растрепавшейся белокурой головкой, из-за плеча высунулась другая пансионерка, темноволосая, с острым подбородком. Девчонки были в восторге, что им довелось принять участие в любовной драме, а бойкая блондиночка, похоже, и вовсе не прочь была занять теперь место уехавшей подруги.
Итак, ее звали Софи́. Софи Перфильева. И она хала домой. Навсегда уехала...
Не отдавая себе отчета, сунул он кое-как сложенную записку в карман шинели, круто повернулся на каблуке и медленно, отяжелевшими сразу ногами, пошел прочь. Даже забыл откозырять девицам в окне – ну, хотя бы из простой вежливости...
А ныне Иван Васильевич, полный юношески радостных надежд, ехал с князем Кильдей-Девлетовым к нему в именье, чтобы вновь увидеть кареглазую девушку.