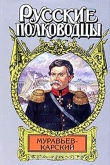Текст книги "Судьба генерала Джона Турчина"
Автор книги: Даниил Лучанинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
НЕТ НА СВЕТЕ ПРАВДЫ!
Спустя недели полторы после второй бомбардировки прибывший на бастион подпоручик Толстой зашел в оборонительную казарму, где, как ему сказали, должен был находиться Турчанинов. Остановившись на пороге, некоторое время искал глазами командира батареи среди наполнявшего просторное сводчатое помещение военного народа. Одни из офицеров спали одетыми на койках, накрывшись с головой шинелью, другие, собравшись у крепостной пушки, в амбразуру которой били косые солнечные лучи, вели шумный спор о последних назначениях и представлениях к ордену. Несколько человек за аркой сидели на полу на разостланных бурках и резались в карты. «Ва-банк!.. Идет семерка!» – донеслось до Толстого. Турчанинов в глубине помещения был занят беседой с высоким краснолицым офицером.
Появление подпоручика сразу же было замечено. Со всех сторон послышались приветливые возгласы:
– А,Толстой!
– Господа, смотрите – граф!
– Что, опять к нам?
Улыбаясь и кивая знакомым, а в то же время оправляя на ходу летнюю свою шинель, Толстой размеренным военным шагом подошел к начальнику батареи.
– Честь имею явиться, – представился, сдвинув сбитые коблуки. – Назначенный дежурный на третью легкую батарею подпоручик граф Толстой.
«То, что я сейчас так обращаюсь к тебе, прекрасно меня знающему, представляется мне смешной условностью, детской игрой в солдатики, – говорили и маленькие умные, пронзительные глаза, и самый его тон. – Но раз полагается так делать, я это и делаю, тоже участвую в общей игре».
– Опять к нам? – запросто спросил Иван Васильевич и, улыбаясь, подал руку.
– Опять, Иван Васильевич! – весело подтвердил Толстой. – Да вы никак ранены?
Турчанинов коснулся пальцами черной, стянувшей голову повязки.
– Заживает уже, царапина... Ну что ж, снова будем служить вместе, – сказал он. – Ничего не могу сделать, подайте рапорт командиру бастиона, – сухо бросил он стоявшему с недовольным видом краснолицему офицеру, показывая, что разговор закончен, и предложил Толстому пройти к нему в блиндаж.
– Граф, присаживайтесь! Понтирните! – крикнул, они проходили мимо игроков, безусый офицер с широкой желтой лысиной и худым злым лицом, продолжая метать банк длинными ловкими пальцами.
– Нет, благодарствую, больше не играю, – сказал, улыбаясь, Толстой.
– Как? Совсем?
– Совсем.
Несмотря на солнечный, почти жаркий, весенний день, в блиндаже командира батареи было сумрачно – свет проникал лишь сквозь маленькое запыленное оконце, – с полу несло земляной сыростью.
– Обедали? – спросил Турчанинов, вешая фуражку на костыль, вбитый в глинистую стенку, и причесывая спутавшиеся темно-русые волосы.
– Благодарствую. Пообедал в трактире, как сюда шел.
Турчанинов спрятал гребенку в карман и поднял что-то валявшееся у стены. Подал гостю:
– Полюбуйтесь! Ковалев принес из каптерки показать. Только что получили на батарею.
Тяжелый тупоносый солдатский сапог с ушками, новенький, еще необмявшийся, маркий, крепко пахнущий кожей, только подошва у сапога почему-то полуотодрана. Толстой повертел его в руках, поднял на полковника вопрошающие глаза.
– Картон! – крикнул Турчанинов, гневно краснея. – Картонная подошва! Не угодно?
Выхватив сапог из рук Толстого, постучал костяшкой пальца по оторванной на четверть, девственно чистой и гладкой подметке, рванул ее сильней. Сапог с треском разинул зубастую крокодилью пасть.
– Полюбуйтесь! – Иван Васильевич поднес его к лицу подпоручика. – Полюбуйтесь, как обувают защитников России, севастопольских героев! – Крепко, по-солдатски, выругавшись, запустил растерзанным сапогом в угол. – Всюду воры, лихоимцы, казнокрады!.. Верите, для того чтобы получить из казначейства деньги, полагающиеся на часть, нужно дать этим мерзавцам шесть, а то и восемь процентов от суммы. Иначе ведь и не выдадут. Где это слыхано, в какой армии?
– Ни в одном европейском войске нет солдату содержания более скудного, чем наше, – сказал Толстой. – Да и то доходит до него лишь половина того, что положено.
– А как строили укрепления, слышали? – продолжал изливать свое возмущение Турчанинов. – Мне рассказы вали: кирпич был разворован, на Северной стороне пришлось возводить лишь тонкие стеночки. Землю первое время рыли деревянными лопатами – весь шанцевый инструмент пропал неизвестно куда. Вы представляете себе: наш, крымский грунт, сплошной камень – деревянными лопатами!.. Только потом в Одессе у купцов нашли железные лопаты, стали тысячами привозить на подводах... Неужто не слыхали, Лев Николаевич?
– Слыхал, – тихо ответил подпоручик, сидевший с подавленным видом. – Что же все-таки вы с этими сапогами думаете делать?
– Что делать? – Турчанинов раздраженно усмехнулся. – Ну, подам рапорт начальству, доложу, а солдаты останутся без сапог. Не знаете вы наших порядков!
Сердито, рывком, он достал из-под койки раскупоренную бутылку портера, с полки – толстые стаканчики. По ставилна стол, налил гостю и себе, сказал сердито:
– Пейте.
– Ну как служилось? – спросил Турчанинов более спокойным тоном, остывая после вспышки бессильного гнева.
– Плохо, Иван Васильевич, – сказал Толстой. – Знаете, я страшно рад, что вновь попал к вам на батарею.
– Чем же было так плохо?
– О! – Толстой засмеялся, белея зубами из-под подстриженных усов. – Там j’ ai fait la connaissance de la mere de Кузьма[9]9
Я узнал кузькину мать (франц.).
[Закрыть]. Самый гадкий кружок, который можно представить. Ни одного человека, с которым можно и поговорить, ни одной книги... Командир хоть и доброе, но грубое созданье... Жили в землянках – холод, удобств никаких... Нет, честное слово, я предпочитаю бомбы и ядра вашего бастиона.
– А как журнал? – вспомнил тут Иван Васильевич.
– Журнал? – Подпоручик потемнел, веселую улыбку точно смахнуло. – От государя получен отказ.
– Жаль! – сказал Турчанинов, глядя на расстроенного Толстого с искренним сочувствием. – Очень жаль.
– Да, жаль... Нашлись люди, которые побоялись конкуренции этого журнала. У нас ведь против всего интригуют... А затем, быть может, идея журнала была и не в видах правительства.
– Вот это вернее, – сказал Турчанинов.
Толстой, придерживая поставленную между колен саблю, глядел в землю, пощипывал ус, насупясь.
– И как раз тут я получил из дому, от родных, полторы тысячи на журнал, который был отказан... И тут я проиграл в карты две с половиной тысячи рублей.
– Что вы говорите! – огорчился за графа Турчанинов: две с половиной тысячи были для него крупной суммой.
– Да, такие деньги... И тем самым доказал всему миру, что я пустяшный малый, – жестко проговорил подпоручик, хмурясь и по-прежнему не поднимая глаз: как понял Иван Васильевич, наказывал себя откровенностью самобичевания.
– Почему пустяшный? – возразил Турчанинов, вновь наполняя стаканы. – Просто настроение у вас было такое. Огорчились, наверное, крепко... А вообще горячий вы человек, Лев Николаевич. Азартный. Я это понял, когда вы открыли пальбу по французу.
– А! – вспомнил со слабой улыбкой подпоручик. Взял свой стакан, но пить не стал. – Знаете, Иван Васильевич, я служил на Кавказе юнкером, среди казаков, солдат, вообще простых людей. И я убедился, насколько их жизнь чище и нравственнее той, какую ведет наш круг. Даже только живя среди них, я сделался лучше:
– В каком смысле?
– Нравственнее, духовнее лучше. Конечно, это еще не много, так как я был очень дурным. Но я чувствовал, что сама мысль поехать на Кавказ – довольно-таки сумасбродная мысль – внушена мне самим богом. Это его рука вела меня, – серьезно, с глубоким убежденьем сказал подпоручик Толстой.
Турчанинов взглянул бегло, хотел что-то сказать, однако ничего не сказал, лишь зрачки блеснули насмешливой искоркой.
– Иногда я ловил себя на зависти к той простой, естественной и чистой жизни, какую они ведут, – продолжал подпоручик, – на желании жить так, как живут эти дети природы, простые, неграмотные казаки, не знающие ни светских манер, ни французского языка, ни наших умных книг...
Турчанинов отпил половину стакана.
– Я вас понимаю, – задумчиво кивнул головой. – Я вас очень хорошо понимаю, Лев Николаевич. Поверите, иной раз глядишь на мужика-пахаря и думаешь: уважать тебя надо, брат, за твой честный, благородный, необходимый для всех труд, уважать и благодарить, а не смотреть на тебя как на вещь, которую в любой момент можешь купить или продать... Совершенно верно, Лев Николаевич!
* * *
Сегодняшний день подпоручик Толстой провел в городе. Отобедал в трактире у Графской пристани, потом, перед тем как отправиться на дежурство, прогулялся на бульваре, где играл военный оркестр, было много морских и пехотных офицеров, гуляющих с женщинами, а чаще без женщин, и в тенистых аллеях висел сладкий, парфюмерный запах цветущей белой акации. Несколько раз подпоручик прошелся по главной аллее, повстречал знакомого адъютанта, статного и самоуверенного молодца в новенькой щегольской шинели и в белых перчатках, побеседовал с ним о штабных новостях, о том, кто из знакомых получил повышение по службе, кто ранен, кто убит. Затем спустился к воде. Со стороны моря дул ветер, бухта, где торчали кресты затопленных мачт, была неспокойной, взъерошенной. Подпоручик постоял на берегу, глядя на высокий, застроенный противоположный берег, заканчивающийся выдвинувшейся в открытое море двухэтажной каменной подковой Константиновской батареи; на тяжело опускавшееся малиновое солнце; на зеленые просвечивающие волны, которые, ряд за рядом, косо шли на берег и с шумом, космато вскидываясь брызгами, разбивались о мокрые, с малиновым блеском, камни.
Эти волны, думал подпоручик, вот так же катились задолго до того, как он родился, и будут вот так же накатываться и разбиваться о камни, когда умрут и он, и все, кто сейчас живет на земле, и пройдут еще тысячелетия, а море будет по-прежнему играть на солнце, гнать волны, в пене бросаться на берег. Вечность!.. Странно и нелепо слышать сейчас доносящуюся издали канонаду. Странно и нелепо, что идет война, что люди зачем-то убивают друг друга...
Когда, совершая обычный свой путь на 4‑й бастион, миновал он Морскую, нагнал его быстро шагающий на крепких коротких ногах штабс-капитан Коробейников.
– На дежурство, граф?
– На дежурство.
– Будем попутчиками.
Быть может, в иное время и в другом обществе, скажем, в обществе изящного адъютанта, подпоручик не слишком был бы обрадован тем, что рядом с ним идет невзрачный, простецкий, с дурными манерами штабс-капитан в обтрепанной шинели и верблюжьих штанах. Но сейчас, в сумерках, на опустелых, малолюдных окраинных улицах с разбитыми бомбардировкой белыми домиками, с грудами руин, шагать вдвоем было даже веселей.
– Был у нашего комиссионера по хозяйственным делам, – заговорил штабс-капитан. – Живет человек! – Тоскливо вздохнул. – Обстановочка, вы бы видели! Пальцы в золотых перстнях... Угостил меня каким-то ликером с золотым ярлыком – квартирмейстер из Симферополя привез, цена неслыханная... Да‑а... А тут в блиндаже, во вшах, день и ночь под бомбами... Нет, Лев Николаевич, нету на свете правды! Нету! Одни мучаются, умирают, а другие за неделю наживают десятки тысяч.
– За неделю десятки тысяч? – с недоверчивым удивлением спросил подпоручик.
– А то и больше... Не знаете, как наши интенданты наживаются?.. Что далеко ходить, взять хотя бы батарею. У батарейного командира, ежели хотите знать, тысячи через руки проходят, кое-что может и в кармане остаться.
– Каким же это образом?
– Да на одном овсе для лошадей умные люди состояние себе делают. Взять, к примеру, царство ему небесное, покойного майора Ананьева – до Турчанинова батареей командовал. Ему овес по восьми рубликов обходился, а справочки-то на десять с полтиной. Соображаете?.. Да сено, да ремонт, пятое-десятое... Зато и жил! И голландского полотна сорочка на нем, и десятирублевая сигара в зубах, и самый дорогой, за бешеные деньги, лафит на столе... Да, наживал-наживал, а все равно голову сложил, – не без некоторого злорадства добавил штабс-капитан, но, впрочем, тут же переключился на философический лад: – Вот она, жизнь человеческая! Что толку-то в богачестве!
– А Турчанинов тоже так делает? – глядя на Коробейникова своим острым, проницательным взором, поинтересовался Толстой. Штабс-капитан – понял он – все же не прочь был очутиться на месте батарейного командира Ананьева.
– Кто? Иван Васильевич-то?.. Ну, нет! – Коробейников энергично затряс головой. – Иван Васильевич небывалой честности человек. Просто даже удивления достойно. Поверите, копейкой не попользуется, а ежели что остается сверх положенного, на солдатский приварок отдает. Натурально, солдатня его любит.
– Слышите? – насторожился Толстой, прислушиваясь к поднявшейся вдруг впереди, на бастионах, жаркой ружейной трескотне. – Неужели штурм?
– А что? Все может быть.
Офицеры невольно прибавили шаг.
Стрельба нарастала, усилился орудийный грохот, которому вторил тревожный собачий лай на городских дворах. Там и тут в уцелевших домишках зажигались окна, бросая желтые отсветы на землю. Скрипели калитки, женщины и ребятишки, выглядывая на улицу, со страхом следили за светящимися точками бомб, беспрестанно прорезававших небо огненными параболами.
– Господи, пресвятая богородица, страсти-то какие! – мимоходом услышал Толстой старушечий голос. – Так и палит, так и палит, басурман проклятый...
Навстречу, громко, возбужденно переговариваясь, кучками брели раненые. Некоторых здоровые их товарищи вели под руки либо несли на носилках. В наступившей за короткими южными сумерками темноте белели повязки на головах, на руках. Толстой остановил солдата, который с трудом ковылял по дороге, опираясь на ружье и бережно переставляя неуклюжую, обмотанную бинтами ступню:
– Ты с ложементов?
– С ложементов, ваше благородие.
– Ну как там?
– Да что, ваше благородие, ежели их сила, – будто оправдываясь, заговорил солдат, стоя с шапкой в руке. – Одних бьешь, другие так и лезут на тебя. Лезут, да и шабаш. И штыка ведь не боятся, не нашего бога черти!.. Я двоих заколол, а тут меня как вдарит по ноге...
– Что же, значит, отдали траншею? – с огорчением спросил подпоручик.
– Кабы лезервы вовремя подошли, не отдали бы ни в жисть. А тут вишь какая сила...
– Лев Николаевич, пойдемте, – позвал Коробейников. – Вы землячков особенно-то не слушайте, – сказал он, когда оба, спотыкаясь в темноте, торопливо зашагали дальше. – У них ведь так: ежели сам ранен, значит, дело дрянь, враг одолевает, поражение...
Ружейная стрельба утихла, лишь время от времени пощелкивали отдельные выстрелы, зато усилился орудийный грохот, отбрасывающий на небо оранжевые отблески. Защищая захваченную траншею, французская артиллерия усердно била по бастионам. Крепостные батареи отвечали по мере сил. Огни выстрелов непрерывно озаряли пушки и хлопочущих около них людей, брустверы из туров, гребешки траншей, пороховые погреба, блиндажи и снова и снова батареи, туры, мешки с землей, ходы сообщений, блиндажи – всю эту давно знакомую крепостную тесноту, среди которой, придерживая сабли, пробирались оба офицера. Солдат, на которого подпоручик наткнулся в потемках, сказал ему, узнав по белой фуражке офицера:
– Вы стенки держитесь, ваше благородие... Вон куда достаеть! – добавил он, когда неподалеку, блеснув огнем, разорвался перелетевший через них снаряд.
Но вдоль оборонительной стенки, к чему-то готовясь, в напряженном, угрюмом молчании теснился целый батальон – вспышка обнаружила ряды бескозырок, торчащие вкривь и вкось штыки.
Кто-то курил напоследок, торопливо затягиваясь, трубочка, разгораясь, красновато освещала нависшие усы в проседью.
Офицерам, прежде чем очутиться в казарме, предстояло миновать открытое, довольно широкое пространство, на которое особенно часто падали бомбы.
– Добежим до вон того блиндажа, переждем, а потом в казарму, чего же тут стоять, – сказал Толстому штабс-капитан. – Ну, граф, с богом!
Торопливо перекрестился и, проворно забирая короткими ногами, с неожиданной прытью помчался к солдатскому блиндажу – низенькая полуоткрытая дверь его светилась желтым пятном издали. За ним, стараясь не ототставать, побежал подпоручик. Работая локтями, оба что есть духу неслись в пахнущей едким дымом темноте, поднятая разрывами пыль скрипела на зубах, над головой смертно шипело, посвистывало... Запыхавшись, с колотьем в боку вскочили они в тускло освещенный каганцом, полный пехотных солдат блиндаж, подпоручик радостно, с чувством детского торжества, засмеялся – и тут на площадке, которую они только что миновали, полыхнул бешеный красный свет, рвануло...
– Аккурат поспели, ваши благородия, – дружелюбно сказал ближайший солдатик и, усевшись на нары с дымящимся котелком, стал истово хлебать деревянной ложкой какое-то варево.
ПОД БЕЛЫМ ФЛАГОМ
Было назначено кратковременное перемирие для уборки убитых. Над полуразрушенными турами и насыпями бастиона заполоскался на ветру белый флаг. Такой же флажок забелел и на французской траншее. Стрельба с их сторон стихла, настала непривычная, странная и отрадная для всех тишина.
Залитая ярким южным зноем лощинка между нашими и неприятельскими позициями, где еще полчаса назад каждого появившегося на ней ждала пуля и где повсюду, полускрытые свежей зеленой травкой, валялись трупы в серых и синих шинелях, сейчас наполнилась народом. Толпы солдат и офицеров высыпали навстречу друг другу из-за укреплений, уже не боясь, что в них будут стрелять, и перемешались между собой. Пропахшая пороховым дымом долина превратилась в живой, беспокойно шевелящийся цветник – черные и белые фуражки русских, красные кепи и фески французов, синие их мундиры, красные штаны... Приехавшие из города рабочие команды тем временем принялись сносить и укладывать на подводы обезображенные трупы.
Среди севастопольцев, вышедших, из-за укрытий поглядеть вблизи на французов, а при случае и перекинуться с ними словцом-другим, находился и артиллерийский подпоручик граф Толстой. Он переходил от одной пестрой группы людей к другой, с пытливой жадностью, глядя на мирно разговаривающих меж собою, смеющихся врагов, и дивился в душе вовсе не враждебному, а скорей даже благожелательному, мало того – уважительному любопытству, с каким смотрели они друг на друга. Он прислушивался к их беседе. Он старался ничего не упустить и навеки запомнить все увиденное и услышанное, выражение лиц, улыбки, жесты, интонации, угадать мысли и чувства людей.
Порой горячим ветерком наносило с лощины сладковато-тяжелый, удушливый, отвратительный запах, и подпоручик думал, что под южным солнцем разложение происходит очень быстро и что людям, убирающим мертвецов, трудно работать.
И еще думал, что все это завернутое в цветное тряпье гниющее мясо еще недавно было живыми людьми со своими мыслями и страстями, собственным характером, со своей жизненной судьбой...
Пройдет немного времени – и артиллерийский подпоручик так напишет об этом дне:
«Вот в кружке собравшихся около него русских и французов молоденький офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтоб его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.
– Э сеси пуркуа се уазо иси?[10]10
Почему эта птица здесь?
[Закрыть] – говорит он.
– Parce que c’est une giberne q’un regiment de la garde, Monsieur, qui porte l’agle imperial[11]11
Потому что это сумка гвардейского полка; у него императорский орел.
[Закрыть].
– Э ву де ла гард?[12]12
А вы из гвардии?
[Закрыть]
– Pardon, Monsieur, du 6-eme de ligne[13]13
Нет, шестого линейного.
[Закрыть].
– Э сеси у аште?[14]14
А это где купили?
[Закрыть] – спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.
– A Balaclave, Monsieur! C’est tout simple en bois de palme[15]15
В Балаклаве. Это просто из пальмового дерева.
[Закрыть].
– Жоли! – говорит офицер, руководимый в разговоре не собственным произволом, но теми словами, которые он знает.
– Si vous voules bien garder cela comme souvenir de cette renconte, vous m’obligez[16]16
Вы меня обяжете, если оставите себе эту вещь на память о нашей встрече.
[Закрыть] . – И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе как французы, так и русские кажутся очень довольными и улыбаются.
Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами cтоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает и расковыривает трубочку и высыпает огня русскому.
– Табак бун, – говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.
– Oui, bon tabac, tabac turc, – говорит француз, – et chez vous tabac russe? Bon?[17]17
Да, хороший табак, турецкий табак, – а у вас русский табак? Хороший?
[Закрыть]
– Рус бун, – говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. – Франсе ист бун, бонжур, мусье, – говорит солдат в розовой рубашке, сразу уже выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француза по животу и смеется. Французы тоже смеются.
– Ils ne sont pas jolis ces betes de russes,[18]18
Они некрасивые, эти русские скоты.
[Закрыть] – говорит один зуав из толпы французов.
– De quoi de ce qu’ils rient donc?[19]19
О чем это они смеются?
[Закрыть] – говорит другой черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.
– Кафтан бун, – говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.
– Ne sortez pas de la ligne, a vos places, sacre nom!..[20]20
Не выходите за черту, на ваши места, черт возьми!..
[Закрыть] – кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся...
...Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается с прозрачного неба к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди – христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения...»
* * *
Несколько в стороне от беседующих групп подпоручик Толстой заметил Турчанинова, – с увлечением, помогая себе жестами, разговаривал полковник с молодым французским офицером. Коричневое от колониального загара, безбородое, приятное лицо француза было серьезным, он внимательно слушал русского. У него не было козлиной бородки, обычной для неприятельских офицеров и солдат, подражавших внешнему виду своего императора, подобно тому как русские офицеры и солдаты носили усы и бакенбарды, как их император.
– Знаете, господин капитан, армии всегда несут с собой разорение, какие бы идеи они с собой ни приносили, – услышал, подходя, подпоручик Толстой голос Турчанинова, продолжавшего начатую беседу. Изъяснялся полковник по-французски не слишком бойко, как и полагалось человеку, не принадлежавшему к тому кругу общества, в котором вращался граф.
– О, я вас понимаю! Я вполне согласен с вами, мосье, – закивал головой француз.
– Мы видим, что такое война, не правда ли? – Турчанинов повел рукой. – И тем не менее я занимаюсь этим ужасным делом, насколько могу, хорошо, потому что это моя профессия. Я выполняю свой долг. Во имя чего? Не знаю... Во имя идеалов, которые, быть может, и сам не умею объяснить...
Он оглянулся на подошедшего подпоручика и, оборвав разговор, сказал французу:
– Очень жаль, но, кажется, нам уже пора расстаться. Мне было очень приятно с вами познакомиться.
– Мне еще более, мосье колонель, – учтиво ответил француз, поднеся два пальца к лакированному козырьку красного, с золотым галуном кепи.
Светские улыбки, дружеские рукопожатия, руки, поднесенные к козырькам, – и они разошлись в разные стороны, французский и русские офицеры.
Некоторое время Турчанинов с Толстым шли в молчании. Потом полковник усмехнулся:
– А через час мы опять будем стрелять друг в друга... Смешно и грустно, подпоручик...
Толстой ничего не сказал.
– Очень интересная была у нас беседа, – заговорил Турчанинов через минуту. – Он сказал мне, этот француз, что по убеждениям республиканец, поклонник Сен-Симона и Фурье, и лишь по необходимости вынужден участвовать в этой глупой ссоре двух императоров, как он выразился.
Подпоручик сказал:
– А знаете, Иван Васильевич, опять приходится расставаться с вами и с четвертым бастионом. Жалко, но ничего не поделаешь.
– Переводят?
– Да. На Бельбек. Получил назначение сформировать взвод горной артиллерии. И командовать.
– Ну что ж, поздравляю, – рассеянно сказал Турчанинов, думая свое. – Там поспокойней, чем у нас.
– Это для меня совершенно безразлично, – отозвался подпоручик. И так надменно прозвучал его ответ, таким взглядом обдал он собеседника, что невольно почувствовал Иван Васильевич: прост-прост, а все-таки граф. Аристократ...
Турчанинов постарался загладить свою неловкость:
– Ни минуты в том не сомневаюсь, Лев Николаевич... Все время вас перебрасывают с места на место, – перевел он беседу на другое.
– Да, просто устал от всех этих перебросок, – вернулся и подпоручик к обычному тону. – То служу на батарее под Севастополем, то в самой крепости, то под Симферополем, то назначают на Бельбек, то опять на четвертый бастион. А теперь опять бросают на Бельбек.
– Ничего не поделаешь, граф. Служба.
Толстой поднял с земли сухой прутик, шел, пощелкивая по лакированному голенищу, развернув, по своей манере, носки.
– Смотрите! – внезапно указал прутиком. Так странно прозвучало это «смотрите», что Турчанинов сначала посмотрел не туда, куда указывали, а на самого Толстого. С горячим, внезапно вспыхнувшим, охотничьим блеском в глазах подпоручик пристально глядел на мальчишку, что бродил поодаль, собирая цветы. «Вот он, писательский взгляд», – мелькнуло у Ивана Васильевича.
Поминутно нагибаясь, мальчонка рвал голубые цветы, которыми весна усыпала смертную долину. Курносый, конопатый, старая отцовская бескозырка сползает на уши. Тот самый, что перевозил их через Большой рейд на пару с дедом... Собирал мальчонка цветы и с любопытством поглядывал то на толпившихся у своей траншеи французов, то на попадавшиеся ему по пути трупы, неподвижно и плоско лежащие в траве.
Вот остановился перед кучей снесенных в одно место тел, стал рассматривать, пряча от запаха нос в собранный букетик. Постоял несколько минут, уставясь на ближайший к нему страшный, безголовый труп француза, затем придвинулся почти вплотную и осторожно тронул босой ногой вытянутую окоченелую, грязно-восковую руку в синем обшлаге. Рука шевельнулась и застыла в воздухе. Мальчишка тронул ее ногой опять – рука вновь покачнулась и вновь застыла. Мальчишка вдруг охнул и опрометью бросился бежать к укреплениям, по-прежнему пряча нос в букетик.
– Одно из двух, – глухо сказал Толстой и, свистнув хлыстиком, сбил мимоходом лиловую мохнатую головку репейника. – Одно из двух. Либо война сумасшествие, либо ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.