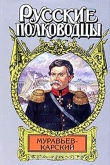Текст книги "Судьба генерала Джона Турчина"
Автор книги: Даниил Лучанинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
ВОСШЕСТВИЕ ВО ЕРУСАЛИМ
...Песни, музыка, гиканье. Стонут гитары в темных, унизанных серебряными кольцами руках. «К нам приехал наш родимый, князь Илья наш дорогой!» – оглушительно ревут мужские и женские голоса. Цветастые шали на плечах женщин, красные, розовые, оранжевые платки. На мужчинах канареечно-желтые, лиловые, лазоревые рубахи, шаровары черного плиса. Смуглые лица, черные бороды, глазищи дьявольские – фараоново племя!.. Пенье, пляска, опять льется по бокалам вино – дым коромыслом...
Выскочила какая-то молодая, пошла плясать под гитары – худенькая, яркая, в золотых, бренчащих на груди монистах. Черные глаза, белые зубы, в ушах золотые кольца. То вьется, гибкая и вертлявая, точно змейка, дробно каблучками постукивает, то вдруг замрет, стоит на месте, бросив руки, только острые плечики, непостижимо как, мелко-мелко трепещут да грудки под пунцовым шелком упруго подрагивают. Ох, хороша, бесовка!.. Да где уж тягаться с князем. Вон, совсем обезумел. «Глашенька!.. Королева!.. Богиня!..» И мечет ей под ноги на ковер ассигнацию за ассигнацией. А она – и впрямь королева – никакого внимания, пляшет себе, топчет их каблучком... «Эх, распошел! Мой серый конь пошел!..» – пьяно, разгульно горланит хор, и вторят ему гитары...
Турчанинова так тряхнуло на ухабе, что он очнулся и открыл глаза. Трясется и скрипит тарантас, перед глазами широкая спина ямщика, перехваченная красным кушаком. Рядом мотается туда-сюда голова князя Кильдей-Девлетова. Фуражка надвинута на нос. Все еще не очухался, сердешный, после вчерашнего кутежа с цыганами. Дружно бегут лошади, без умолку гремят бубенцы, мелькают полосатые верстовые столбы на обочине дороги.
Постепенно свежим, холодноватым, по-весеннему остреньким ветерком, полным влажных запахов сырой земли и ржавой перезимовавшей травки, выдуло из тяжелой с похмелья головы пеструю муть вчерашнего разгула. Турчанинов оживел, внимательно стал поглядывать по сторонам.
Какие-то большие земляные работы происходили невдалеке. За придорожными высокими, старыми, екатерининской поры, березами тянулись горы развороченной земли, на которых по-муравьиному копошились сотни работающих кирками и лопатами мужиков.
Тарантас остановился посреди дороги, ямщик слез с козел и принялся поправлять запутавшиеся на лошадях постромки. Совсем близко увидел Иван Васильевич, как длинная вереница рабочих, друг за другом, катят по проложенным среди бугров разрытой земли, тесинам тяжело нагруженные тачки. Коренастый, широкоплечий мужик в распоясанной, ворот расстегнут, побуревшей от пота и грязи рубахе, взявшись за ручки, с усилием толкал в гору тяжелую тачку, желтеющую грудой сырого песка. Упираясь разбитыми лаптями, медленно, настойчиво, шаг за шагом, одолевал подъем.
За ним тащили тачку вдвоем, – одному, видать, было не под силу. Длинный, тощий парень, – плечи стянуты широкой лямкой, – с натугой ставя босые ноги, по-бурлацки валился впалой грудью вперед – лохматая голова поникла, руки висят точно плети. Второй, постарше, приземистый, заросший по щекам курчавой рыжеватой шерстью, держась за ручки, подталкивал тачку сзади. А следом надвигались новые и новые понурые головы, напряженно выпяченные плечи... Слышно, как повизгивают на досках колесики тачек. Почудилось Турчанинову, будто густо и крепко потянуло на него мужицким потом – соленым, мученическим...
– Последний участок заканчивают. В нынешнем году должны пустить. Будем, брат, по железной дороге ездить. Как в просвещенных Европах, – иронически сказал проснувшийся Кильдей-Девлетов. И сердито крикнул ямщику, высунувшись из тарантаса: – Что у тебя там? А ну, поехали!
Ямщик забрался на козлы, покатили дальше. Вскоре тракт свернул в сторону, и строящаяся между двумя столицами, Петербургом и Москвой, железная дорога осталась позади.
Все дальше и дальше катил тарантас с двумя путешествующими офицерами, лишь верстовые столбы уносились назад.
Эх, дорога! Большая проезжая дорога, залитая лиловой грязью, весело сверкающая на солнце лужами, точно осколками зеркал. Поля, ширь! Дальний, крепнущий с каждой минутой, валдайский колокольчик, встречная тройка. На тройке бритый помещик в дорожном картузе, бородатый купец в пуховой шляпе. Пролетели – только грязь во все стороны из-под колес, – разминулись, затихает вдали колокольчик, и вновь смыкается великая тишина пробуждающихся полей. Длинные обозы с товарами тянутся... Эх, дорога, большая столбовая дорога!..
Турчанинов быстро убедился в умении Кильдей-Девлетова путешествовать по российским трактам. Прискакав на почтовую станцию, князь первым входил в дом – гвардейская фуражка набекрень, шинель, будто гусарский доломан, картинно спущена с одного плеча, – бросал смотрителю на стол подорожную и кричал громовым голосом:
– Лошадей! Живо!..
Беда, если лошади оказывались в разгоне. На станционного смотрителя рушился град ругательств; Кильдей-Девлетов багровел, выкатывал глаза, из-под надушенных усов летела матерщина. Порой и нагайка, специально прихваченная в дорогу, подносилась к носу перепуганного старика в длинном зеленом сюртуке с потертыми локтями.
И в результате, отдавая последнюю тройку, припасенную для курьера либо проезжего генерала, бежал смотритель куда-то распорядиться. Под окном начинали переругиваться ямщики, чей черед ехать, затем слышалось приятное погромыхивание бубенцов, а вскоре и новый возница с кнутом в руке появлялся в дверях:
– Пожалуйте, господа почтенные.
Усаживаясь в тарантас с кожаным верхом, запряженный тройкой резвых, Кильдей-Девлетов самодовольно говорил Турчанинову:
– Вот, мон шер, как надо разговаривать с этой сволочью.
Сзади в бричке, на паре лошадей, то и дело отставая, тряслись Воробей с княжеским камердинером и господский багаж.
Как-то утром въехали под колокольный звон в большое придорожное село. Народ шел в церковь. Сельская улица празднично пестрела чистыми рубахами, сарафанами.
– Барин, а барин! На постоялом, часом, не остановимся? – неожиданно подал голос ямщик, оборотясь с козел через плечо багрово-обветренной, волосатой скулой. – Утятина жареная тут больно гожа́.
– Утятина, говоришь? – задумчиво переспросил князь, ощутив внезапно некое томленье в желудке – неведомым путем передалось оно и Турчанинову, услышавшему заманчивое предложенье ямщика.
– Проезжие господа завсегда останавливаются.
– Ну что ж, попробуем твою утятину. Как, Турчанинов?
Иван Васильевич не возражал.
Бубенцы громыхнули напоследок и затихли, тройка остановилась перед богатой двухэтажной избой с коньком на крыше и с галдарейкой под навесом. Усталых офицеров, вылезающих из заляпанного грязью тарантаса, низко кланяясь, встретил на крыльце сам хозяин – сытый рыжебородый мужик в засаленной жилетке.
Крутая, узенькая, скрипящая каждой ступенькой лестница вела в «чистое» – для господ – помещенье.
Разминая затекшие ноги, Турчанинов с князем поднялись наверх, разделись, умылись с дороги из глиняного рукомойника, висевшего у двери на веревочке. Заказали обед. Снизу несло жареным луком. Хозяин накрыл стол. Стуча сапогами по лесенке, принес водки в квадратной фляге зеленого стекла и на тарелке заказанную жареную утку – сам предложил ее проезжим господам. Проголодавшиеся офицеры принялись за еду.
Тут с улицы донеслось протяжное, на церковный лад, стройное хоровое пение. Пели звонкие мальчишеские дисканты и альты. Оторвавшись от еды, Кильдей-Девлетов заглянул в окошко и вдруг разразился своим отчетливым, жестяным хохотом.
– Ха-ха-ха! – будто выговаривал он. – Нет, ты посмотри, Турчанинов! Каково?
Странная процессия двигалась по селу. Впереди двое белоголовых мальчишек, без шапок, в лаптях, несли большую корзину, полную хвойных веток, и разбрасывали их на непросохшей дороге. За ними, окруженный шумной оравой дворовых и деревенских ребят, размахивавших малиновыми пучками вербы, ехал грузный молодой человек в круглой шляпе и в теплом сюртуке, сидя верхом на маленьком, семенящем копытцами ослике. Руки сложены крестообразно на груди, одутловатое, заросшее рыжеватой бородкой лицо обращено к небу. Из-под полей шляпы спускались на плечи желтые монашеские космы. Мальчишки, радуясь возможности поозоровать, горланили вразброд: «Оса-анна‑а в вы-ыш-них...», тянули за уздцы упиравшегося осла и украдкой, за спиной едущего, стегали друг дружку по спинам вербой – верба хлёст, бьет до слез. Замыкая шествие, позади хмуро шлепали по густой вешней грязи два лакея в домодельных ливреях.
Хозяин тоже подошел к оконцу.
– Барин наш. – Зевнул, перекрестив пасть, чтобы нечистый в рот не влетел. Почесал под мышками. – В церкву едет.
– Что же это он? На осле? – спросил Иван Васильевич.
– Точно, на осляти. Вербное воскресенье нонче, по-церковному – восшествие господне во Ерусалим. Вот он и едет на осляти. Аки Христос... Богобоязненный у нас барин. – Тон у хозяина был спокойный, ленивый, заросшее лицо невозмутимо, только в смышленых глазках ютилась усмешка.
– Вот доедет до церкви, – продолжал он, – остановит свою ослятю у паперти да так, не сходя, всю обедню и прослушает. А чтоб, значит, лучше слышно было, приказано попу в это время церковные двери настежь отворять. Послушает литургию – да тем же манером домой.
– Богатый ваш помещик? – спросил князь Илья.
– Баре у нас богатые! – сказал бородач не без гордости. – Молодой барин здесь живет, а папаша у их вельможа в Санкт-Питербурхе и в больших чинах. Енерал-адъютант... Сынок-то не в него удался. Живет молодой барин в особой келии, и дверь в ту келию не закрывается. А рядом – конюшня для этой самой осляти. А дальше – птичник. Одних только уток разводит. И для чего разводит, неизвестно, потому – резать их запрещено наистрожайше... Вот вы, ваше благородие, уточку изволите кушать. Так это оттуда. С барского двора. – Глаза мужика смеялись совсем уж откровенно. – Не извольте сумлеваться, дворовые люди принесли.
– Воруют, значит, господских уток? – спросил Иван Васильевич.
– А то!
– Так ты что, каналья, краденым нас кормишь? – спросил князь расслабленным голосом. – Краденым, мошенник?! – заревел он и, схватив хозяина за бороду, дернул книзу. – Краденым, распротобестия?!
– Илья! – сказал Турчанинов.
Но князь сейчас ничего не слышал.
– Да я твоей уткой всю рожу тебе разобью! Ах, мерзавец! – кричал он с перекошенным лицом и мотал хозяина за бороду из стороны в сторону.
– Илья, перестань! – повысил голос Турчанинов.
На этот раз Кильдей-Девлетов услышал и выпустил оторопевшего мужика.
– Вон! – крикнул страшным голосом. Хозяина вынесло в дверь. Донесся панический – через две-три ступеньки – грохот сапожищ. Князь стоял, сверкал глазами. – Нет, каков мерзавец! А?.. Фу, даже в голову вступило!.. Ни копейки за обед не платить каналье!
– Брось! – сказал Турчанинов, брезгливо усмехаясь. – Охота тебе!
Час спустя вновь были они в пути. Долгое время ехали молча, погруженные каждый в свою думу. Внезапно князь отрывисто хохотнул:
– Христосик-то, а? На осляти... А похоже, Турчанинов, не все у него дома.
– Сумасшедший, – отозвался Турчанинов, вспомнив подчеркнуто благостное, неестественное выражение нездорового желтого лица с театрально возведенными к небу очами. – А ведь в полной власти такого безумца находится, наверно, не одна тысяча людей – мужчин, женщин, детишек... Он распоряжается их жизнью и смертью...
– А, ты вот о чем! – не сразу понял князь и показал глазами на ямщицкую спину: говорить о таком щекотливом предмете при мужике!
– Да, об этом! – подтвердил Иван Васильевич с нажимом.
– Филозо́ф! – насмешливо и пренебрежительно сказал князь. – Слушай, ты не из немцев?
– Коренной донской казак. Родина моя – Область Войска Донского.
– А я думал – из немцев. Они ведь мастера философию разводить.
Турчанинов пожал плечами и замолчал, досадуя на себя. Нужно было ему заводить такие разговоры! И с кем?..
Все больше убеждался Иван Васильевич, насколько разные они с князем люди. Пожалуй, даже неприятен был ему сидящий бок о бок спутник, чей твердый локоть чувствовался при малейшем толчке. Все, что можно, переговорено было еще в первые часы совместного путешествия, – главным образом насчет академии, насчет возможностей, которые она давала. Ехали, молчали и дремали, либо делали вид, будто дремлют.
Ивану Васильевичу теперь мнилось, что и у князя бродят такие же мысли. Вероятно, в глубине души жалеет, что предложил под пьяную руку ехать гостить к нему. Может, даже недоволен, что Турчанинов согласился. Но отказаться от своего приглашения нельзя, поздно...
Длинными четырехугольниками чернели пашни на склонах пригорков. Уже начались полевые работы. В стороне от дороги, налегая на соху, шел по свежей борозде пахарь. Ветром пузырило на спине красную рубаху, серым дымком относило в сторону подсохшую пыль из-под лаптей. Тужась, выбрасывая коленки, тащила соху гнедая коняга. Жеребенок, перебирая длинными ломкими ногами, плелся позади, останавливался, опустив морду, долго принюхивался к сырой, развороченной, бархатно-черной земле, к бурым прошлогодним травинкам.
Странное чувство вдруг охватило Турчанинова. А что, если бы и ему вдруг довелось жить такой же жизнью и работать так же, как работают эти мужики?.. Ходил бы вот так же, увязая ногами в рыхлой почве, за плугом, по широкому полю, под голубым, огромным, бездонным, с белеющими пухлыми облачками небом, в котором без конца журчит-переливается, полная радости, жизни, ликующая песня жаворонка. Где он там, певун? И не разглядишь...
Смиренная, простая, безыскусственная, но мудрая жизнь. Труд тяжелый, но самый нужный, самый для человека важный: своими руками выращивать хлеб насущный. Если вдуматься, насколько такой труд выше и благороднее искусства убивать людей, разрушать и уничтожать, чему только и обучали его в юные годы...
РОДНЫЕ ПЕНАТЫ
По мере того, как близилось к концу путешествие, чаще заговаривал Кильдей-Девлетов о местах, куда ехали, о своем детстве, об отце, – видимо, подступали поминания.
– Старик у меня большой оригинал, сам увидишь, – говорил он Турчанинову, как бы заранее подготавливая – Но широкая русская душа, хлебосол, весельчак. Душа-старик...
Смеясь, рассказывал, как обучали его в детстве грамоте.
Преподаванье закона божьего и русского языка было поручено местному священнику отцу Андрею. Для французского языка родители нашли гувернера, мосье Бонэ, из пленных наполеоновских солдат, неплохо прижившихся в холодной России. Ни тот, ни другой не докучали своему питомцу науками. Заметив, что юный князь начинает зевать и томиться, отец Андрей говорил: «Пока довольно», вставал, поправляя наперсный крест, из-за стола и прощался.
Что касается мосье Бонэ, он лишь зимой с грехом пополам обучал Илью своему предмету:. Летом, предоставляя княжичу полную свободу действий, француз брал ружьишко и спозаранку отправлялся на охоту – стрелять воробьев. Настреляв достаточно, относил на барскую кухню, где их для него жарили, а сам шел на село, в кабак.
Несмотря на римско-католическое свое вероисповедание, мосье Бонэ весьма почитал православные праздники. Однажды старый князь на продолжительное время уехал в саратовское именье. Было это накануне Покрова дня. Гуляя с Илюшей, мосье Бонэ заглянул на мельницу, к своему приятелю мельнику Акиму, и во время дружеской беседы спросил, большой ли праздник Покров, как считают русские. «Самый что ни на есть большой, – ответил Аким, подумав. – Потому – три дня полагается гулять перед праздником, три дня – на самый праздник да три дня – опосля».
Мосье Бонэ добросовестно пропьянствовал с Акимом все девять дней. Они в обнимку шатались по селу – бритенький, тщедушный, рыже-седой французик в сереньком фраке и дюжий, весь запудренный мукой, бородач мельник, шутя ворочавший пятипудовые кули, – и, не слушая друг друга, дурным голосом орали песни. Один дребезжал что-то про малютку Жаннет, а другой, забивая его, ревел: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...» Пройдя шагов десять, мельник останавливался и говорил, еле ворочая языком: «Хоша ты мусью, а веры нашей. Дай поцелую».
И целовались посреди улицы...
– А я тем временем ходил на голове. Можешь себе представить, какого балбеса привез мой родитель в кадетский корпус! – сверкая прекрасными зубами, со смехом закончил князь Илья.
И вот однажды к концу погожего дня, озаренные розовым закатным пламенем, показались вдали соломенные крыши большого села, в беспорядке раскинувшегося на склоне пологого оврага.
На одной стороне села из-за деревьев большого, сползавшего к пруду, старого парка виднелись колонны барского дома. На другой – зеленый куполок церкви с горящим, точно зажженная свечка, золотым крестом.
– Подгорное! – сказал Кильдей-Девлетов, всматриваясь.
И ткнул кулаком в ямщицкую спину:
– Давай!
– Родимы‑е, гра‑а‑абют! – завопил ямщик погибельным голосом, ослабив вожжи и крутя кнутом над головой.
Откуда только прыть взялась у лошадей! Гремя бубенцами, швыряя и подбрасывая на ухабах, тройка стремглав промчалась по широкой, еще не успевшей подсохнуть сельской улице, замелькали избы, плетни, березы. Завидев офицерские фуражки, встречные мужики останавливались и, стащив шапки, стояли с непокрытыми головами, бабы и девки кланялись в пояс.
Потом появились ворота с каменными львами, разъяренно разинувшими пасти. Тройка влетела в раскрытые ворота с железными решетками, под многоголосый собачий лай обогнала серую, пока еще не горящую цветами куртину посреди широкого двора и остановилась у подъезда большого белого дома с екатерининским портиком о шести колоннах. Две полукруглые застекленные галереи, охватывающие двор, соединяли главное здание с флигелями, где находились (как узнал после Турчанинов) – в одном – кухня и помещение для дворни, а в другом – комнаты для гостей. Окна верхнего этажа пылали отраженным пожаром заката.
Сбежавшиеся отовсюду породистые псы крутились под ногами лошадей, с остервененьем лаяли и рычали на вылезающих из тарантаса. Какие-то лица замелькали за стеклами окон, какие-то фигуры появились в дверях дома.
В просторном вестибюле офицеров окружила толпа плечистых гайдуков и ливрейных лакеев.
– Батюшка дома? – отрывисто спросил Кильдей-Девлетов, сбрасывая шинель кому-то на руки.
– Святители-угодники, сам князек молодой! – завопил, делая плачущее лицо, старый тонконогий лакей в белых, плохо натянутых чулках. Слезливо шмыгая носом, начал хватать у князя руки поцеловать. – Ваше сиятельство... Радость-то какая!.. Пожаловали наконец...
– Ну ладно, ладно, хватит! – нетерпеливо высвободил руку Кильдей-Девлетов, не узнавая старика, да и не собираясь его узнавать. – Раздевайся,Турчанинов. Идем.
В некотором изумлении Турчанинов остановился на пороге. Перед ним пустынно открылся большой, двусветный, довольно странного вида зал, весь пронизанный бьющими в полукруглые окна дымно-багряными прощальными лучами вечернего солнца. Не было здесь никакой мебели, только в глубине, на помосте, обитом алым сукном, точно два трона, симметрично стояли два ярко-красных кресла с высокими спинками, украшенными золотой бахромой. Третье такое же кресло помещалось ниже, на небольшом возвышении.
За креслами виднелись два больших портрета в золоченых рамах. Один изображал во весь рост мужчину средних лет. Густые черные волосы падают, курчавясь, на низкий лоб, как бы нахмурены черные сросшиеся брови, тяжело очерчен подбородок. На шее, под подбородком, сверкающий эмалью и золотом орден, из-под бархатного лацкана вицмундира высунулась большая серебряная звезда. На другом портрете – молодая миловидная женщина с покатыми алебастровыми плечами, в белом придворном атласном платье.
Несмотря на аляповатое письмо, все же крепостному художнику удалось передать выражение лиц: надменное, властное, жестокое – у мужчины и кроткое, робкое – у женщины.
– Каков тронный зал? – спросил Кильдей-Девлетов, непонятно хохотнув – то ли с некоторой гордостью, то ли с насмешкой над тем, что показывал. – Я тебе говорил, старик у меня чудак.
– А третье кресло, – это что, трон для тебя? – спросил Турчанинов.
Ответить князю не пришлось. Послышалась приближающаяся топотня, и в зале появилась толпа людей – старый князь с княгиней, за ними лакеи, горничные, приживалки, шутихи.
Поседевший и потолстевший, в распахнутом полосатом архалуке, под которым виднелась белоснежная сорочка голландского полотна, в расшитой шелками шапочке с толстой кистью, старый князь Кильдей-Девлетов сейчас мало напоминал свой портрет. И расплывшаяся, огрузневшая, в чепце с желтыми лентами, княгиня тоже ничего не имела общего с тихой красавицей в атласном платье.
Еще издали протягивая руки, задохнувшаяся от бега и от радости, она бросилась на шею к сыну, опередив мужа.
– Ильюша... Ильюша... – лепетала, плача и смеясь, и покрывала поцелуями припавшую к ее слабой, дрожащей руке черную голову с заросшей шеей.
Старый князь топтался около них.
– Пусти, дай мне... Ну, пусти же, дура дурацкая! – крикнул он, засверкав глазами, и, отстранив локтем жену, тоже заключил молодого князя в родительские обътья. – Хорош, хорош... Богатырь!.. Красавец!..
Внезапно обрюзглое, густобровое, с припухшими подглазьями лицо старого князя стало зверским.
– Прекратить! Разогнать псарню! – рявкнул он, обращаясь к слугам: со двора доносился шумный лай собак, которые никак не могли успокоиться.
Слуги со всех ног бросились к дверям.
Тут старый князь заметил наконец стоявшего в сторонке Турчанинова и надменно прищурился на него. Громко и бесцеремонно спросил сына:
– А это кого с собой привез?
– Мой друг, Иван Васильевич Турчанинов, батюшка! – представил князь Илья. – Вместе с ним в Венгрии воевали. Прошу любить и жаловать.
Турчанинов сдержанно поклонился.
– А! Ну что ж, милости просим.
И старый князь, уже остывший после недавней вспышки, с высокомерной благосклонностью протянул гостю небольшую, крепкую, теплую руку с масонским перстнем на безымянном пальце.