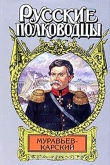Текст книги "Судьба генерала Джона Турчина"
Автор книги: Даниил Лучанинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ...
Джордж, слуга Надин, сидел на крыльце домика, где поселились командир бригады со своей миссис. Сидел, наблюдал, как Майкл чистит скребницей выведенного из конюшни полковничьего жеребца, и напевал вполголоса нечто молитвенное, подыгрывая себе на банджо.
– Полковник вернулся? – спросила, подымаясь по ступенькам, Надин.
– Да, мисси. Масса полковник сейчас отдыхает.
Пристрастие к церковным песнопениям и достаточно солидный возраст ничуть не мешали Джорджу быть легкомысленным щеголем и фатом. «Что это у тебя так блестит лицо?» – спросила как-то Надин, обратив внимание на его лоснящуюся, точно черным лаком крытую, физиономию. «Правда, мисси, красиво? – самодовольно спросил Джордж. – Это только глицерин да розовая вода». То и другое, как вскоре выяснила Надин, были взяты с ее туалетного столика. А красивым Джорджу захотелось стать потому, что он вознамерился было пленить собою Гарриэт, однако с первых же шагов потерпел полную неудачу. «Мякинная голова», – отозвалась о нем негритянка.
Когда Надин вошла в комнату, Иван Васильевич уже проснулся и лежал на постели в хмуром сонном раздумье, закинув руки за голову и пошевеливая пальцами в носках. Сабля в блестящих металлических ножнах была поставлена в угол, долгополый синий мундир с поперечными погончиками напялен на спинку стула, запыленные сапоги с перегнувшимися мягкими голенищами сброшены у кровати.
– Солдат у меня умер, – сообщила Надин, усевшись. – Совсем мальчик.
Наедине друг с другом, чтоб не забыть родной речи, говорили они на своем языке.
– Как тяжело, Жан, смотреть вот так и чувствовать, что ничем не можешь помочь, все твои знания бессильны. – Тонкие руки ее устало лежали на сдвинутых под широкой темной юбкой коленях, печальные глаза смотрели в одну точку. – Господи, когда же, наконец, люди перестанут убивать друг друга? Когда прекратятся войны?
– Никогда, душа моя, – серьезно, скорей даже сердито ответил на это Иван Васильевич.
Помолчали. Надин спросила:
– Ну что комиссия?
– Кажется, закончила, – невесело сказал Турчанинов.
– Ну и как? – И голос ее и взгляд дышали тревогой.
– Откуда я знаю? – с досадой ответил Иван Васильевич.
– Ты не спрашивал?
– Я слишком уважаю себя, чтобы спрашивать. Они сами должны мне сообщить результаты... Обвинять меня как будто не в чем. Воюю не хуже других. А может, и лучше.
– Тебя вызывали?
– Допрашивали всех командиров полков, и Пайта, и Вейдемейера, и Мура, а меня вызывали только раз. Спрашивали насчет негров в бригаде. Кажется, мой ответ их удовлетворил.
– Конечно, ничего не обнаружили, – уверенно сказала Надин, как бы не замечая его раздраженного тона. – Не волнуйся, Жан, все будет хорошо. Твоя совесть чиста.
Он усмехнулся наигранной этой уверенности, предназначенной для его успокоения.
– Моя-то совесть чиста, а вот у них может оказаться нечистой.
– Это Бюэлл! – убежденно проговорила Надин. – Это ты его тогда разозлил, на совещании. Ах, Жан, Жан!
– А, будь что будет! – досадливо поморщился Турчанинов и сел, спустив на пол ноги. – Надоело все!.. Устал, Наденька, я.
У нее сжалось сердце: как осунулся за эти дни!
– Нет, нет, Жан, так нельзя! – Порывисто подошла к нему и, усевшись рядом, взяла большую, тяжелую, темную руку в свои руки, горячие, источающие нежность. – Нельзя поддаваться настроению. Ты ни в чем не виноват, ты прав. Ты должен держаться гордо, бороться.
Турчанинов вздохнул, похоже, хотел что-то сказать, однако не сказал, только мягко высвободил руку и принялся натягивать тесные сапоги. Через раскрытое окно слышалось томное подвывание банджо.
– Знаешь, Наденька, мне сегодня нужно ехать, – сказал Иван Васильевич, пройдясь по комнате.
Надин испуганно вскинула голову:
– Куда?
– В штаб дивизии. Митчелл вызывает.
– Наверно, в связи с комиссией?
– Конечно. Ты не дашь мне мыло и чистое полотенце?..
Стоя спиной, он укладывал в дорожный саквояж необходимый в пути припас и говорил с искусственной, не обманывающей ее бодростью:
– А ты, душенька, не волнуйся. Пустяки. Я тоже думаю, что все обойдется... Между прочим, что делает у вас Гарриэт?
– Все, – ответила Надин. – Помогает во время операций, ходит за ранеными, стирает белье, моет полы, топит баню... Удивительная женщина! Получила на днях вознаграждение за работу – двести долларов – и как ты думаешь, что сделала? Все деньги отдала на прачечную для негров-беженцев.
– Возможно, дитя мое, на днях у вас заберут Гарриэт, – сказал Турчанинов.
– Куда? – удивилась Надин.
– Я подал рапорт в генеральный штаб. Предлагаю использовать ее для разведки в тылу врага. Ведь это же отличная разведчица: прекрасно знает Юг, все пути-дороги, ловкая, смелая, неуловимая... Надеюсь, все-таки, что там сидят не окончательные болваны, прислушаются к моим словам.
* * *
Облокотясь на оцинкованную стойку, с фужером в руке, потягивал Иван Васильевич шерри-бренди и прислушивался к разговору соседей, наполовину заглушенному полупьяным гулом переполненного салуна. А разговор, право, заслуживал того, чтобы внимательно к нему прислушаться. Беседовали у стойки два знакомых, случайно повстречавшихся джентльмена, один из которых – сытого вида, крикливо одетый, красный галстук, желтый котелок на затылке – недавно, по-видимому, вернулся из Вашингтона.
– Очень удачная была поездка, – самодовольно рассказывал он, поглаживая пышные, щегольские усы. – Посудите сами, Джек. За револьвер Кольта вы получаете вместо пятнадцати тридцать долларов. За пистолет стоимостью в четырнадцать долларов пятьдесят центов – двадцать пять. Помножьте это на тысячи и тысячи. Неплохо?
– Просто замечательно, мистер Морган! – восторженно изумлялся другой джентльмен – сухощавый, узкоплечий, с козлиной бородкой. – Но неужели правительство платит такие деньги?
Мистер Морган, не ответив, протянул пустой бокал стоявшему за стойкой, среди батарей разноцветных бутылок, хозяину салуна:
– Повторите, Билл!
Черноусый, угодливо улыбнувшийся толстяк, с засученными рукавами на коротких мохнатых руках, налил шерри-бренди.
– Дружище! – обратился мистер Морган к собеседнику, держа полный бокал. – Вы можете продать военному министерству все, что угодно, и по любой цене, какую у вас хватит нахальства назвать... Мой знакомый коннозаводчик, например, поставляет в армию лошадей по сто семнадцать долларов за голову.
– Что вы говорите! Ведь рыночная цена лошади не выше шестидесяти долларов.
– Так то рыночная... Советую вам серьезно подумать, Джек. Вы можете сделать хороший бизнес.
Потом оба джентльмена расплатились за выпитое и ушли, причем мистер Морган, швырнув на оцинкованный прилавок крупную ассигнацию, небрежно сказал: «Сдачи не надо», и тогда молодой бородатый капитан, стоявший по другую сторону Турчанинова, спросил его, понизив голос:
– Вы слышали этот разговор, сэр?
Наверно, по причине контузии одну сторону лица капитана время от времени сводило судорогой, – казалось, всей щекой подмигивает собеседнику.
– Да, слышал, – сдержанно отозвался Турчанинов.
– Такие Морганы поставляют нам оружие, – едко сказал капитан и выпил. – Вот и выходит, что на фронте мы получаем карабины, которые разрываются при первом выстреле, сапоги и шинели, которые после первого же дождя расползаются по всем швам... Вам случалось бывать в Вашингтоне, сэр?
– Давно там не был.
– Я побывал недавно. По делам службы. Да, сэр, полюбовался я, как живет тыл в то время, когда мы льем кровь, свою и чужую. Всего насмотрелся! – Щека у офицера дергалась. – Разряженные в пух и прах леди подметают тротуары шлейфами из самого дорогого шелка и порхают, как бабочки, из одного магазина в другой. Их мужья застегивают жилеты бриллиантовыми пуговицами. Говорят, ювелиры очень заняты подбором и оправой драгоценных камней... Вечерами рестораны полны, вино льется рекой. Джентльмены закуривают сигары стодолларовыми ассигнациями.
Турчанинов невесело усмехнулся.
– Очевидно, капитан, во время войны действует закон: герои страдают и умирают для того, чтобы негодяи богатели и наслаждались жизнью... Между прочим, вы не знаете, как лучше проехать в штаб дивизии?..
У дверей салуна его дожидался Майкл. Не слезая в коня, держал поводья оседланной турчаниновской лошади.
– Ждешь, великий трезвенник? – сказал, выходя на улицу, Иван Васильевич. – Зашел бы, смочил горло после дороги.
– Нет, сэр, благодарю вас, – непоколебимо ответил Майкл.
Турчанинов поскакал по немощеным, провинциальным улицам Афин, взбивая пыль и держась указанного капитаном направления. Что-то не было охоты спешить на свидание с начальством. Нисколько не спешил Иван Васильевич и, вероятно неосознанно для себя, старался как можно дальше оттянуть минуту такой встречи, под всякими предлогами.
У подъезда указанного ему двухэтажного дома, где, прислонясь спиной к стене, с карабином у ноги, скучал часовой, Турчанинов спешился и оставил свою лошадь на попеченье верного Майкла. Прежде чем добраться до кабинета генерала Митчелла, пришлось пройти одну за другой две комнаты, где за столами трудился над бумагами штабной люд, а затхлый, прокуренный воздух был пропитан чернильным духом. Незнакомый Турчанинову белокурый кудрявый адъютант, которому он представился, обдал его с головы до ног странно внимательным взглядом холодных, навыкате, глаз, затем скрылся, пощелкивая шпорами, за дверью кабинета и, вернувшись, попросил немного подождать: генерал занят, Подождать так подождать... Иван Васильевич скромненько уселся в углу, никому не мешая, и принялся наблюдать, как снуют мимо него штабисты, то входя к Митчеллу, то выходя от него. Около часу пришлось томиться, пока адъютант, оглядев его с тем же осуждающим вниманием, пригласил Турчанинова к генералу.
В кабинете были только сам Митчелл да какой-то стоящий в стороне курносый и безмолвный лейтенант, на которого Иван Васильевич, войдя, не обратил никакого внимания. Митчелл, пропуская сквозь кулак пегую свою бородку и сутулясь больше обычного, ходил из угла в угол.
– Я рассмотрел доклад комиссии, – негромко сказал он, не подав руки и в ответ на приветствие Турчанинова лишь слегка кивнув головой. – Никаких порочащих вас действий комиссия не нашла.
Не нашла? Слава богу!.. Иван Васильевич перевел дух. Только сейчас понял, какая все эти дни лежала на душе у него свинцовая тяжесть, и как вдруг стало ему легко.
– Она и не могла найти, – ответил он генералу.
Митчелл стоял у окна, спиной, с заложенными назад руками, и не оглядывался. Почему он не оглядывался?.. Почему не смотрит в глаза?
– Да, не нашла. Я так и доложил командующему армией. Но тем не менее...
Тем не менее? Что могло означать это «тем не менее»?
– Тем не менее, – продолжал Митчелл, по-прежнему не оглядываясь, нервно шевеля пальцами заложенных за спину рук, – генерал Бюэлл приказал... – Он выдавливал из себя слова. – Я получил письменное распоряжение... Приказал арестовать вас, полковник Турчин...
– Аре-сто-вать? – переспросил Турчанинов придушенным голосом – показалось, будто ослышался. Вдруг перехватило дыхание, заколыхался перед глазами серобагровый туман, в нем пропала сутулая, угрюмая, стыдящаяся спина, а на ее место выплыла толстая, прянично-розовая, скалящаяся, благодушно-самодовольная харя. «Хо-хо-хо!» – донесся откуда-то жирный хохоток.
– Да, арестовать и предать военно-полевому суду! – угрюмо прозвучало из сомкнувшейся вокруг душной мглы.
– За что? – крикнул, – нет, не крикнул, это только представилось ему, будто крикнул во весь голос, – шепотом спросил Турчанинов.
– За те служебные преступления, в которых вы обвиняетесь, – проговорил Митчелл сурово, как бы стараясь ожесточить себя. – Мне очень неприятно, полковник, но вы военный человек и сами должны понимать...
Безмолвный лейтенант отделился от стены, у которой стоял, внимая разговору генерала с вызванным полковником, и, подойдя к побледневшему Турчанинову, произнес казенным голосом:
– Вашу саблю, сэр.
СУД ДА ДЕЛО
Ну что ж, Иван Васильевич, вот нежданно-негаданно и сделался ты арестантом, и посадили тебя под замок. Было времечко, дышал ты солеными океанскими ветрами, слушал пушечный гром, скакал среди посвистывающих на все лады пуль на горячем боевом коне, а нынче всего жизненного пространства у тебя – четыре шага в длину да три в ширину. Тяжелая, наглухо закрытая дверь, под самым потолком – оконце, забранное толстыми железными прутьями, порыжелыми от ржавчины. Нехитро сколоченный столик, на котором тяжелая глиняная миска с остатками жидкой похлебки, деревянная ложка и щербатая глиняная кружка; ничем не застланный, скрипучий топчан, где приходится спать на голых досках, прикрывшись шинелью и ворочаясь всю ночь с одного ноющего бока на другой; деревянная кадка с ручками у двери, смердящая нашатырным, щиплющим глаза, запахом аммиака. Вот и вся мебель.
Новый фортель выкинула стерва судьба, тешась тобой, Иван Васильевич, как тешится кошка сцапанной, наполовину уже замученной мышью. Такой фортель, о котором не думал и не гадал. Права, ох как права народная мудрость! От сумы и тюрьмы не зарекайся...
Пришел в себя человек, слегка очухался от неожиданного удара – и главным, всепоглощающим занятием у него становятся отныне думы. Сидит он, все еще ошеломленный, на жестком тюремном ложе с поникшей головой либо часами до одури кружится на пятачке, шагая от одной облупленной стены, где из-под штукатурки краснеет кирпичная кладка, до другой стены, такой же облезлой, – и думает, думает, думает... Что только не приходит на ум! И недавнее прошлое, когда был совершенно свободен и не ощущал, не ценил, глупец, своей свободы, даже представить себе не мог, что возьмут тебя, точно неодушевленный предмет, и запрут в какой-то гнусной вонючей коробке; и последний допрос у следователя, который попробовал было запугать, да осекся – не на того напал; и мучительное ежечасное гаданье, выйдешь или не выйдешь победителем в неравном поединке с теми, в руках которых вся сила и власть и которые задались одной лишь целью: прикрываясь законом, убрать тебя из жизни.
...Следствие по делу не заняло много времени, и вскоре начался суд над полковником Турчиным. Первое заседание военно-полевого суда происходило в Афинах, затем по неведомой подсудимому причине под конвоем перевезли его в Хантсвилл.
На сегодняшний день все определилось: суд закончился, приговор был вынесен. Да, виновен! Подлежит разжалованию и удалению из рядов действующей армии.
Беспорядочно, сумбурно, клочками эпизодов, лицами людей, отдельными прозвучавшими в зале фразами вспоминался Турчанинову закончившийся над ним суд.
... – Подсудимый, вы командовали Восьмой пехотной бригадой?
– Да, сэр.
– Ваша бригада славилась своей распущенностью и деморализацией. А вы, командир, вместо того чтобы навести должный порядок, первый подавали солдатам дурной пример.
– Чем это, разрешите спросить, сэр?
– Тем, что не выполняли распоряжений непосредственного начальства, самовольничали. Вопреки законам и военным приказам, вы освобождали негров на очищенной от врага территории. Принимали их в свою бригаду.
– Это неверно, сэр. Дисциплина у меня всегда...
– Что значит «неверно»? Значит, суд лжет?.. Будьте осторожны в ваших выражениях, подсудимый, иначе я лишу вас слова...
Судьи сидели за столом, накрытым сукном вишневого цвета, спускавшимся почти до полу, под большим, потемневшим от времени портретом Джорджа Вашингтона в дубовой раме. Он как бы осенял их – сухощавый, с тонким, востроносым лицом, в пудреном парике с белыми трубками буклей на висках и в красном мундире, – основатель великой заатлантической республики, на весь мир провозгласившей, что все люди равны и свободны. Судей было трое. Председательствовал незнакомый Турчанинову плотный генерал. Большой, круглый, переходящий в лысину лоб, толстые крашеные усы, сливающиеся с крашеными, очень пышными бакенбардами, засунутая за борт мундира рука... И поза генерала, и выражение помятого, незначительного лица, которое он пытался сделать строгим, усиленно шевеля неправдоподобно черными бровями, были воплощением тупой, самодовольной важности.
По одну сторону его, храня недовольно-хмурый вид, сидел поджарый полковник с худым, болезненно-желтым, обросшим длинной пепельной бородой лицом и с набухшими под глазами мешочками, а по другую – франтоватый майор с напомаженным коком и с пушистыми светлыми усами, которые торчали кверху полумесяцем. Явно скучая и томясь, он то подолгу устремлял рассеянно-отвлеченный взор в окно, откинувшись на высокую спинку кресла, то старался подавить зевок, то, наконец, принимался рассматривать и чистить свои розовые, отполированные ногти.
Оба почти не задавали вопросов, предоставляя это делать крашеному генералу, и Иван Васильевич понимал, что франтоватый майор, вынужденный часами сидеть за судейским столом, изнывает от скуки и жаждет только, чтобы скорее все кончилось, а бородатый, болезненного вида полковник, быть может, в душе и сочувствует ему, Турчанинову, но ничего не скажет и не сделает в его пользу. Зато председательствующий генерал и прокурор – высокий, жердеобразный, ехиднейший полковник с бритой верхней губой, седыми клочками бакенбард по обе стороны лисьего лица и большими костлявыми старческими руками – всячески старались в чем-то поймать его, сбить, запутать и в конце концов заставить сознаться в каком-то преступлении. Они не давали договорить фразу, грубо обрывали на полуслове, делали вид, что не слышат возражений.
... – Подсудимый, вы обвиняетесь в том, что, находясь в действующей армии, возили с собой каких-то женщин.
– Позвольте вас поправить, сэр. Не каких-то женщин, а свою жену. Она работала врачом в полевом госпитале и...
– Пребывание посторонних женщин в рядах сражающейся армии строго запрещено. Вам это известно?
– Это не посторонняя женщина, сэр, а моя жена и военный врач.
– Отвечайте на вопрос. Вам известен такой приказ?
– Да, сэр.
– Признаете себя виновным в нарушении воинского приказа?
– Признаю. Только в этом и признаю свою вину. Но прошу учесть, сэр, что моя жена вела себя в армии мужественно, честно выполняла свой долг врача и под огнем оказывала...
– Суду совершенно неинтересно, как вела себя женщина, которую вы называете своей женой. Итак, вы признаете себя виновным...
Опираясь руками о дубовый барьер, стоял и отвечал на вопросы Турчанинов, а по обе стороны загородки, где он находился, отрешенный от окружающих, с тупо-бесстрастным видом стояли конвоиры-солдаты, держа приставленные к ноге ружья. Десятки чужих любопытных глаз насквозь пронизывали Ивана Васильевича. Невольно ежась, чувствуя себя постыдно оголенным, он искоса поглядывал на зал. Лица, лица, устремленные на него глаза, военные мундиры. Сквозь золотисто-дымные полосы бьющего в окна солнца он различал знакомых офицеров и солдат. Различил в толпе и лицо Надин – она улыбалась ему, кивала издали головой, безмолвно ободряла. Он тоже улыбнулся и кивнул ей. Зал был полон народу, и военного и горожан, не хватало мест на тесно уставленных скамьях, люди стояли у дверей, и Турчанинов, не зная, гордиться ли ему этим или стыдиться, видел: усиленный интерес вызвал в городе суд над ним.
Каких только служебных преступлений не приписывалось ему! Были тут и развал дисциплины в бригаде, и неподчинение самого Турчанинова приказам командования, и недопустимо жестокое обращение с пленным противником, и незаконное присутствие на фронте его жены... Оно лежало раскрытым перед генералом с крашеными бакенбардами, пухлое «дело» в синеватой картонной обложке, и тот время от времени перелистывал его. Иван Васильевич пытался было возражать, опровергая обвинения и доказывая свою правоту, – ему не давали говорить. Его просто не слушали.
Затем прокурор, негодующе указывая костлявым пальцем на понуро сидевшего за своей загородкой Турчанинова, произнес длинную речь, исполненную гражданского пафоса и возмущения, из которой Иван Васильевич с изумлением узнал, какой, оказывается, он негодяй. Затем суд удалился на совещание и, вернувшись спустя час, объявил приговор. Стоя за красным столом с листом в руке, генерал огласил приговор громким, непоколебимым голосом, бакенбарды у генерала прыгали, когда он читал, круглый, вспотевший от жары лоб медно блестел, и все тоже стояли, слушая в напряженной тишине, – и члены суда, и сам Турчанинов, и поднявшаяся с мест публика...
«Справедливость! Где ты, справедливость? – думал он с злобной горечью, то присаживаясь на койку, то вскакивая и вновь принимаясь метаться от стены к стене. – Нет, мой любезный, мой наивный друг Иван Васильевич, нету на земле никакой справедливости. Нету! А если – что иногда и бывает, очень редко, – а если и восторжествует она, то слишком поздно. Справедливость, Иван Васильевич, точно так же, как и свобода, – это один из тех лживых, хоть и возвышающих, как сказал некий поэт, нас обманов, которыми тысячелетия тешит себя глупое и несчастное человечество».
Но что же теперь делать? Так и смириться с тем, что выгнали из армии, незаслуженно опозорив на всю жизнь?.. Отблагодарили?..
Забренчал вставленный со стороны коридора в замочную скважину ключ (гнусный, уже привычный звук!), тяжелая кованая дверь с решетчатым окошечком бесшумно отворилась. Держа скобу, приземистый мордастый надзиратель мотнул головой вбок:
– Выходите.
Запер за Турчаниновым дверь и повел быстрым шагом. Куда повел? Арестанту не положено знать.
Они прошли, под нависшими сводами, полутемным, пустынным коридором, где по обе стороны скучно тянулись ряды одинаковых наглухо запертых дверей с зарешеченными окошечками и с выведенными наверху белой краской порядковыми номерами. В могильном склепе стоит такая безнадежная, замораживающая тишина! Вдали – темным силуэтом против окошка – маячила угрюмая одинокая фигура, лениво похаживающая вдоль строя нумерованных дверей. Завернули за угол, еще раз завернули, начали подниматься по каменным выщербленным ступенькам.
На втором этаже провожатый открыл какую-то дверь – без номера, не такую, как другие, – и слегка подтолкнул вперед Ивана Васильевича. Он вошел в просторную, по-тюремному голую и мрачную комнату с большим, клетчатым от железной решетки окном, и душа его осветилась изнутри тихим, теплым сияньем.
Строгая, без улыбки, напряженно выпрямив спину, сидела по ту сторону длинного, ничем не покрытого стола Надин и глядела на него широко раскрытыми глазами, лучащимися тревогой и нежностью. Почему-то вместо обычной форменной армейской куртки была она сейчас в темном репсовом платье, которое носила до войны. На голове шляпка.
Ивану Васильевичу было приказано сесть за стол насупротив посетительницы, руками ее не касаться и говорить тихо, после чего надзиратель, заметив время на круглых настенных часах, уселся у двери, сложил на груди короткие руки, зевнул, показав гнилые корешки, и принялся наблюдать за арестантом.
– Здравствуй, Наденька! – сказал Турчанинов по-русски. – Какой же ты молодец, что пришла!
Осунувшееся, серое лицо его светилось счастьем. Жадно, полный нежности и благодарности, глядел он через стол на нее. Тень оконной решетки падала на лицо Надин, но сквозь крупную клетку с жалостью, от которой щемило сердце, видел он, как запали у нее глаза, стали еще темней и глубже, как обозначились скулы... Бледные руки лежали на столе, она судорожно перебирала и стискивала тонкие пальцы. Можно было – стоило только протянуть руку – взять их, эти милые, трепетные, трудолюбивые пальчики, пожать хотя бы, но надзиратель у двери не сводил холодно-свирепых, бульдожьих глазок. Хорошо, что хоть неведомо было ему, о чем речь идет.
– Жан, милый, нам дали только десять минут, я буду краткой, слушай меня внимательно, – торопливо заговорила она, понизив голос, хоть изъяснялась по-русски. – Я узнала, приговор будет послан в Вашингтон, его должен еще утвердить сам президент. Так вот, я еду в Вашингтон, сегодня же. К президенту.
– К президенту? – переспросил Турчанинов, ошеломленно моргая.
– Да. Я добьюсь личного свидания. Пусть не думают эти негодяи, что они могут так легко с тобой расправиться, рано им торжествовать... Мы еще, Жан, поборемся, не падай духом. Ведь президент тебя знает.
– Наденька, – растерянно сказал Иван Васильевич, – но кто отпустит тебя в Вашингтон? Ты же на военной службе.
– Я уже не на военной службе. Свободна, как птица. – Она неестественно улыбнулась бледными, сухими губами, облизнула их кончиком языка. – Вчера получила приказ об увольнении из армии. За подписью самого Митчелла... О, какие же это подлые, какие мерзкие люди!
– Наденька, ты чудо! – сказал Турчанинов. – Ужасно хочется тебя поцеловать.
Занятая своими мыслями, она пропустила мимо ушей его слова.
– Так много нужно сказать, как бы не забыть главное... Ты очень хорошо держался на суде, – вдруг вспомнив, поспешила сообщить Ивану Васильевичу. – Так спокойно, смело, с чувством собственного достоинства!.. Я смотрела на тебя и гордилась, что у меня такой муж... А ты знаешь, Жан, все возмущены приговором: Солдаты прямо говорят, что осудили тебя неправильно и несправедливо. Тебя, героя Хантсвилла!.. Я сама слышала, как один капрал сказал: «Если бы генералы воевали с таким же боевым пылом, с каким они судят нашего полковника, давным-давно мы бы расколотили южан!» Бригада тебя любит.
Надзиратель, бросив взгляд на стенные часы, поднялся со стула:
– Прошу прощения, миссис, время истекло.
Поднялись и Турчаниновы. Надин озабоченно прикусила губу.
– Что-то еще хотела сказать. Ах, да! Я принесла кое-что вкусное, тебе должны передать... Ну, кажется, все. До свидания, мой друг. Все будет хорошо, вот увидишь. Не огорчайся.
Горло у нее вдруг перехватило, она закусила задрожавшую было губу, но преодолела себя, улыбнулась. Послала мужу воздушный поцелуй. Жестом, в котором сквозила брезгливость, подобрала длинные юбки и, глядя прямо перед собой, легко и независимо простучала каблучками мимо посторонившегося тюремного стража.