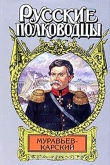Текст книги "Судьба генерала Джона Турчина"
Автор книги: Даниил Лучанинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
КОНВЕРТ ПОД НОМЕРОМ
На второй день после бала, не откладывая в долгий ящик, Иван Васильевич уже скакал к Перфильевым (куй железо, пока горячо). Встретили его Иван Акинфиевич, извинившийся за свой затрапезный вид, и Софи, смущенная неожиданным появленьем Турчанинова, а еще больше тем, что застали ее врасплох, не подготовленной к приему гостя. Впрочем, одетая в голубенькое домашнее платьице, наспех причесанная, девушка была очень мила, о чем Иван Васильевич и не преминул упомянуть, вполне этим ее успокоив.
Наталья Гурьевна, оказалось, поехала в поле – посмотреть, как идут работы.
Турчанинов был не единственным гостем Перфильевых – еще до него приехал к ним Сысой Фомич. Развалился по-свойски на диване с коротенькой, дочерна прокуренной трубкой в зубах, дымил крепким жуковым табаком, поглядывал из-под низкого складчатого лба кабаньими глазками. Сысой Фомич, ближайший сосед и свойственник, был женат на покойной ныне сестре Перфильева, Надежде Акинфиевне.
Иван Акинфиевич опять уселся в мягкое вольтеровское кресло с высокой спинкой и потертыми подлокотниками, плотней запахнул свой засаленный шлафрок, крикнул казачку, чтобы принес чубук, и завел беседу с новым гостем. Однако после первых светских фраз сказал Турчанинову, посмеиваясь в седые, с прожелтью усы:
– Тут Сысой Фомич начал было рассказывать, как новому губернатору представлялся. Презабавная история. Хотите послушать?
– Охотно, – сказал Турчанинов.
– Давай, Сысой Фомич, с самого начала.
– Ну что же, – выпустил струйку дыма Сысой Фомич и откашлялся. – Так, значит, служил я в те поры капитан-исправником, жил в уезде. Назначили к нам губернатора, раньше при высочайшем дворе был. Ну, известно, надо новому начальству представляться. Допрежь того порасспрошал знающих людей, каково оно собою и как к барашку в бумажке относится. «Строгий! – сказывают знающие люди. – И насчет барашка в бумажке никак к нему не подъедешь». «Плохо дело!» – думаю.
– Похоже, Сысой Фомич, и за тобой водились грешки? – спросил Иван Акинфиевич, посмеиваясь и пуская клубы дыма.
Сысой Фомич махнул только рукой:
– Э, Ванюха! Кто богу не грешен, царю не виноват... А все-таки на всякий случай собрал я деньжонок, – продолжал он, – и поехал. Первым делом наведался к правителю канцелярии, приятелю своему. Он мне и открыл секрет. Его превосходительство, говорит, тоже живой человек и не против, отнюдь, но только любит барашка в бумажке получать деликатно. Вручать ему надо в конверте под нумером.
– Каким это нумером? – полюбопытствовал Турчанинов.
– Ну, с цифрой. Чтобы сразу было видно, какая сумма содержится... Облачился я в парадную форму, пошел в церковь, поставил свечку своему святому, преподобному Сысою, помолился от всего сердца и отправился в губернаторский дом. Доложил чиновнику: так и так, явился засвидетельствовать. «Обождите в приемной». Стою, жду... Вот растворились двери, и вышел сам губернатор. Батюшки мои! Аки лев рыкающий, иский проглотити кого. На боку звезда, на шее анненский крест, взор орлиный. Ну как такому конверт дать? Может, неправда все это?.. Оглядел меня с головы до ног да так рявкнул, что в глазах потемнело.
– Что же он рявкнул?
– Нешто упомнишь, что! Душа тогда в пятки ушла... Но тут заметил, что конверт в руке держу. «Что это у тебя?» – «Конверт‑с, в‑ваше...» – «Давай». Взял и в кабинет вернулся. Остался я стоять в приемной, ни жив ни мертв. Пропала моя головушка! Сейчас, думаю, вскроет конверт, увидит, что там вложено, – и загремит: «Ты что, подкупать верного царского слугу? Да как ты осмелился, мерзавец? Да я тебя в бараний рог!..» Явятся два архангела с усищами в аршин, посадят раба божьего в кибитку, зальется колокольчик валдайский – и поминай как звали. Сибирь! Не иначе, как Сибирь. В коленках у меня трясенье, в животе скорбь... Святители-угодники, думаю, преподобный Сысой! Чего же ты, батюшка, свечку-то мою сиротскую принял?..
Иван Акинфиевич слушал, сотрясаясь от смеха.
– По прошествии скорого времени, – продолжал Сысой Фомич, – вышел чиновник: «Его превосходительство просят вас к себе». Иду, а ноги так и подгибаются, так и подгибаются. Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его... Взошел к нему в кабинет, вижу – сидит за столом и никого, окромя нас двоих, нету. Однако, замечаю, ликом теперь не грозен, отнюдь, а светел и вроде даже благостен. Похоже, думаю, клюнуло. А все же еще не смею надеяться. Поманил губернатор меня пальчиком к себе поближе и говорит вполголоса: «Я вижу, ты хороший служака». Ей-богу, так и сказал. Как проговорил он такие слова, сердце во мне, поверите, взыграло. Гаркнул с превеликим усердием: «Рад стараться, ваше превосходительство!» А он поморщился – и мне в ответ: «Тише, дурак!»
– Так и сказал? – переспросил Иван Акинфиевич, утирая платком выступившие от смеха слезы. Софи сидела с каменным лицом.
– Так и сказал, – без тени улыбки подтвердил Сысой Фомич. – «Тише, говорит, дурак!» Вышел из-за стола, подошел вплотную – и так это шепотком: «Ежели будешь держать себя так же хорошо, то и служить тебе будет хорошо. Ежели по своей глупости попадешь в беду по уши, лишь один волос на голове останется сухим – я тебя выручу. Но ежели ты будешь так глуп, что ни одного волоса не останется сухим, – тогда уж пеняй на себя. Вот так. Понял?» – «Понял, ваше превосходительство! Покорнейше благодарим, благодетель вы наш!» С тех пор и зажили мы с начальством в мире и согласии... Нет, что ни говори, а с таким губернатором хорошо было служить. Хороший губернатор.
Иван Акинфиевич захлопал в ладоши.
– Эй, Прошка! – крикнул дремавшему в передней казачку. – Скажи, тот лётр, Фионе: адмиральский час.
Несколько минут спустя, с подносом в руках, вплыла ключница Фиона – дородная, белотелая, улыбчивая, в темном повойнике. На подносе прозрачный, запотевший от холода графинчик, тарелки со всякой закусочной снедью – маринованными грибками, кислой капустой, жареными карасями из перфильевских прудов. Поставив все на стол, Фиона поклонилась барам в пояс и павой уплыла из комнаты.
Иван Акинфиевич предложил было гостю разделить трапезу, но Турчанинов отказался наотрез: премного благодарен, но только что хорошо позавтракал.
– Душенька, – сказал тогда Перфильев дочери, – иди погуляй с Иваном Васильевичем. Покажи, тот лётр, наш парк.
Софи повела гостя в сад.
– Да, Софья Ивановна, лихоимство – наше российское зло, – негромко проговорил Турчанинов после первых минут молчания, когда шли они тенистой липовой аллеей. – Как ни бичуют писатели, воз и ныне там... Конечно, я знал, что мелкое чиновничество наше и полиция живут взятками. Но чтобы губернатор! Это, признаться, для меня новость... И наверно, такой губернатор не один.
Девушка промолчала. Скучен для нее был такой разговор, что ли?
Медленно шли они березовой аллеей, солнечное кружево светотеней скользило по черному военному сюртуку медными пуговицами и по легкому голубому женскому платью.
– Как вам понравилось на бале? – спросил Турчанинов.
Она задумалась на минуту.
– Не знаю, как вам сказать... Конечно, танцы, фейерверк – это чудно. Но как все издевались над этим бедным доктором!
– Дикость российская, – сказал Турчанинов. – Барство дикое, как выразился Пушкин.
Сейчас она что-нибудь скажет о князе Илье, о темной аллее... Но нет, ничего не сказала. Вместо того остановилась у замшелой скамьи, врытой в землю под высокой, старой, раскинувшей лапы елью и предложила:
– Сядем.
Носовым платком Турчанинов смахнул со скамьи каких-то ползающих по ней сцепившихся букашек, красных, с черными разводами на спинках. Софи уселась, расправляя широкие юбки. Иван Васильевич присел рядом, красиво оперся кулаком о колено. Он не знал, с чего начать разговор, молчал в некотором замешательстве.
В воздухе носилась желтая душистая пыльца с ольховых и орешниковых сережек. Березы уже зазеленели нежной молоденькой листвой. Даже старая ель, под которой они сидели, выбросила новые ростки, торчащие, как светло-зеленые свечечки, среди темной прошлогодней хвои. В овражке поблизости цвела черемуха – казалось, опустилось туда и залегло белое душистое облако. Где-то почти над самой головой звонко пересвистывались, пощелкивали птицы.
Девушка сидела, стараясь не встречаться с ним взглядом, и перебирала пальчики – он чувствовал ее взволнованность и легкое смущенье, ее настороженное ожидание каких-то значительных слов, которые он сейчас должен ей сказать.
«Какая юная свежесть, какая душевная чистота! – думал он, глядя на маленькое розовое ухо под черной вьющейся прядью, полный умиленья и нежности к девушке. – Достоин ли я ее, грязный, грешный, знавший не одну женщину?...»
Софи глубоко и блаженно вздохнула, вбирая полной грудью воздух.
– Правда, у нас хорошо?
– Очень хорошо, – с готовностью подтвердил Турчанинов.
Из-под белого облака доносился бодрый, ворчливо-веселый шум и плеск.
– Прямо Терек! – засмеялась девушка, по-прежнему избегая его взгляда. – Или Гвадалквивир. «Шумит, бежит Гвадалквивир...» А летом здесь песчаная лощинка и посреди тонюсенькая струйка, еле сочится... А вон там, – показала, вытянув открытую по локоть, бледную незагорелую руку, на крутой противоположный берег, где темнела дубовая роща, – там уже начинаются земли князя Кильдей-Девлетова.
Сквозь тонкий путаный рисунок веток – кое-где виднелись на них перезимовавшие бронзовые листки – сквозила чистая весенняя лазурь.
– Я каждый день приезжал в эту рощу, – сказал Турчанинов. – В надежде увидеть вас. И теперь езжу... каждый день.
– Каждый день? – спросила она полушепотом, отвернувшись.
– Каждый день. Часов в одиннадцать. И завтра сюда приеду... Вы будете, Софья Ивановна?
Не отвечая, низко опустив черноволосую, с прямым пробором голову, она принялась чертить что-то на земле носком ботинка.
– Будете? – настойчиво повторил Турчанинов.
– Не знаю.
– Я вас очень прошу быть завтра.
Забрал маленькую, теплую, послушную руку, она осталась лежать у него в ладони.
– Придете?
Подняв голову, она увидела добрые, серьезные глаза, устремленные на нее с молящим выражением.
– Может быть.
...Откуда взялись у Софи этот косой, быстрый, пленяющий взор, эти лукавые интонации в смеющемся голосе? И сама не знала.
ЕЕ ЗНАКОМСТВО С МИРОМ
Она приехала недавно. Скука деревенской жизни, от которой изнывали окрестные помещичьи дочки, еще не успела овладеть Софи. После многолетнего заточения в унылых стенах столичного пансиона на первых порах всей душой наслаждалась она свободой.
Вновь узнавала она старый, одноэтажный, обшитый потемневшим тесом дом с мезонином и балконом на деревянных потрескавшихся колоннах; низенькие комнаты, обставленные прадедовской мебелью красного дерева, с изразцовыми голландскими печами и множеством портретов и портретиков в овальных рамах на стенах. Кротко и благостно мерцающие в сумерках перед тусклым серебром старинных икон рубиново-красные лампадки; с детства памятный, устоявшийся, смешанный запах деревянного масла и сухих лекарственных трав...
Пройдя террасу, на которой в летнюю пору обедали и пили чай, она по ступенькам спускалась в большой запущенный сад, бродила под липами по заросшим свежей зеленой травкой аллеям, заглядывала в заброшенные, разросшиеся сиреневые и жасминные беседки, поднималась по остаткам кирпичной лестницы на холмик, откуда открывался красивый вид. Каким огромным казался этот сад в детстве – целым миром, полным неведомых тайн и темных опасностей!
А теперь все, на что только ни падал ее взор, удивительно до чего стало маленьким и тусклым. Постарело, обветшало... И отец с матерью стали совсем стариками. В особенности папа́...
Софи любила гулять. Она знакомилась с окрестными местами – в детстве почти их не знала – с ближайшими деревнями, с поемными лугами, откуда не сошла еще полая вода, с рощами и перелесками – так делали героини прочитанных романов. Неизменной спутницей при этом бывала Дуняша, круглолицая, с румянцем во всю щеку, веселая и разбитная дворовая девушка, данная ей в услужение Натальей Гурьевной.
Как-то под вечер возвращались они вдвоем с прогулки и шли по дороге, пролегавшей среди лугов. Солнце уже село, с полей, где в низинах дымился легкий белесый туман, ощутимо тянуло сырой прохладой, и Софи куталась в свою тальмочку. Дуняша, идя рядом торопливой косолапенькой походкой, болтала без умолку. Простодушные деревенские рассказы ее забавляли столичную барышню.
По дороге вереницей ехали мужики, возвращавшиеся с полевых работ. Ехали шагом, верхом на своих лошадях. Сидели без седел, свесив босые ноги, устало покачивались, поравнявшись, молча снимали шапчонку. Софи видела утомленные, орехово-загорелые, бородатые и безбородые лица, русые головы, подстриженные под горшок. За каждой лениво вышагивающей лошадью волочилась по дороге квадратная деревянная решетка, утыканная торчащими кверху стальными остриями. («Борона это, барышня», – пояснила Дуняша, отвечая на вопрос Софи). Они работали на полях от зари и до зари, перфильевские крестьяне.
Сзади стал постепенно нарастать глухой, настигающий топот, к которому примешивалось разноголосое мычанье. Девушки оглянулись. С лугов возвращалось домой большое пестрое коровье стадо.
Закинув на плечо кнут, длинный конец которого волочился за ним по земле, бок о бок с коровами шел развинченной походкой пастух-подросток, в лаптях, в облезлой бараньей шапке, несмотря на теплынь.
– Бык! – воскликнула Софи, глядя на приближающиеся в поднятой пыли рогатые, тупоносые морды.
– Эй, Микешка! Придержи-ка стадо! – крикнула пастуху Дуняша, делая руками какие-то знаки.
Но Микешка в ответ, невнятно мыча, с оглушительной лихостью щелкнул кнутом в воздухе, будто выстрелил, и бессмысленно загоготал, осклабясь.
– Дурак косоротый, – сердито сказала Дуняша. – Давайте-ка, барышня, отойдем в сторонку.
Сошли с дороги на кочковатый, еще топкий луг, остановились, чтобы пропустить бредущее домой стадо. Пастух, поравнявшись с девушками, тоже остановился и тупо уставился на них, полуоткрыв большой слюнявый рот. Тут Софи разглядела, что у подростка покрытое жиденькой белесой порослью, мужское, тридцатилетнее лицо.
– Ступай, ступай! – махнула ему рукой Дуняша, и он, оглядываясь и по-прежнему скаля щербатые зубы, послушно поплелся дальше, маленький, тщедушный, колченогий.
– Что он, дурачок? – спросила Софи, переминаясь и чувствуя, как постепенно промокают в прюнелевых башмачках ноги.
– Микешка-то? Дурачок, барышня. Да еще немоглухой. Он никуда не годен, ни на какую работу, вот ваша маменька и определила его в пастухи... А в меня влюблен, ой, не могу! – Дуняша фыркнула. – Встренемся где – вот так встанет, как пень, и таращится.
Рыжие, черно-белые, палевые коровы брели под янтарным вечерним небом с ленивой и важной медлительностью, обмахиваясь хвостами, куда набились репьи; порой, закидывая добрые рогатые морды с широкими влажными ноздрями, издавали глухое мычанье; на ходу то одна, то другая начинали размеренно шлепать на дорогу, под копыта следовавших за нею, лепехи шпината.
День изо дня продолжала она свое знакомство с миром, в котором очутилась после столицы.
Наталья Гурьевна, знавшая цену копейке, не любила устраивать приемы и званые вечера, гости, если не считать Сысоя Фомича, редко наезжали к Перфильевым. Но однажды навестил их мужчина купеческой складки, ростом невысок, краснонос, с опухшими щеками, с дрянной рыжеватой бороденкой, сквозь которую светился подбородок. Потертый длиннополый сюртук в пуху, расчесанные на обе стороны плоские волосы жирно промаслены, панталоны внизу обмохрились, – весь он был какой-то засаленный, нечистый.
– А, Якунька! – приветливо встретил его Иван Акинфиевич, однако ж руки своей не подал. – Давно тебя не было. Ну, присаживайся.
– Давненько, батюшка Иван Акинфиевич, давненько. – Якунька, раздвинув фалды сюртука, осторожно уселся на краешек стула, кашлянул в кулак. – Как здоровьице ваше драгоценное?
Но тут Иван Акинфиевич, что-то заметив, воззрился на гостя с некоторым даже испугом:
– Постой, постой. А глаз-то у тебя, тот лётр, куда девался?
На месте левого глаза у гостя виднелась впадина с плоскими, безжизненно сомкнувшимися веками.
– Выбили-с, Иван Акинфиевич, – стыдливо хихикнул Якунька и понурился.
– Кто же это тебе выбил?
– Их сиятельство князь Кильдей-Девлетов.
– Евлампий Порфирьевич?
– Они самые-с.
– Как же это он умудрился?
– Кием бильярдным-с, – сказал Якунька со вздохом.
– Кием?.. Нечаянно, что ли?
– Зачем нечаянно... Проиграл я – ну, они и вышибли, как полагалось.
– Постой, постой, что-то я, тот лётр, ничего не пойму! – заволновался Иван Акинфиевич. – Ты толком расскажи, толком.
И Якунька рассказал толком, как было дело.
Как-то, будучи у Кильдей-Девлетова, вздумал он сыграть со старым князем несколько партий на бильярде. Первоклассный бильярдист, князь быстро обыграл гостя и положил кий, не желая больше продолжать игру. Но раззадоренный Якунька никак не хотел отстать от него, все приставал сыграть еще одну партию. «Надоел ты мне, рыжий черт, хуже горькой редьки, – сказал ему наконец Кильдей-Девлетов. – Ладно, сыграем. Условия такие: выиграешь – сто целковых твои, проиграешь – простись с глазом. Выбью напрочь, – без дураков. Ну как, согласен?» – «Согласен, ваше сиятельство», – ответил Якунька.
Он проиграл и эту партию – и по договоренности лишился левого глаза...
– Так и выбил?
– Так и выбил, Иван Акинфиевич. Кэ-эк даст!.. И до чего ж ловко это у них получилось, прямо удивительно.
– А ведь ты дурак, братец, – с чувством сказал Иван Акинфиевич. – Дурак форменный и бесповоротный. Как же можно было, тот лётр, на такие условия соглашаться?
– Это вы справедливо, Иван Акинфиевич, форменный дурак, – уныло подтвердил Якунька. – Святые ваши слова... Да ведь спьяна. Нешто тверёзому взбредет такое в голову?
Видимо, разжалобившись, Перфильев пригласил Якуньку отобедать, на что тот охотно согласился. За столом гость рассказывал, какие хорошие, хлебосольные люди знакомые ему помещики.
Притихшая Софи слушала рассказы Якуньки, наблюдала, как неряшливо и жадно он ест, обгладывая кость желтыми, редко посаженными зубами, как, расчувствовавшись после водочки, вытирает единственный свой глаз нечистым красным платком. Брезгливая жалость в душе девушки мешалась с изумлением, доходящим до страха. Какие, оказывается, люди живут бок о бок с ними! И этот князь, хладнокровно вышибающий человеку глаз, и жалкий этот Якунька...
После Иван Акинфиевич рассказал дочери историю Якуньки.
Некогда звали его Яковом Иванычем, был он почтенным человеком, вел в уездном городке торговлю бакалейными товарами и имел винный погреб. Да попутал нечистый купца связаться с гусарским полком, который квартировал тогда в городе. Подружился Яков Иваныч с кутилами гусарами и пустился во все тяжкие, забыв свою торговлю, – натура, видно, была безудержная, азартная.
Так и доживал с тех пор свои дни промотавшийся Якунька, кочуя от помещика к помещику, наполовину приживал, наполовину шут.
...Неожиданная встреча на балу произвела на Софи сильное и глубокое впечатление. Конечно, еще в Петербурге она обратила внимание на молодого офицера, который, систематически бывая в церкви, не сводил с нее, Софи, глаз, а потом шел следом до самых ворот. Что греха таить, он понравился ей, этот таинственный офицер. Но все это осталось в далеком Петербурге, за тысячи верст, и уже подернулось дымкой забвения.
И вдруг он здесь, он стоит перед нею. И не только стоит, но и разговаривает с нею, она с ним танцует, она ощущает тепло и силу его рук, она с ним гуляет у них в саду, она слышит его голос, и этот взволнованный голос говорит ей, что он, Турчанинов, поставил себе целью найти ее – и вот, несмотря ни на что, нашел...
Это было удивительно, необыкновенно. Романтично...
КОСА НА КАМЕНЬ
Наталья Гурьевна принимала у себя гостя – молодого князя Кильдей-Девлетова. Оба сидели в гостиной.
Гость пожаловал к Перфильевым совершенно неожиданно, без приглашения, и застал хозяйку врасплох, в утреннем неглиже. Взволнованная, польщенная таким посещением Наталья Гурьевна лишь наспех могла привести себя в порядок перед тем, как выйти. По утрам обычно, шлепая желтыми пятками, она расхаживала по комнатам в домашних туфлях на босу ногу, в накинутом на плечи халате Ивана Акинфиевича, немытая, нечесаная, ругалась на девок и отдавала приказания.
Основное, ради чего приехал князь Илья, было уже сказано, и теперь оба сидели в тягостном ожидании, пока посланная на поиски Дуняша разыщет и приведет ушедшую куда-то, очевидно на прогулку, Софи.
– Просто не понимаю, куда она девалась, – виновато, с досадой на дочь, повторяла Наталья Гурьевна.
Князь молчал с учтивым видом, положив обе руки на эфес поставленной между колен сабли, и серебряно дрожал шпорой. Левую руку стягивала белая лайковая перчатка. Но вот из двери выглянула запыхавшаяся, только что вернувшаяся с розысков Дуняша.
– Нашла барышню... У себя в комнате, вас дожидается, барыня.
Наталья Гурьевна, извинившись перед знатным гостем, поднялась из кресла, торопливо прошумела колышующимся кринолином. На некоторое время князь Илья остался в одиночестве. Он усмехнулся и закрутил ус, представив себе, какой горячий, взволнованный разговор идет сейчас между матерью и дочерью, как поспешно переодевается и прихорашивается перед зеркалом Софи. Вскоре должна появиться в сопровождении сияющей мамаши – пылающая румянцем радостного смущенья, робкая, восемнадцатилетняя, невинная, прелестная... Протянет ему нежную, трепетную ручку и, не в силах поднять глаза, скажет еле слышно: «Я согласна...»
Черт возьми! Эта крошка по-настоящему вскружила ему голову. Вот никогда не думал, когда покидал столицу, что вернется с молоденькой очаровательной женой. Разумеется, с женой, как же может быть иначе?
Правда, тогда в парке произошла у них маленькая размолвка. Впрочем, это пустяки, мелочь. Просто девичье жеманство... Может быть, ему, князю Илье, действительно не следовало бы так быстро переходить в решительную атаку – хо-хо, по-кавалерийски, по-гусарски! – но, в конце концов, это не беда. Пылкая страсть, темперамент, ничего не поделаешь. А женщинам нравится, когда мужчина теряет из-за них голову...
Картинно опираясь на саблю, Кильдей-Девлетов сидел в кресле, нетерпеливо дрожал коленкой и прислушивался, не раздаются ли за дверью легкие приближающиеся шаги. Что-то долго их не слышалось...
Но вот шаги, которых с нетерпением он дожидался, наконец послышались, – нет, не легкие девичьи, а более тяжелые, Натальи Гурьевны. Одной лишь Натальи Гурьевны. Она появилась, и князя Илью неприятно удивили красные пятна у нее на скулах, расстроенный вид.
– Я говорила с моей дочерью. – Она уселась на свое место, избегая глядеть Кильдей-Девлетову в глаза. – Софи благодарит вас, дорогой князь... и вообще очень польщена...
Наталья Гурьевна как бы запнулась и принялась разглаживать оборку платья на сомкнутых коленях. Кильдей-Девлетов глядел выжидающе, несколько сдвинув черные, разросшиеся, как у отца, брови, похлопывал по колену лайковой перчаткой.
– Но ваше предложение было таким для нее неожиданным... Она совсем не думала о замужестве... Ведь девочка только что приехала... Так долго не видела нас, хочет пожить в родительском доме...
Князь Илья выпятил расшитую золотыми шнурами грудь.
– Иными словами, уважаемая Наталья Гурьевна, я, князь Кильдей-Девлетов, получил отказ? – спросил он, выговаривая слова с леденящей отчетливостью.
– О нет, что вы, дорогой князь!.. Такое лестное предложение, что вы! – залепетала Перфильева, совсем уж смешавшись. – Софи только просит дать ей подумать... Завтра она уведомит вас... Она, конечно, согласится...
Кильдей-Девлетов встал, натягивая на правую руку белую перчатку. Ничего не сказал. Прощаясь с хозяйкой, сухим коротким движением согнул и выпрямил шею и, придерживая саблю, твердыми звенящими шагами направился к ожидавшей у подъезда коляске.
* * *
Сжимая пальцами локти, Софи порывисто расхаживала по своей чистенькой, уютной комнатке с узенькой девичьей постелью под белым покрывалом, со старинным, отделанным бронзой, секретером, с изящным столиком, где стояло круглое зеркало, задрапированное кисейкой.
Вошла Наталья Гурьевна, остановилась у порога.
– Уехал князь. Рассердился... Ну что, теперь довольна?
Продолжая ходить от стены к стене, Софи промолчала, только губы сжались.
– Я сказала ему, что ты подумаешь и завтра дашь ответ. Так что думай. – Угроза прозвучала в голосе Натальи Гурьевны.
Бережно расправив складки шелкового платья, она уселась в старинном, с выгнутой спинкой, кресле и заговорила более умиротворенным тоном:
– Не понимаю я тебя. Блестящая партия: молод, красив, богат, князь. Ведь княгиней будешь, дуреха! Счастье само в руки лезет, а она ломается... Ты слышишь меня или не слышишь?
– Слышу, маменька, – отозвалась Софи, глядя мимо матери.
– И не бегай по комнате как угорелая. У меня уж мельканье в глазах. Сядь!.. Училась-училась в пансионе манерам и ничему не выучилась. Только даром деньги на тебя истрачены.
Софи послушно присела на кушетку. Руки ее со сплетенными пальцами лежали на коленях, высокая шея напряженно вытянута. Окаменелое лицо было бледным. Наталья Гурьевна поправила букли на висках.
– А ты знаешь, матушка, как я замуж выходила? Non? Alors ecoute moi[5]5
Нет? Тогда послушай (франц.).
[Закрыть]. Помню, утром приехал к нам в гости из своего имения твой отец – я тогда еще барышней была. До того был он как-то у нас, – признаться, я на него даже и не обратила особенного внимания. Maman приняла его, как всегда, у себя в гостиной, а я приказала Палашке, горничной моей, поскорее прогладить гридеперлевое платье. Прескверно прогладила, дура, одно только расстройство. Нахлестала я хамке глупую рожу так, что, веришь, ладони вспухли...
Софи не сводила глаз с раскрытого настежь окна, выходившего в сад. Кисейную занавеску пузырило ветром. За ней шумела, трепеща, зелено-золотистая, пронизанная солнцем, листва старого тополя, от которого в комнате всегда была тень.
– Нарядилась я, – продолжала Перфильева, – вышла в залу, села за клавикорды, чтобы успокоиться, и заиграла любимый свой романс, знаешь, этот.
Наталья Гурьевна надтреснутым сопрано пропела вполголоса:
И может быть, мечты мои безумны,
Безумны слезы и тоска.
Не вспомнят там, в столице многошумной,
Что я одна и далека.
– Страх, как мне нравился этот романс – такой чувствительный!.. Сижу играю, чтобы гость слышал, пою тихонечко. Тут выходит из гостиной maman и говорит: «Natalie, ты знаешь, мосье Перфильев делает тебе предложение». А я бросила играть и сказала: «Как вам будет угодно, маменька...» Ainsi nous etions marie avec ton pere...[6]6
Так мы с твоим отцом и обвенчались... (франц.).
[Закрыть] Вот, матушка, как в наше-то время дочки матерям отвечали. – Наталья Гурьевна помолчала минуту, давая дочери возможность глубже продумать назиданье. – А все-таки никак я в толк не возьму: почему ты не хочешь выйти за князя Кильдей-Девлетова? Такая партия!
– А потому, что не желаю, чтобы меня при всем обществе называли дурой дурацкой! – ответила Софи, вся загоревшись. – Потому, что не желаю жить в доме, где людям для потехи выбивают глаза...
– Ты тише, тише, – властно сказала Наталья Гурьевна. – И все-таки дуреха. Да разве здесь будешь жить? Князь Илья тебя в Петербург увезет. Будешь столичной дамой, вращаться в высшем свете. Может, чего доброго, и при дворе...
– Князь Илья сын своего отца, – ответила Софи фразой из какого-то французского романа. – Такой же грубый, жестокий...
Ей представилась темная аллея, куда увел ее князь Илья, вспыхивающие в просветах черной листвы разноцветные праздничные огни, безлюдье... И вдруг испугавшее ее грубое, сильное объятие мужчины, запах вина из горячего рта, бормочущего какие-то воспаленные слова... Софи охватил страх, но кричать было стыдно, и она лишь молча и отчаянно сопротивлялась князю. Он больно ломал ей руки, поцарапал, но все же Софи удалось вырваться и побежать...
– Вот что я тебе скажу, матушка, – внушительно промолвила Наталья Гурьевна. – Дурь-то свою из головы выкинь. Хочешь в девках остаться?
– Не останусь, – ответила Софи, улыбаясь глазами.
– Думаешь?
– Уверена, маменька.
Наталья Гурьевна поглядела на нее с подозрением. – Откуда же у тебя такая уверенность? (Софи молчала.) Уж не этот ли? Не Турчанинов?
Дочь молчала, чуть улыбаясь.
– Может быть.
С минуту Наталья Гурьевна не спускала с дочери грозного взгляда, затем поднялась на ноги, собираясь уйти. Внешне спокойно проговорила:
– Вот что я тебе скажу, ma chere fille[7]7
Моя дорогая дочь (франц.).
[Закрыть]. Всю эту дурь, пустые бредни, выкинь из головы раз и навсегда. Ты выйдешь замуж только за князя Кильдей-Девлетова. Поняла? Завтра же напишешь ему письмо, что согласна. И что считаешь его предложение большой для себя честью.
Показывая, что разговор закончен и последнее слово за нею, Наталья Гурьевна с надменно поднятой головой направилась к двери. Она услышала за спиной у себя сдавленное рыданье, но не оглянулась.
* * *
Иван Акинфиевич, как обычно, сидел с длинным чубуком в вольтеровском кресле, покуривая, и скучающе глядел на пустынный двор, где паслась под кривой березой старая кобыла Земфира, щипала травку, и порой пробегала простоволосая дворовая девка из людской на кухню либо с кухни в людскую. По случаю нездоровья (ломило поясницу, хоть и натерла его на ночь Наталья Гурьевна бобковой мазью) никуда он сегодня не выходил из комнаты. На коленях у него лежал раскрытый томик, переплетенный в желтую свиную кожу, с красным обрезом. «Познанье во всех науках», изданное еще при Екатерине, было чуть ли не единственной книгой, которую когда-либо держал в руках Перфильев. Раскрыто было «Познанье» на разделе «Геральдика».
Когда Ивану Акинфиевичу надоедало созерцать кобылу Земфиру, он, зевая, брался за книжку и в тысяча первый раз читал:
«Вопрос: Что такое наука геральдика?
Ответ: Сия наука есть наука о гербах.
Вопрос: Почему сия наука полезна?
Ответ: Сия наука не только полезна, но и необходима для людей благородных, ибо по оной мы можем узнавать, какие нужно нашивать гербы на ливреях наших лакеев...»
За чтением «Геральдики» и застала его сегодня возбужденная, влетевшая в комнату Наталья Гурьевна.
Подробнейшим образом рассказала она мужу обо всем: и о неожиданном визите князя Кильдей-Девлетова, и об отказе Софи, и о том, что она, по-видимому, увлечена Турчаниновым, и о дерзкой ее строптивости в разговоре с матерью.
– Твоя дочь, вся в отца, – мимоходом ввернула она ядовито во время повествования.
Иван Акинфиевич заморгал и поежился в кресле, однако ни слова не возразил.
– Хоть бы ты с ней поговорил, – продолжала Наталья Гурьевна, устремив на супруга взор, исполненный неуверенной надежды. – Внуши ей, что отказываться от такой партии просто безумие. И ссориться с Кильдей-Девлетовыми... Мы же соседи...