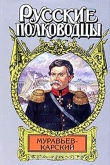Текст книги "Судьба генерала Джона Турчина"
Автор книги: Даниил Лучанинов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
ЗА ОКЕАН
День за днем стелется вокруг уходящая за линию горизонта пустынная равнина океана, в погожий, солнечный день подернутая зыбью, иззелена-синяя, играющая веселыми серебряными искрами, в непогоду угрюмая, иззелена-серая, с вздымающимися белогривыми валами, а по ночам бесследно пропадающая в глухой звездной космической тьме. День за днем вода и небо, небо и вода.
По окованным медью крутым ступенькам Турчанинов поднимался на палубу и, стоя у борта, подолгу глядел вдаль. Разваливая тугую пенистую волну, настойчиво идет и идет на запад корабль под белыми, упруго-выпуклыми, надувшимися парусами, ровно гудит помогающая им паровая машина, черные клочья дыма тают в воздухе, ветер свистит в снастях.
Пустынность. Редко покажется где-то: на краю неба и воды темный пароходный дымок либо пятнышком пробелеет парус далекого брига. Где он, желанный американский берег, когда, наконец, завидится вдали?.. С каким, наверно, восторгом кричали матросы Колумба, взобравшись на мачты каравеллы: «Земля! Земля!..»
Затянувшееся плаванье начинало уже приедаться и утомлять.
Придерживая шляпу, чтобы не снесло, Иван Васильевич щурился на горизонт, ветер трепал полы пальто – соленый, широкий, могучий ветер Атлантики, ветер свободы, от которого дышалось легко и радостно.
На палубе пошатывало из стороны в сторону, Турчанинов шел назад, слегка расставляя ноги; по лесенке, держась за медный поручень, спускался в мужскую каюту дешевого третьего класса, где устроился, отдельно от жены, помещавшейся в дамской каюте. В тесном, душном, пахнущем машинным маслом, подпалубном помещении с круглыми иллюминаторами на стенках, заставленном рядами двухъярусных коек, на которых валялись десятки, если не сотни, людей, звучал разноязычный говор. Черные, шумливые, веселые итальянцы болтали, смеялись, внезапно принимались крикливо и яростно спорить, сверкая глазами, – казалось, вот-вот схватятся за ножи, – но вместо того вскоре под металлическое блеяние мандолины начинали петь сладко рыдающие неаполитанские песни. Несколько белобрысых молчаливых шведов и датчан целыми днями резались в карты, переговариваясь скупо и непонятно. Особняком, пугливо на всех поглядывая, держался старый еврей в засаленной ермолке, с библейской бородой и красными, больными веками. Ехал он из глухого польского местечка к сыну, который хорошо устроился в Америке.
Были тут немцы и литовцы, французы и чехи, голландцы и венгры – безденежный, энергичный, беспокойный, предприимчивый народ со всех уголков Европы, которому не повезло у себя на родине и который плыл за океан добывать себе счастья в далекой, таинственной Америке, в стране свободы, благополучия и сказочной удачи, в стране, где уличные чистильщики сапог становятся миллионерами.
За время пути Турчанинов подружился со своим соседом по койке, – молодым ирландцем с копной густых медно-рыжих волос, одетым в клетчатую куртку, залатанную на локтях. Парень ехал к брату. На последние, видно, гроши купил билет.
– У него, сэр, небольшая ферма под Нью-Йорком. Живет хорошо. Приезжай, пишет, будем работать вместе, – рассказывал сосед.
– Каково жилось в Ирландии? – поинтересовался Турчанинов.
Оказалось, плохо жилось ирландцу на родине. Отец снимал участок у арендатора, который в свою очередь арендовал эту землю у лендлорда. Работали всей семьей с утра до ночи, питались одной картошкой и собирали урожай, годный лишь на то, чтобы внести арендную плату за клочок обрабатываемой земли и мазанку, в которой ютились.
– Много народу у нас подалось в Америку, сэр.
– Я тоже хочу жить плодами рук своих. Приобрету ферму и буду заниматься земледелием, – сказал Турчанинов.
– Хорошее дело! – одобрил ирландец. – Поди, у себя в России за плугом ходил? – перешел он на фамильярный тон, без почтительного «сэр».
– Да, был с землей связан, – неопределенно отозвался Иван Васильевич.
– А я спервоначалу подумал, что ты из господ либо попов.
– Почему это?
Парень осклабился.
– Выражаешься чудно́. «Плодами рук своих». Прямо как поп.
Потом он принялся горячо убеждать Турчанинова, что тот хорошо устроится и что вообще если где люди и живут по-настоящему, так это только в Америке. Не он один – все вокруг Ивана Васильевича говорили об Америке, куда плыли, как о стране обетованной.
Раза два попадали в сильный шторм. Пароход валило то на один бок, то на другой, то на острый нос, то на корму. Каюта, скрипя и дребезжа, перекашивалась, пол уходил из-под ног, сильно раскачивалась висячая лампа, все, что только не было прикреплено, с грохотом и звоном падало со стола, с полок и катилось в угол. В такие часы Турчанинова не тянуло наверх: слишком неуютно там было. Низкое, аспидное небо, налетающий порывами холодный ветер, мокрая палуба, по которой с шипеньем широко разливается вода, фонтанами взлетают соленые брызги... Судно швыряет с боку на бок, оно болезненно вздрагивает, трещит, скрипит. То и дело по сторонам вырастают серо-зеленые, злобно отороченные белой пеной, живые, упругие горы воды, готовые обрушиться на пароход всей своей тысячетонной массой...
Вокруг себя Турчанинов видел позеленевшие лица. Чуть ли не поголовно все лежали на койках, охали, бранились, стонали. Ирландец, в промежутках между приступами жестокой рвоты, изнемогающим голосом клял чертово море, которое собирается вывернуть ему все кишки наизнанку. Старый еврей, с головой накрывшийся полосатым черно-белым платком, молитвенно подвывал, раскачиваясь и усиливая голос, когда крен парохода делался круче. На самом Иване Васильевиче морская болезнь почти не сказывалась, но с тревогой и жалостью он думал, каково сейчас Надин.
А Надин сейчас было скверно.
Обессиленная, измученная, еле сдерживая слезы, пластом лежала она у себя на койке, с тошнотворной ритмичностью проваливаясь куда-то вниз то головой, то ногами, и уже не стыдилась того, что делает с ней качка, – со всеми вокруг нее творилось то же самое.
Порой вода закрывала пароходные иллюминаторы. В перекосившейся каюте заметно темнело, – казалось, сам океан заглядывает сюда зелеными осьминожьими глазами. Затем волна опадала, по прояснившемуся стеклу круглых окошек сползали мыльные клочья пены, каюта выпрямлялась и начинала медленно валиться на другую сторону.
– О мадонна миа! О мамма миа! – стонала, бессильно перекатываясь на соседней койке, толстая раскосмаченная итальянка.
Боже мой, как плохо было Надин! Так плохо, так тошно, что для страха за свою жизнь – а вдруг потонем! – уже не оставалось места...
Но вот пришел наконец день – после месячного почти плаванья по беспредельным водам, – когда на закате солнца в дверь мужской каюты просунулась чья-то голова в бархатном картузе и радостно возвестила:
– Америка!
Все повалили в дверь.
Турчанинов зашел за женой, поднялся с ней на палубу. Осторожно обходя толстые канаты и цепи, пробрался на нос, где уже скопилась толпа пассажиров. Что-то намечалось над водой в далекой синеватой дымке: смутно белело, смутно пестрело, искрилось, вытягивалось по горизонту дальше и дальше... Океан был спокоен.
– Смотри, чайки! – обрадовалась Надин.
Белые птицы, которых давно не было видно, вновь вились над пароходом. Сопровождая судно, они косо и плавно, будто с горки, соскальзывали на длинных распростертых крыльях к пенистым волнам, а затем, быстро махая, борясь с ветром, опять поднимались на уровень мачт. Встречная рыбачья шхуна под белыми округлостями надувшихся парусов прошла вблизи, кренясь. То взлетала на вершину отлитого из зеленого стекла текучего холма, то спускалась с него, почти зарываясь бугшпритом в узорчатую пену. У штурвала стоял рулевой – красный колпак, в зубах трубочка. Лицо неправдоподобной глянцевитой черноты выглянуло из люка. Вылез негр с ведром в руке, выплеснул помои за борт, помахал пароходу голой по локоть черной рукой, сверкнул белейшими зубами и вновь скрылся в люке.
Не раз потом в минуты невзгод вспоминалось Ивану Васильевичу, с каким душевным подъемом, с какой радостной уверенностью в чем-то хорошем, что ждет впереди, стоял он на палубе океанского парохода, полуобняв жену, и жадно глядел на приближающийся чужедальний берег. И Надин тоже не сводила с него глаз. Тяготы и мученья долгого путешествия остались позади. Сомненья и тяжелые раздумья, минуты упадка сил душевных и физических – все теперь было забыто.
– Вот она, страна свободы! Добрались наконец! – сказал Иван Васильевич жене, просветлев.
Замедлив движенье, теперь пароход шел среди других, дымящих черным дымом, пароходов, больших и малых, что сновали вокруг во всех направлениях; шел среди летящих с волны на волну лодок с косым, белеющим издали парусом («Смотри, точно крыло чайки!» – сказала про такую лодку Надин); шел мимо длинных песчаных отмелей и зеленеющих островов с мелькающими меж деревьев домиками, – а город продолжал выплывать навстречу массами зданий и все глубже охватывал широкий залив подковой тесно застроенных берегов, где верфь громоздилась на верфь. Солнце село, на холодном желтом пламени угасающей зари резко темнели высокие дома в шесть-семь этажей, повсюду загорались огоньки, их становилось больше и больше, на воде задрожали желтые, зеленые, красные змейки отражений. Уже час шел пароход вдоль берегов, а перед столпившимися на палубе людьми без конца развертывались в темноте над заливом все новые и новые ряды окаймленных огнями улиц. Казалось, разлеглось исполинское глазастое чудовище с черным зубчатым хребтом, разлеглось и глядит на воду тысячами огненных глаз, а неясный гул и рокот, доносящийся сквозь гуденье пароходной машины, – словно тяжелое его дыханье.
– Неужели это все Нью-Йорк? – тихо спросила Надин и поежилась, – быть может, от ночной прохлады.
– Нью-Йорк, душа моя.
Турчанинов и сам пребывал сейчас в непривычном для него состоянии робости, подавленности и какой-то растерянности. Так вот как она выглядит, Америка!
Впрочем, не у него одного, – вероятно, у всех, кто смотрел, стоя у перил, на берег, было такое чувство.
– Да тут человек как песчинка! – сказал кто-то над ухом Ивана Васильевича по-французски.
На ночь пароход остановился посреди залива, забе́гали матросы, на носу, разворачиваясь, загремела якорная цепь. До утра на берег никого не спускали. Всю ночь почти не спали Турчаниновы, прислушиваясь к шагам над головой по палубе, к доносившимся со всех сторон – то ближе, то дальше – пароходным гудкам.
Утром, отбрасывая назад длинные серебристые усы, подошел резвый таможенный катерок, на палубу поднялись по трапу два чиновника. Они привезли с собой какую-то бумагу; каждый пассажир, ознакомившись с нею, должен был подписать. Иван Васильевич подмахнул, не слишком вникая в суть написанного. Пустая канцелярщина. Не все ли равно, под чем ставить свою подпись, если остаешься здесь навсегда?
Выстроившись на палубе длинной, изгибающейся вереницей, пассажиры медленно продвигались мимо столика, за которым сидели американские чиновники, и один за другим расписывались, а пароход тем временем незаметно, минута за минутой, приближался к пристани. Вертясь под высоким бортом, хлопотливо забегая то с одного, то с другого бока, его постепенно подтягивал маленький, чумазый, чрезвычайно суетливый буксир. На берегу тянулся ряд огромных, мрачных, некрасивых сараев, перед которыми теснились мачты, пароходные трубы, капитанские рубки. К одному из таких сараев и подтягивали прибывший из Европы пароход.
Наконец подтянули.
Пароход стал боком к причалу, заполненному пестрой толпой встречающих, – кое-где в ней махали платками, – откуда-то из-под высокой крыши спустили узкие мостки, с грохотом перекинули с берега на борт. Поток нагруженных мешками и чемоданами пассажиров подхватил Турчаниновых, тоже несущих свой багаж, и, толкая, тесня со всех сторон, медленно, шаг за шагом, вынес их на американскую землю.
* * *
Затем был тягостный таможенный осмотр в неказистом деревянном сарае, наполненном приезжим народом, сбившимся в большое понурое стадо, покорное всему, что с ним делают. Долго пришлось стоять, локоть к локтю, в пахнущей дешевым табаком и немытым телом людской тесноте, дожидаясь своей очереди. Знакомая, скучная и унизительная процедура, – сколько уже раз приходилось ей подвергаться!
Наконец покинули таможню и вышли на улицу. Невзрачный, обшарпанный экипаж повез их в гостиницу. На ухабистой плиточной мостовой изрядно трясло. Сначала долго ехали по территории порта, мимо людных пристаней и причалов, разгружающихся океанских пароходов, громадных амбаров и складов. Потом открылись незнакомые улицы, полные суетливого движения – экипажи, пешеходы. Несмолкаемый грохот переполненных омнибусов с яркими рекламами на крышах, пронзительные голоса размахивающих свежими газетами мальчишек, выкрики уличных торговцев, стоящих повсюду со своими лотками, возгласы, смех – и все это на фоне ровного, точно шум моря в раковине, гула шагов, говора, конского цокота. Турчаниновы ехали, озираясь по сторонам, и у них начинала кружиться голова от ряби золотых букв на вывесках магазинов, лавок, ресторанов, от пестроты затейливо изукрашенных витрин, перед которыми задерживался на минуту бегущий мимо прохожий люд. Все вокруг спешило куда-то по своим делам, разговаривало, кричало, мелькало, кипело и бурлило, как в котле. Нью-Йорк! Свободные, независимые, деловые люди, не знающие европейских предрассудков...
Но вот сквозь беспорядочный уличный шум донеслось странное металлическое стрекотанье. Показалась партия закованных в железа негров, которых вели двое белых в широкополых шляпах, с хлыстами в руках. Всех невольников связывала пропущенная от одного к другому длинная цепь, а кроме того, на ногах у них были тяжелые кандалы. Они-то и стрекотали при каждом шаге арестантов.
– Что это такое? – крикнул кучеру Турчанинов.
– Беглых негров привезли! – прокричал тот в ответ с козел.
– Куда же их ведут?
– В тюрьму, сэр. А потом отправят на Юг, к хозяеам.
В зале дешевой гостиницы, где очутились слегка оглушенные Нью-Йорком путешественники, находилось несколько мужчин, все были в шляпах. По причине жаркого дня входная дверь и окна распахнуты, по залу, весело вздувая пестрые занавески на окнах, гулял сквознячок, но тем не менее стоящий за стойкой хозяин, без сюртука, в черной жилетке, утирал платком лоснящееся одутловатое лицо.
Турчанинов договорился с ним относительно приличного номера. «Прекрасный номер, сэр, останетесь довольны», – заверил хозяин. Босоногий негр забрал в обе руки вещи и повел новых постояльцев к арке в глубине зала, где начиналась лестница на второй этаж.
Перед холодным камином, мимо которого предстояло пройти, сидел в плетеном кресле некий джентльмен, надвинувший на нос большую соломенную шляпу, сухопарый, безусый, но с желтой, подстриженной лопаткой бородой. Сидел он, положив на каминную доску длинные ноги в огромных, подбитых гвоздями башмаках, засунув руки в карманы клетчатых штанов, и развлекался тем, что то и дело звучно посылал далеко в сторону смачные плевки. Целил в стоящую у стены плевательницу, однако далеко не всегда в нее попадал, и это обстоятельство, очевидно, возбуждало у него что-то вроде спортивного азарта. Занятие джентльмена и его более чем непринужденная поза с непривычки покоробили Ивана Васильевича, но он подумал, что в Америке, по-видимому, так и принято сидеть в общественных местах – задрав ноги выше головы. Ну что ж, со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь не суйся.
– Сэр! – сказал Турчанинов (у этих англо-саксонов к каждому полагалось так обращаться). – Сэр, может быть, вы перестанете плеваться и дадите мне с дамой возможность пройти?
Сухопарый джентльмен бросил на Ивана Васильевича косой взгляд, независимо выставил бороду и процедил сквозь зубы:
– Я живу в свободной стране и могу плевать, куда желаю. – Харкнул еще более звучно – мимо Турчанинова, едва не зацепив штанину, пролетел новый увесистый плевок. – А если какому-нибудь проклятому иностранцу у нас не нравится, пусть убирается обратно в свою дохлую Европу.
За спиной Турчанинова засмеялись – явно одобрительно.
На минуту Иван Васильевич опешил от неожиданности. Он разобрал далеко не все, что ему пренебрежительно буркнули в ответ, – выговор здесь был не лондонский, – но «проклятый иностранец» и «убираться» понял хорошо. У себя в России он знал, как поступают в таких случаях. Но здесь была не Россия...
– Жан! Ради бога! – пролепетала по-русски Надин, сжав его руку и со страхом глядя на изменившееся лицо. Горяч был Иван Васильевич, она знала.
Но тут, к счастью, прозвучал голос со стороны:
– Эй, сосед!
В зал вошел пароходный ирландец вместе с другим мужчиной, схожим с ним лицом, но пошире в плечах и возрастом постарше. От них излучалось на окружающих благодушие.
Стараясь овладеть собой, громко, чтобы слышали все в зале, Турчанинов сказал желтой бороде:
– Я никак не думал, что Америка так принимает своих гостей. – И, показывая, что она, эта желтая борода, больше для него не существует, повернулся к молодому ирландцу.
– Мой брат Патрик, – качнул тот головой на спутника и неизвестно почему подмигнул. – Встречать приехал.
Патрик, широко ухмыляясь, первым протянул жесткую ручищу сначала Надин, затем Турчанинову, – пожал так, что молодая женщина едва не вскрикнула. Одетый ради приезда в Нью-Йорк по-городскому, но в грубых фермерских сапогах, он как бы закоченел в торжественном долгополом черном сюртуке и в белом, размокшем от пота воротничке, слишком тесном для толстой, прокаленной полевым загаром шеи.
– Ты, кажись, хотел купить ферму? – спросил Турчанинова рыжеволосый ирландец.
– Да.
Ирландец указал большим пальцем на брата:
– Продает свою ферму. Покупай.
– А вы что же? – удивился Иван Васильевич.
– Уезжаем, брат! – Ирландец хлопнул его по плечу и радостно захохотал. – В Калифорнию!.. Ну ее, эту ферму, ко всем чертям вместе с ведьмами!
– Билл! – укоризненно сказал Патрик, взглядом показывая на Надин. – Простите, мэм. Мы с ним, знаете, немного того... Столько лет не видались, сами понимаете...
– Ничего, ничего, – улыбнулась Надин: только сейчас уловила она спиртной душок и заметила, что глаза у братьев развеселые.
– Золото будем добывать! – воодушевился рыжеволосый, потрясая руками. – Там такие, говорят, залежи найдены! Ребята миллионерами уезжают!.. Может, и ты с нами, сосед? А?
На минуту Иван Васильевич вроде как призадумался. А что, чем черт не шутит?.. Нет! Ради чего он приехал сюда? Наживаться, богатеть или же заниматься пусть скромным, но честным трудом, дыша животворящим воздухом свободы?.. Да и что, если он уедет на прииски, будет без него делать Надин – одна в чужой, незнакомой стране? Как ее бросить?..
Он отрицательно помотал в ответ головой.
– Ну, дело твое, сосед. Тогда покупай ферму. Хорошая ферма. Верно, Патрик?
– Хорошая, – подтвердил Патрик. – И участок неплохой. Я его у мистера Бюэлла арендую... Покупайте, сэр, останетесь довольны. Мы с вами съездим к мистеру Бюэллу в контору, сразу все и оформим.
Турчанинов покосился направо, налево – все, кто был в зале, не скрывая интереса, прислушивались к разговору.
– Вот что, мои друзья, – сказал он решительно. – Давайте поднимемся наверх, ко мне в номер, там и поговорим.
Стали подниматься по лестнице.
АРЕНДА БОЛЬШЕ СЕБЯ НЕ ОПРАВДЫВАЕТ
Человек стоял по пояс в зреющей, волнующейся под утренним ветерком пшенице. Женственно выгибаясь и кланяясь, задевая его за локти, за бока, кругом колебались густые желтеющие колосья, на которых не обсохла роса. Человек срывал усатые колоски и ногтями выколупливал из них восковые, мягкие еще зернышки. Пытливо рассматривал, держа на широкой, с желвачками мозолей ладони, пробовал на зуб.
Североамериканский фермер в обязательной широкополой шляпе, обвисшие поля которой бросают тень на смугло-печеное, короткобородое лицо, в широких подтяжках поверх синей бумажной рубашки с выцветшими подмышками... Кто бы мог вообразить себе на этих плечах двубортный военный сюртук с золочеными пуговицами, с тяжелой золотой лапшой эполет? Ты ли это, Иван Васильевич, императорской гвардии полковник, русский дворянин, петербуржец?..
Год миновал с той поры, когда впервые ступил Турчанинов на американскую землю. Многое познал он за этот год, храбро решив опроститься, зажить на природе непривычной ему, бесхитростной, простодушной и тяжелой мужичьей жизнью, день за днем изучая древнейшую науку выращивания хлеба насущного. Нашелся и наставник в такой науке – сосед фермер, с которым познакомился и вскоре подружился Турчанинов, долговязый, нескладный и добродушный Джул Гарпер, живший со своей семьей в двух милях отсюда.
Глядя на волнующиеся хлеба, припомнил Иван Васильевич, как ходил он взад-вперед за плугом, распахивая вот это самое поле. Налегая на ручки тяжелого плуга и погоняя тужившуюся лошадь, без устали ходил он, ходил, ходил... Джул, спасибо ему, показал, как нужно пахать. Изогнутый, зеркально отполированный, острый стальной лемех глубоко разворачивал грунт, отваливая на сторону толстый, рассыпчатый пласт каштановой земли и оставляя за собой рыхлую, комковатую борозду, в которой вязли усталые ноги. Одна к другой укладывались длинные свежие борозды... Солнце жарко припекало напряженные плечи, липла к лопаткам влажно-потемневшая рубашка. По лбу стекали теплые соленые капли, они просачивались сквозь брови, ели глаза, Турчанинов смахивал их рукавом.
Потом нужно было боронить запаханное подле, затем сеять на нем хлеб. От зари до зари трудился под солнцем Турчанинов. Не пропали зря труды, теперь он видел, во что они превратились. Посеянное зерно взошло, поднялось, налилось соками земли и солнца.
Он стоял и глядел, тихо любуясь, как широкие, играющие иззелена-золотистыми тенями, упругие волны катятся по полю, прислушивался к еле уловимому теплому, живому шороху вокруг себя, и светло было у него на душе.
Ферма – бревенчатый, неоштукатуренный, убогий домишко с жестяной трубой, откуда сейчас поднимался приветливый дымок, – стояла у большой проезжей дороги. Позади находился низенький покосившийся сарай, разделенный пополам: в одном отделении уютно хрустела сеном старая, добродушная кобыла Мэри, в другом хранился нужный для полевых работ инвентарь. Время от времени на дороге, проезжая мимо, появлялись то неторопливая фермерская повозка, то всадник, рысью скачущий на сытом коне, то громоздкий пассажирский дилижанс в упряжке из шести лошадей, с целой горой привязанной клади на крыше и с кучером, вооруженным длинным бичом. После них на дороге полосой дымилась красноватая пыль.
Насвистывая из «Аскольдовой могилы» про дедов, которые живали в старину веселей внучат, направился Турчанинов к своему домику. Недалеко от входа большая, иссеченная топором колода, на которой он рубил дрова. Навеса над входом нет, одна приступка. Из приоткрытой двери, прикрепленной на кожаных петлях, тянуло запахом кофе, запахом горячих лепешек, запахом жареного мяса.
– Как вкусно у тебя пахнет! – весело сказал Иван Васильевич, входя и вешая на гвоздь шляпу с обвисшими полями.
Надин жарила на сковороде шипящие в сале куски солонины, – раскрасневшаяся у плиты, в переднике поверх простенького ситцевого платья, в дешевых башмаках на босу ногу, густые волосы наспех заколоты. В кофейнике на плите бурлил душистый кофе. Большая сковорода с румяными лепешками стояла в открытой духовке. Турчанинов не удержался, подошел сзади к жене, отстегнул верхнюю костяную пуговку и поцеловал белую, нежную, повлажневшую кожу там, где начиналась ложбинка спины, полукругом отделявшаяся от золотистого загара шеи. Потом снова бережно застегнул платье. Занятая своим делом, Надин недовольно повела худенькими плечами.
– Жан!
– Знаешь, Наденька, пшеница почти созрела! – радостно сообщил он, усаживаясь за придвинутый к окну, накрытый белой клеенкой стол. Уже стояли фаянсовые кружки и оловянные тарелки, были положены ножи и вилки с почерневшими деревянными ручками. В стеклянной банке желтел дешевый сахарный песок.
– Завтра съезжу к Гарперам. Потолкуем насчет жатвы. Хорошие они люди, правда?
– Очень.
– Простые, трудолюбивые, отзывчивые... А вернусь от Джула – поеду за сеном для Мэри. Наверно, уже подсохло в стогу.
Она поставила горячий кофейник, подула на обожженные пальцы и принялась вилкой снимать со сковороды коричневые ломти поджаренного мяса и накладывать на оловянные тарелки. Положив перед собой тяжелые кулаки, в терпеливом ожидании завтрака, он с удовольствием следил за ее ловкими и уютными, домашними движениями.
– Ты что улыбаешься? – спросила Надин.
– Так... Вспомнил, как ты вошла сюда в первый раз.
Тогда он привез ее показать купленный дом, который отныне стал их собственным. Очутились в большой, пустой, бесприютно оголенной комнате, разгороженной дощатыми, не доходящими доверху перегородками. Не было ни стола, ни стульев, ни постелей. Низкий, давящий потолок, одно из окон разбито, на грязном полу осколки стекла. Напоминанием об уехавших отсюда владельцах остались: вырезанная из иллюстрированного журнала и прикрепленная хлебным мякишем к тесовой стене улыбающаяся красотка, заржавелая консервная жестянка в углу да сухой обмылок на полочке над умывальником.
– Ну как? Нравится? – спросил он, с беспокойством глядя на ее растерянное лицо.
– Очень мило, – ответила она упавшим голосом, озираясь...
Сравнить только, какой растерянной стояла она тогда посреди комнаты, подавленная тем, что увидела и куда попала, и как спокойно и уверенно хозяйничает здесь теперь. Он подивился в душе непостижимой женской гибкости и приспособляемости. Всему она теперь выучилась: и стряпать, и стирать, и мыть полы – вчерашняя столичная барыня, – и все это делала, казалось, нисколько не тяготясь, будто век занималась такой работой.
– Человек, говорят, ко всему привыкает, – ответила Надин с легкой улыбкой, поставив перед мужем тарелку с мясом и тоже садясь за стол. – А знаешь, Жан, мне начинает нравиться такая жизнь.
– Да? – обрадовался Турчанинов, даже перестал жевать. – Конечно, здоровая жизнь на свежем воздухе... Вон как ты поправилась, совсем другой цвет лица!.. Честный, благородный труд земледельца. Ни от кого не зависим, никому не кланяемся. Великое счастье!.. Граф Толстой – помнишь, я тебе о нем рассказывал? – граф Толстой говорил, что такая жизнь нравственней и чище.
Они завтракали, поглядывая в окно на проезжую дорогу, и вели мирную беседу людей, навсегда связанных совместными заботами и интересами, радостями и горестями.
– Вкусно? – заботливо спрашивала Надин, следя, как ест муж.
– Очень, душенька.
С кружкой в руке, прихлебывая и дуя на кофе, говорил Турчанинов:
– Урожай должен быть хорошим. Вот снимем хлеб и купим корову.
– Корову? – Надин поглядела исподлобья, с интересом.
– Да. Ты как на это смотришь?
– Что ж, хорошо. Я у миссис Гарпер научусь доить. И вообще всему... Ты понимаешь, – оживилась она, – у нас будет своя сметана, свое масло...
После завтрака она вымыла посуду, прибрала комнату, затем принялась за стирку. Налила в корыто горячей, согретой на плите, дымящейся паром воды. Засучила рукава, взбила пушистую мыльную пену, на которой вскакивали, переливались перламутром и вновь пропадали пузыри, бросила туда грязное белье и принялась месить обоими кулачками, порой закидывая мокрой тыльной стороной кисти падающую на глаза прядь.
Иван Васильевич натянул за домом веревку под выстиранное белье и направился было к лошади, вознамерившись почистить конюшню, однако сперва замедлил шаг, а потом и совсем остановился, приставил к бровям ладонь и стал всматриваться в появившийся на дороге фургон. Под брезентовым полукруглым верхом, запряженный парой показавшихся знакомыми лошадей, фургон медленно подползал к ферме, и за ним тянулась поднятая пыль. Рядом бежала собака. Человек с кнутом, сидевший на передке, смахивал на Джула Гарпера... Конечно, то был Гарпер. Но куда это он едет?..
Повозка подъехала, скрипя колесами, и остановилась на дороге против фермы. Человек на передке, придерживая лошадей намотанными на кулак вожжами, помахал свободной рукой:
– Хелло, Джон!
Турчанинов подошел к фургону. Пожали друг другу жесткие фермерские руки.
– Куда это ты собрался?
– К черту на рога, – ответил Джул.
Длинное, светлоглазое, обросшее рыжеватой шерстью лицо его под черной фетровой шляпой было мрачней тучи. На тупоносых сапогах, упиравшихся в передок фургона, засох коровий навоз.
Черный лохматый пес Гарперов подошел, обнюхал у Ивана Васильевича ноги, вяло вильнул хвостом – из приличия – и улегся в тени повозки, вывалив набок влажный малиновый язык и жарко и часто дыша. Из-под брезентового свода за спиной Джула торчал угол облезлого стола, виднелись наваленные грудой полосатые тюфяки и перины.
– Так ты что? Совсем уезжаешь? – изумился Турчанинов.
Молча кивнув, Джул извлек из кармана запачканных холщовых штанов начатую, в порванной обертке, пачку жевательного табака, из другого кармана – складной нож в роговой оправе. Щелкнул пружиной ножа и, положив пачку на сиденье, отрезал порядочный кусок.
– Хочешь?
– Нет, спасибо, Джул. Я не люблю.
– Я и забыл, что ты не любишь.
Гарпер сунул табак за щеку, сложил нож и рассовал все вновь по карманам. Из-за плеча его выглянуло худое лицо миссис Гарпер в белом чепце – глаза припухшие, красные, уголки запавших губ скорбно опущены. Турчанинов вежливо взялся за шляпу:
– Добрый день, миссис Гарпер.
– К тебе не приезжали? – спросил Джул.
– Нет, – насторожился Турчанинов. – А кто должен приехать?
– Не хочу огорчать тебя, Джон, но думаю, что и к тебе приедут. Так что будь готов.
– Да кто должен приехать? Что случилось? – неясная тревога сжала сердце Ивана Васильевича.
– Скверные дела, дружище. – Джул плюнул на дорогу, коричневый табачный плевок тотчас же завернулся в бархатистую пленку пыли. – Выгнали нас. Со старухой и с ребятишками.
Турчанинов рассердился:
– Да ты можешь говорить толком или не можешь? Кто вас выгнал?
– Приехал вчера из города человек, от мистера Бюэлла, из конторы, и бумагу привез. Мистер Бюэлл, говорит, решил продать эту землю – аренда больше себя не оправдывает. А потому, дескать, чтобы завтра вас здесь не было, сматывайтесь.
– И ты что же? Собрался и поехал? Бросил дом, землю, все нажитое? – спросил Турчанинов, не скрывая возмущения безответной покорностью Джула.
– Нет, Джон. Я ему тоже сказал.
– Что же ты ему сказал?
– Я ему сказал: «Мы родились здесь. Мой отец всю жизнь поливал своим потом эту землю. Она была дикой, он ее приручил, и она стала давать хорошие урожаи. Я тоже работаю на ней всю жизнь... Нет, мы не уйдем отсюда, сэр, – сказал я этому городскому стрикулисту. – И убирайтесь, сэр, подобру-поздорову, пока не получили пулю. У меня ружье есть».