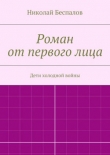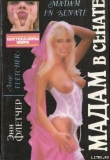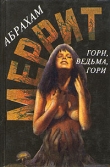Текст книги "Мадам"
Автор книги: Антоний Либера
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
А вот Иоанна после очередного раунда «выяснения отношений», когда неблагодарный потомок дошел до оскорблений, высказываясь о ней как о непотребной Гертруде, развратной и вероломной, разражается рыданиями и выбегает из гостиной, а потом, глотая слезы в спальне, вспоминает ту ночь, когда на разбитых дорогах Вестфалии у них сломалась ось коляски и ее нес на руках до гостиницы, ежеминутно опуская на землю, великан-астматик.
«О, почему у меня тогда не случился выкидыш!» – с тоской восклицает Иоанна. И, услышав слова успокаивающей ее дочери Адели, девушки доброй, но некрасивой, возвращается памятью в ту весну сразу после возвращения в Гданьск, когда она, став матерью, чувствовала себя самой счастливой женщиной на всю оставшуюся жизнь, а новорожденный сын казался ей самым прекрасным и чудесным ребенком во всем мире.
Короче говоря, в новелле я пытался показать призрачность человеческих надежд и ожиданий. Она была пронизана ощущением горькой безнадежности и глубокого неверия в то, что счастье может породить счастье или удержать его. «Мелодия жизни печальна, – утверждал рассказчик. – А если даже иногда она переходит в мажорную тональность, то все равно заканчивается минором. Удачный, радостный дебют всегда нужно рассматривать в перспективе эпилога».
Что касается меня, автора текста, сочинять эту историю мне доставляло удовольствие, а завершение работы принесло облегчение. Я будто освободился от чего-то. Избавился от тоски… неизвестно о чем. Нашел форму для выражения любовного порыва.
Не имело никакого значения, что рассказанная мною история была почти не связана ни с моей жизнью, ни с жизнью Мадам. Главное заключалось в другом: в результате точного попадания или удачного совпадения обстоятельств творчество стало для меня своеобразным медиумом – дало возможность выразить себя. Позволило приблизиться к недосягаемым вершинам, дало выход мыслям, чувствам и фантазиям, робкой пробой чего был всплеск воображения в кинотеатре, когда из-за занавесок я наблюдал Мадам и вдруг увидел всю ее жизнь в сжатом виде, как краткий очерк.
Я дал новелле ироничное название «Форма сбывшихся надежд, или Две сцены из жизни Артура Шопенгауэра» и пришел к заключению, что, пожалуй, излечился. Мысли о Мадам уже не причиняли мне боли. Если я чего-то и хотел, то только чтобы она прочитала мою новеллу.
Поэтому в начале нового учебного года я отправился в школу проверить, вернулась она или нет. Я почти не верил в ее возвращение, но хотел убедиться. Случилось, как я и предполагал. В школе царил хаос. К власти пришел Солитер – временно или навсегда. О «бывшей пани директор» никто со мной и разговаривать не хотел.
Свой рассказ я дал прочесть старому Константы. Он был приятно удивлен. Предложил кое-что исправить и сказал, что вещь можно публиковать. Рассказ вышел из печати примерно через полгода – в одном из литературных журналов, издававшихся в то время.
Закончив первый курс университета, я уже имел за плечами литературный дебют.
И тогда, а точнее говоря, после очередных летних каникул, в сентябре, когда мне исполнилось ровно двадцать лет, снова произошло нечто такое, что нарушило покой моей души.
На следующее утро после моего дня рождения из Франции пришла посылка – небольшой пакет. Однако принес ее не почтальон, а специальный рассыльный. Мне даже пришлось заплатить за доставку. Моя фамилия и адрес, как на пакете, так и на почтовом бланке, написаны были не от руки, а на машинке, а вместо обратного адреса стояла печать и логотип какой-то неизвестной мне фирмы. Поэтому, распаковывая таинственную посылку, я и понятия не имел, кто ее мог прислать и что в ней находится. Понятнее не стало, даже когда я развернул бумагу. В посылке находилась плоская черная коробочка с цветным портретом Моцарта в двухлетнем возрасте и сделанной золотом надписью: «Hommage à Wolfgang Amadeus Mozart»! [256]256
В честь Вольфганга Амадея Моцарта (фр).
[Закрыть]
Меня будто толкнуло что-то, когда я открыл коробку.
Внутри на атласной подкладке лежало вечное перо – необыкновенно элегантное. На узком золотом колечке вокруг колпачка виднелись три слова: «Meisterstuck» [257]257
Проба пера (нем.).
[Закрыть]и «Mon Blanc».
Я остолбенел, все еще не веря собственным глазам. Ведь, в конце концов, доказательств не было.
Скоро я их нашел.
В конверте, приклеенном ко дну плоской коробки с авторучкой, находилась цветная почтовая открытка с видом на Монблан, а на ее «почтовой» стороне я увидел написанные карандашом знакомым мне почерком следующие слова:
Дрожащими руками я начал обследовать коробку: какое еще потайное отделение, кроме отделения для авторучки, может здесь находиться. Наконец я нашел его – «второе дно» – под черным passe-partout, подвижным, съемным. Там лежал листок картона с золотым обрезом, на котором я увидел шесть написанных чернилами от руки, почерком Мадам коротких рядов строк, изящно, каллиграфически выстроенных в тесную колонку:
De la part du Verseau dans la force de l'âge
pour la Vierge à l'âge viril
(depuis le Dix Septembre)
au lieu d'une plume d'oie
avec les meilleurs sohaits
de courage et de…
Victoire [259]259
От Водолея в зрелом возрасте Деве в возрасте мужском (от десятого сентября) вместо гусиного пера с наилучшими пожеланиями отваги (успеха) и… Виктории (Виктория) (фр.).
[Закрыть].
Я смотрел на все это, как загипнотизированный, постепенно постигая многозначительность, точнее, взаимосвязь полученных мною слов и предметов. А смысла в них было более чем достаточно! Начиная от «первопричины», – что она вообще отослала мне посылку, что вообще решила сделать мне подарок в честь двадцатилетия и переслать его по почте; оформления этого подарка, то есть его содержания: вечного пера марки «Mon Blanc» модели «Hommage a Mozart»; до его «предуведомления», «сопроводительной записки» – таинственных и трогательных строк.
Она знала и помнила дату моего рождения! Знала мой адрес! – Откуда? Возможно, из школьных бумаг. – Значит, она записала мои данные и взяла с собой. Зачем она это сделала? – А если не из моей школьной анкеты, то откуда и как их получила? – И потом, она помнила свой «вопрос последний», заданный мне в посвящении, и в деталях помнила мое сочинение. Подчеркнув три буквы, она сделала тонкий намек на такую мелкую деталь, как гротесковый, псевдонаучный вывод, что выражение «virginité» [260]260
Девственность (фр.).
[Закрыть]якобы происходит от латинского «vir» [261]261
Муж, мужчина (лат.).
[Закрыть]. – А от «vir» происходит «viril», напоминала она мне, подчеркнув три буквы, – прилагательное, которое определяет свойственное тебе сейчас состояние, а не «virginité», на чем ты так настаивал.
Самой идеей подарка – а это должно быть именно перо – она также обращалась к моему истолкованию занятий звездной Девы и напоминала о моем стремлении стать писателем.
В проявлениях столь поразительной памяти и скрупулезности я усматривал следы – как далекого эха – характера ее отца в описании Константы. Мне вспомнился один факт из истории их дружбы, когда ровно в полдень шестого августа они встретились в Швейцарии на какой-то маленькой железнодорожной станции, договорившись об этом – по его инициативе – восемь месяцев назад неожиданно и случайно на улице в Варшаве.
Но и это еще не все! В мозаике, составленной из слов, попадались осколки слюды из «геологических» слоев ее жизни, о которых «официально» я ничего не мог знать. Открытка с видом на Монблан, выражение «la force de l'âge» и, наконец, слово «Victoire», которое она употребила не только как дополнение к «souhaits», но и как имя – подпись. Конечно, всему этому можно было найти другие объяснения. Почтовую карточку с вершиной Монблан она могла выбрать по ассоциации с маркой вечного пера безо всякого намека на планы и мечты отца, связанные с местом ее рождения; «la force de l'age» – это выражение из обиходного языка, и не нужно немедленно бросаться читать Симону де Бовуар, чтобы им пользоваться; а «Victoire» могла быть, в конце концов, намеком на кульминационный момент в моем сочинении и на роман Конрада «Победа», цитаты из которого щедро выписаны в «Cahier des citations».
Однако я в это не верил. Я считал, что в ее словах скрыта глубинная связь с драмой ее жизни. Но если я прав, если все эти «стигматы» отражали особенности ее индивидуальности, то возникал вопрос, зачем она затеяла такую игру? Может, она все же знала, что я столько о ней узнал (но от кого? каким образом?), и в такой оригинальной форме ставила меня в известность? Но чего она хотела этим добиться?
И, наконец, ключевой вопрос: связан ли этот сюрприз с «топ oeuvre» – моим недавним литературным дебютом? Неужели она читала мой рассказ? Как он мог попасться ей на глаза? И что бы это значило? «Хорошо пишешь, теперь… напиши, пожалуйста, что-нибудь для меня. Во имя своей любви… своему Моцарту»?
Я пошел к Константы и, прикинувшись простачком, спросил, рекомендовал ли он кому-нибудь мой рассказ. Он ответил, что, конечно, рекомендовал и хвалил – двум-трем знакомым. – А за границу случайно никому не высылали? – Он с удивлением взглянул на меня. – Я тем временем достал из кармана открытку с видом на Монблан и мою новую авторучку и, протянув ему, сказал с каменным лицом:
– Я получил это по почте из Франции. Может быть, у вас есть предположения, кто мог прислать мне такую посылку?
Он внимательно осмотрел авторучку, с восхищением покачав головой; потом взглянул на открытку и слегка улыбнулся. А когда перевернул ее и посмотрел на текст, задумчиво замолчал.
– Что вы об этом думаете? – прервал я наконец молчание.
– Не знаю что и сказать, – отозвался он со странным выражением на лице.
– О чем? – я продолжал прикидываться простачком.
Тогда с полки под лампой он опять достал томик, обернутый бумагой, и опять открыл его на титульном листе, после чего над посвящением, которое было там вписано, положил открытку с Монбланом и долго рассматривал обе надписи.
– Знаешь, откуда эта цитата? – спросил он, указав на французское двустишье.
– Ну, разумеется, – ответил я и улыбнулся в душе, наблюдая, как моего «ментора» настиг его же бумеранг, запущенный им при мне почти два года назад. – Из гимна «Рейн» Гельдерлина.
– Да, – рассеянно буркнул он, – но какая это строфа?
И тогда мое настроение уверенного в себе фокусника, который царит над всеми и наслаждается собственной ловкостью, вдруг ушло куда-то. Ведь я даже не задумывался над этим вопросом. Цитата вообще не привлекла моего внимания; занятый другими подтекстами, я лишь скользнул по ней взглядом, посчитав, не знаю почему, совершенно очевидной. Она к тому же была записана в «Cahier des citations», а в эту тетрадь я всегда мог заглянуть. Видно, для моего восприятия этого оказалось достаточно, чтобы не углубляться в смысл надписи на открытке. А теперь я начинал понимать, что дело здесь не столь уж очевидно. В «Cahier des citations» этот текст я выписал на немецком, и он не относился к наиболее важным цитатам, которые я подчеркивал, и особенно к тем строкам в переводе Константы, которые фигурировали в посвящении ее матери. Итак, почему все-таки она выбрала именно этот отрывок, а не другой? Потому что подходил к снимку? Но ведь на Монблане нет никакого источника! Эти слова относились к тайне Рейна, истоки которого где-то таились в глубинах Альп. И, наконец, где она взяла французский перевод? Занималась его поисками в библиотеках (как я в свое время в Центре)? Перевела сама? И в первом и во втором случае необходимо знать немецкий. Она его знала? Как все происходило на самом деле?
Стараясь не показать, насколько я озадачен, я спросил с деланным равнодушием:
– Какое это имеет значение?
– Какое? – усмехнулся он с тем же странным выражением лица. – Это, – он постучал пальцем по открытке с французским текстом, – непосредственно предшествует, – он передвинул палец на книгу, – записанному здесь отрывку. Это следующие строки… Откуда она могла об этом узнать? – почти шепотом закончил он.
– Кто? – продолжал я прикидываться.
– Шутишь или так, погулять вышел… – с раздражением пробормотал он. – Не понимаю, зачем ты ломаешь эту комедию!
– Да, комедию ломаю, потому что сам не понимаю, в чем тут дело, – сбросил я наконец маску. – Я думал, что здесь не обошлось без вашего участия. Теперь вижу – нет. Если не ошибаюсь, вы не знаете ее адреса во Франции…
– А что, на конверте адреса не было?
– Если бы у меня был ее адрес, то я бы вам голову не морочил.
– У меня нет ее адреса, – ответил Константы. – Я как-то сказал тебе, что она прекратила со мной отношения.
– Могла возобновить.
– Могла. Но не сделала этого.
– Пан Ежик… тоже ничего не знает?
– О чем? – он, очевидно, пребывал в другом «пространстве-времени».
– Ну, как она там устроилась? Где живет?
– Не думаю… Впрочем, не знаю… – он пожал плечами, ставя на полку обернутые бумагой, «зачитанные» «Воспоминания…». – Не можешь сам спросить? Тогда обратись в Центр.
Я обращался. Расспрашивал.
Все только головой качали.
Глава седьмая
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Дальше рассказывать? – Ведь это еще не конец. – Что ж, буду продолжать.
Время, на которое пришлись мои студенческие годы, было жарким и злобным. Жарким, потому что многое случилось в моей жизни; злобным, потому что оккупационные власти, на некоторое время поумерив издевательства над народом и устав от разрушения страны, вновь показали зубы и ощерились в мерзкой гримасе.
Я много читал, учился, совершенствовал литературные навыки; не отказывался от удовольствий жизни, которые предоставляло положение взрослого человека; участвовал в каких-то безобидных и наивных заговорах, протестовал и сопротивлялся и в этом закалялся и мужал. А тем временем вокруг свирепствовали подлость, низость и беззаконие. Сначала гонения на евреев и интеллигенцию; потом Чехословакия: оказание ей «братской помощи»; наконец, обычное побоище в старом московском стиле в Гданьске и, особенно, в Гдыне.
Я получил чего хотел! Сильные впечатления! Мурашки по коже! Историю с большой буквы! Теперь я уже не мог пожаловаться на скуку и пустоту.
Печальное воплощение оказалось у надежды и мечты пожить в интересное время. Тем более что с его «укрепляющей и вдохновляющей» мощью я познакомился не только с безопасного расстояния – как читатель газет, телезритель и радиослушатель, но и на собственной шкуре – как студент и, особенно, начинающий автор.
После чистки в системе образования уровень лекций и семинаров катастрофически снизился, зато дисциплина поддерживалась драконовскими методами. Пресловутый доцент Доловы стал деканом факультета; профессор Левиту навсегда уехал из страны; Ежик, которого и так постоянно оттирали в сторону, совершенно устранился от дел. Торжествовали посредственности и карьеристы, завистливые и ненасытные. Я понял со всей очевидностью, что мне там ничего не светит и надо думать своей головой, чтобы в одиночку, самостоятельно распорядиться собственной судьбой. Впрочем, это отвечало моим желаниям.
Я писал. Жил в мире воображения и формы. Это давало мне ощущение независимости и свободы. Однако такой modus vivendi не соответствовал духу времени. Рано или поздно, если я рассматривал свое занятие не только как самозащиту, но прежде всего как попытку сказать свое слово в искусстве, я должен был выходить из подполья и представлять миру плоды своего труда. И тут начиналось безумие – испытание гордости и достоинства, ад унижения. Хотя то, что я писал, относилось к событиям, далеким от современной истории, и, собственно, не имело ничего общего с миром «передового строя», мои творения всегда пробуждали в цензурном комитете подозрительность, желание исправить их или подсократить, во всяком случае «поторговаться», что не могло не кончиться ничем, кроме «компромисса», пусть и в малых масштабах. У меня сложилось впечатление, что основная цель комитета по цензуре заключалась не в том, чтобы следить за благонадежностью авторов, а в том, чтобы сломать им хребет и дать понять, что сами по себе они ничего не представляют и никому не нужны, и если не согласятся на предложенные условия игры, то вообще прекратят свое существование.
Цензура как бы заранее была настроена сказать «нет» всему, что попадало ей в руки. Автор всегда жил в страхе, даже когда писал стихотворение о мухах и комарах. «Почему именно мухи? – мог он услышать вопрос. – К тому же комары? Выходит, у нас грязь и зараза? Вы это имеете в виду? Нет, нет, нет, так не годится! Если вы хотите воспевать красоту нашей природы, то пишите о бабочках или трудолюбивых муравьях». Когда же несчастный поэт приносил стишок о муравьях, его обязательно спрашивали: «Почему, собственно, муравьи? – Выходит, наша страна – это муравейник, машина какая-то? А наши граждане – это бессловесные роботы? Выходит, у нас личность ничего не значит, она только шестеренка? Нет, нет, это недопустимо! Время перегибов давно прошло».
Когда я отдавал в печать свою вторую новеллу – «Встреча с Дионисом» – о долгом пешем переходе Гельдерлина через Альпы, во время которого у него случилось видение и он оказался в «черной дыре» сознания, я услышал вопрос (достойный Солитера), почему героем рассказа автор выбрал человека, названного Геббельсом, «знаменосцем Третьего рейха». Объяснения, подкрепленные многочисленными цитатами из опубликованных в ГДР, понятное дело, книг и неоспоримо доказывающие, что со стороны Геббельса это было кощунственное заявление, принимались неохотно. Мне не верили и в чем-то подозревали. Всеведущий, особенно в области философии, цензор, отпуская после долгой мороки на свободу мой текст, давал понять редактору журнала, что прекрасно знает, «что здесь пропагандируется», в частности «западные философские направления, такие, как экзистенциализм», ведь Гельдерлином восхищался наряду с другими «небезызвестный Хайдеггер, один из столпов экзистенциализма и, кстати говоря, фашист».
Однако это были только цветочки по сравнению с той баталией, которую мне пришлось выдержать, чтобы добиться публикации моей третьей истории из цикла путешествий (впервые замысел которого родился еще в школе) – рассказа «Господин маркиз де Кюстин» – о его поездке в Россию в тридцать девятом году XIX века.
Приступая к написанию этой новеллы, я понимал, что иду на определенный риск; ведь на «родине пролетариата» ненавидели моего героя, хотя пафос его записок был направлен как раз против того, с чем боролись «народные массы России» и революционеры «великого Октября», то есть против царизма, «позорного строя эксплуатации и унижения человека». Но что позволено массам, особенно большевикам, не позволено кому попало и уж конечно – какому-то французу «дворянского происхождения». Причина ненависти к славному маркизу заключалась, однако, отнюдь не в его голубой крови и не в том, что он оказался французом, и даже не в том, что он нарушил строго охраняемую большевистскую монополию на критику царизма, а в том, что его описание николаевской России, во-первых, вообще, как таковую, выставляло Россию на позор (что уже кощунственно), а во-вторых, даже после смерти, сам того не желая, он разоблачал тотальную, чудовищную ложь, будто Революция принесла освобождение и Россия стала воплощением величайшей в истории человечества свободы. Когда читаешь его «Записки» – описание обычаев, царящих при дворе, отношений между людьми, жизни в деревне и в городе, – тебя преследует ощущение, что ты наткнулся на репортаж из Советского Союза, и даже закрадывается еще более крамольная мысль, что царизм был детской забавой по сравнению с коммунией, которая в порабощении и развращении народа далеко превзошла своего предшественника.
Замечательное произведение де Кюстина в польском переводе не публиковалось (его могли напечатать только за рубежом, а в Польше лишь в период между войнами, чего, однако, не случилось), и в данном случае моя цель, как автора новеллы, существенно отличалась от прежних замыслов. На этот раз я отводил первое место самим фактам, истории, а не интерпретации и собственному воображению. Свою задачу я видел в том, чтобы читатели вспомнили о маркизе и его знаменитом путешествии. Поэтому я бегло представлял несколько эпизодов из его вояжа и цитировал отрывки из его удивительных «Записок». Совершенно осознанно я, как автор, отходил в тень; мне хотелось как-то послужить истории, хотя бы обозначить ее подлинное содержание, пусть контрабандой, но протащить в рассказе что-нибудь из того, что не имело права доступа в сознание людей, живущих в ПНР.
Но когда, закончив рассказ, попытался предложить его кому-нибудь, то началась морока. «У этого нет ни малейших шансов, – разводили руками редакторы, даже самые решительные и готовые меня поддержать. – Как тебе в голову пришло об этом писать! Не знаешь, где мы живем?»
Однако я упорствовал и настаивал на том, чтобы отослать рассказ в цензурный комитет. Так и сделал. Отзыв, который пришел из комитета, вопреки прогнозам, оказался не столь категоричным, как ожидалось, тем не менее от меня потребовали внести в текст значительные изменения и сокращения. В основном речь шла о цитатах из самого де Кюстина (в моем переводе), а также о некоторых моих формулировках.
Началась торговля. И тогда я впервые почувствовал вкус поражения. Борьба, в которую я ввязался, в психологическом плане затягивала как азартная игра. Парадокс заключался в том, что по мере того, как я уступал и поддавался нажиму, желание напечататься не ослабевало, а крепло. – Если ты уже столько уступил, – пускались в уговоры внутри меня и со стороны участливые голоса – что ты упрямишься из-за какой-то мелочи? Ведь это только детали! Что тебе-то? Да ничего! Хочешь из-за такой мелочи все потерять? Вычеркни или замени это слово, и мы подпишем рассказ в печать. А тыполучишь очередную публикацию.
Я вычеркивал, заменял, путал следы, поддавшись самообману, что хитрее их. Так продолжалось неделями. Наконец рассказ был опубликован. Переделанный до неузнаваемости. Чувствовал я себя отвратительно, просто мерзко. Презирал самого себя, был на грани нервного срыва. Даже слова признания, которыми меня одаривали, и похвалы товарищей по университету не приносили облегчения, не говоря уже о внутреннем удовлетворении. Противник добился своего: я поддался, капитулировал, сломался. И потерял лицо.
Этот позорный компромисс оказался, однако, выгоден. Мне преподали очередной урок безнравственности, что ускорило выход в свет моей первой книги.
Заканчивая четвертый курс университета, я мог записать на свой счет книгу рассказов – под старомодным названием «Романтические путешествия».
И вот тогда неожиданно разразился скандал с Флаушем.
Доктор Игнасий Флауш руководил кафедрой методики и техники преподавания иностранных языков. Эта кафедра, слабая в научном и кадровом отношении, по политическим или идеологическим соображениям котировалась очень высоко и пользовалась поддержкой властей. В социалистическом государстве, «по сути своей несравненно лучшем и более прогрессивном, чем буржуазные страны», романская филология в рамках университетского образования (как и любая другая «западная» филология) служила прежде всего для подготовки «языковых кадров», а не гуманитариев и ученых в области литературоведения. Литературоведы оттеснялись на обочину, – а на что они еще годились! Требовались люди, знающие иностранные языки, – для дипломатической службы и внешней торговли, а также для преподавания в школах и на различных лингвистических курсах.
Поэтому доктор Флауш вместе с группой своих подчиненных, хотя и плохо справлялся с отведенной ему ролью (его кафедра популярностью не пользовалась), чувствовал себя на факультете важной персоной и во все вмешивался.
Это был уже немолодой человек («довоенная посредственность», так назвал его однажды Ежик), а по характеру напоминал одновременно Евнуха, Солитера и Змею, то есть учителей закомплексованных, болезненно самолюбивых, претендующих на то, чтобы им на каждом шагу воздавали почести.
Лекции, которые он читал – совершенно пустые и скучные, – к его огорчению, считались «необязательными». Несмотря на это, почти все их безропотно посещали; по слухам, тем, кто игнорировал его лекции, Флауш жестоко мстил на зачетах по его предмету. Сначала я поддался общему психозу и отсиживал положенное время. Но со временем мой иммунитет к скуке и невообразимому идиотизму кончился и верх взяло отвращение. Поверив в букву закона («необязательный предмет») и в надежность собственных позиций (высокий средний балл по основным предметам), а также посчитав, что легко сдам коллоквиум, прочитав opus magnum доктора Флауша (тонкую брошюру под названием «Краткий курс методики французского языка»), я перестал посещать его лекции.
Пред грозные очи Главного Методиста я предстал только на последнем коллоквиуме. Особо не волновался. «Фундаментальную» брошюру, заполненную банальностями и откровенными бреднями, я знал довольно хорошо: мог наизусть цитировать ее целыми абзацами (настолько она была вздорной и стереотипной). Кроме того, я уже сдал с хорошими оценками остальные предметы, что, естественно, укрепляло мои позиции. И, наконец, я добился первых значительных успехов на литературной ниве, и это не могло не свидетельствовать о моих вкусах, интересах и жизненных амбициях.
Мои оптимистические прогнозы оказались ошибочными. А молва не ошибалась. За неуважение к доктору Флаушу платить приходилось дорогой ценой.
Он долго и злорадно гонял меня по всему курсу и задавал вопросы, выходящие за рамки программы. Наконец с торжеством в голосе заявил, что я, к сожалению, не готов к тому, чтобы преподавать иностранные языки, особенно в школе. Я полушутливо ответил ему, что, могу его заверить, несчастья из-за этого не случится, так как у меня совершенно другие планы. Этот безобидный ответ, видно, сильно его разозлил. Он ехидно улыбнулся и сказал с притворным добродушием, что «в жизни все может случиться». Сейчас мне кажется, что я вознесусь Бог знает куда и мир будет лежать у моих ног, а на самом деле, как и многие, со временем превращусь в обычного учителя. А за то, как я выполню эту почетную и трудную роль, он, доктор Флауш, несет полную ответственность. И настоящим свидетельствует, что я с этой ролью не справился.
Для моей гордости художника, начинающего писателя и баловня факультета это было слишком. Я встал и сказал, что как-нибудь переживу свой позор, а ему желаю удачи с другими претендентами, более способными.
Из-за этого разразился, понятное дело, чудовищный скандал. Флауш требовал созвать дисциплинарную комиссию и даже слышать не хотел о пересдаче. Мы вошли в классический клинч, как тогда со Змеей.
«Неужели школа так и будет меня преследовать», – в отчаянии думал я.
Откровенно говоря, я не знаю, чем бы все закончилось, если бы в определенный момент не вмешался Ежик и не помог мне выбраться из этой передряги. Он вызвал меня на разговор и уговорил пройти обязательную педагогическую практику – хотя у меня и не было зачета – и показать себя в школе с самой лучшей стороны. Остальное он берет на себя: поговорит «соответственным образом» с Доловы – деканом доцентомДоловы – и добьется от него, чтобы этот дурацкий предмет, «учитывая случайно возникшее недоразумение», я мог сдать кому-нибудь другому, а не доктору Флаушу.
Этот план действительно мог меня спасти. Но что он означал на практике? Во-первых, в сентябре вместо того, чтобы отдыхать на каникулах, как последние годы, я должен опять идти в школу; во-вторых, я должен очень постараться, чтобы получить высокий балл за свои педагогические труды. Второе обязательное условие казалось мне особенно трудно выполнимым и даже отпугивало. Корпеть над учебниками, составлять конспекты уроков и учиться, как учить их грамматике и произношению, – какой кошмар!
Я начал искать способы обойти возникшее препятствие. Как получить высокий балл за практику без особого труда, словом, за красивые глаза? – Ну, конечно! Пройти ее в своей школе! Отправиться туда с улыбкой на губах, умело разыграть перед знакомым учительским коллективом возвращение в лоно семьи блудного сына и таким образом пробудить симпатию к собственной особе; а тех, которые преподают иностранный язык (наверняка посредственностей), ослепить красноречием, эрудицией, воспоминаниями и, влюбив их в себя, – получить желанный «зачет».
Я подал соответствующее заявление и в начале сентября, как и раньше в течение половины всей моей жизни (за исключением последних пяти лет), оказался в школе – в старых, знакомых мне стенах.
Отправляясь туда в первый раз, я чувствовал себя как герой романа Гомбровича, похищенный в зрелом возрасте профессором Пимкой и насильно обращенный в Незрелость. Это действительно казалось сном, точнее – кошмаром. Я, Дух Двадцатилетний, почти Магистр, Художник, Автор Опубликованной Книги, признанной критикой «блестящим дебютом», – вот я опять в школе! Пусть практикант, но все же ученик! Во всяком случае, существо своеобразно умельченное – преданное во власть стихии несерьезности и детства и под присмотр педагогических «стариков» в качестве их подопечного «молодого несмышленыша».
«Будут меня давить и тискать, – думал я в стиле Юзика, героя романа „Фердидурке“, – умельчат меня, опопят! Снова окажусь я ребенком подшитым. Снова буду сгорать от стыда» [262]262
Гомбрович В.Фердидурке. СПб., 2000 (пер. С. Макарцева).
[Закрыть].
Но действительность показала себя с намного лучшей стороны, чем я ожидал. Старые учителя приняли меня по-деловому, вежливо и благожелательно, без комментариев, которые могли бы меня смутить, и излишнего амикошонства; новые, особенно те, кто должен был оценить мои педагогические способности и поставить зачет – преподаватели французского языка, – оставляли впечатление людей неглупых и относились к моей стажировке как к чистой формальности. В свою очередь, молодежь – ученики, особенно старшеклассники, не отличались распущенностью или наглостью. Напротив, если им чего-то и не хватало, то именно так называемой искры – огня, фантазии, юмора. Они были даже чересчур послушными, правильными, погасшими, без полета. И, наконец, сама практика не требовала от меня особых усилий. Она в основном сводилась к посещению уроков и к конспектированию их содержания и хода занятий. Самостоятельно я вел едва лишь четыре урока – на четырех разных уровнях обучения – и то лишь в конце практики по прошествии целого месяца пассивного присутствия на занятиях других преподавателей и изучения их опыта и методики.
Я скорее скучал, чем отбивал попытки покуситься на мою недавно обретенную зрелость и достоинство «художника». И, наверное, именно это стало причиной, что я отступил во времени. Я, как пять лет назад, сидел за последней партой, слушал урок и обнаруживал в себе прежние мысли, мечты и, особенно, – желания. И даже не заметил, как ожила во мне Мадам – ее очарование и тайна, ее красота и сила, пробуждающая тоску неизвестно о чем.