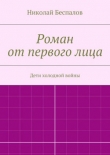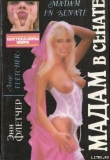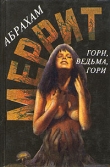Текст книги "Мадам"
Автор книги: Антоний Либера
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
– Вы оставили ваших жен, ваших женщин и детей, чтобы отправиться в нелегкую дорогу, полную предательских ям, преград, ловушек и ощетинившихся штыками границ. И вы пришли, и вы сказали: «Мы здесь. Испания не одинока».
Сила этих слов была воистину ошеломляющей. «Люси» произносила их так, что аудитория невольно забывала, кто это говорит, кому и зачем. Испанией становилась сама «Люси», а отважными бойцами – ее многочисленные поклонники, готовые бросить семью, любовниц и невест, чтобы припасть к ее ногам и избавить от одиночества.
– Меня очень взволновали письма, которые я недавно прочла, от ваших матерей и жен, от сестер и невест. Несмотря на то что вы оказались здесь, вдали от них, что вы рискуете своей жизнью и многие из вас, увы, пали на поле брани, они не жалеют об этом, не проклинают Испанию, напротив, они гордятся тем, что их сыновья и братья, мужья и женихи сражаются и умирают за свободу, что не поворачиваются спиной к истекающей кровью Испании, а стоят в первых рядах ее бойцов и даже в эти трудные дни служат ей своим оружием.
Приближался трагический финал.
Франко бросал в мясорубку войны последние резервы; немецкий легион «Кондор», подвергавший опустошительным бомбардировкам испанские города и села, нес огромные потери под ударами советской зенитной артиллерии; республиканцы и voluntaries internacionales с криком «venceremos» поднимались в очередные атаки; батальон Палафакса и центурия Парижской коммуны бесстрашно сопротивлялись варварским ордам захватчиков, а мудрое коммунистическое руководство крепко удерживало руль власти.
К сожалению, несмотря на одержанные победы и самоотверженную борьбу, Республика погибла. Пала Андалузия и крепость Алькасар, пали Арагон, Каталония и Мадрид.
На фоне «Герники» Пикассо, высвеченной на экране проектором, появлялся Первый докладчик и начинал эпилог:
– Когда под ударами превосходящих сил погибают в невыразимых муках окруженные защитники свободы, когда хор шакалов и гиен выкрикивает, подвывая агрессору, старый клич римской солдатни: «Горе побежденным!», мы, обращаясь к могилам мучеников за святое дело, которых у нас больше, чем в любой другой стране, отвечаем лозунгом Элизы Ожешко, рожденным на кладбище январского восстания: «Gloria victis!» – слава павшим.
После этих слов на сцену выходил Второй докладчик и смягчал воцарившееся трагическое настроение словами надежды и веры:
– Нет, нет и нет! И сто раз нет! Вас не смогли сломить! Наша вера несокрушима: победабудет за нами!
Последнее слово спектакля предоставлялось Каролю Броде:
– Атмосферу того времени литература может передать лучше самого скрупулезного исторического исследования. Однако необходимо терпение. Ведь Кшиштоф Седро ждал своего Жеромского. А уланов Надвисланского легиона отделяет от создания «Пепла», кто бы мог подумать, целое столетие!
«Экзотическое трио» начало напевать «Кукарачу», а участники в полном составе приступили к коллективной декламации другого известного стихотворения Владислава Броневского – «Честь и динамит»:
Так заканчивалось торжественное заседание. В своей категории оно могло считаться высшим достижением благодаря особенно крутому замесу трех самых неудобоваримых компонентов: коммунистической трескотни, пафоса и окостенелого языка. Более кошмарными были только многочасовые, ритуальные торжества по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Зато другая ноша, которую нам приходилось перетаскивать, – ну, хотя бы ежегодные мистерии, устраиваемые по случаю Месяца Народной памяти, Женского дня и, особенно, Первого мая, – по сравнению с продемонстрированной программой казалась просто детским утренником, почти водевилем.
Однако, как ни парадоксально, с этим спектаклем творилось нечто странное. Уже далекая история, втиснутая в прокрустово ложе «торжественного заседания по случаю», упорно сопротивлялась его убийственным манипуляциям и фактически единственная из событий и свершений, включенных коммунией в свою агиографию, не поддавалась осквернению и осмеянию.
Но причины этого следовало искать не в политике, а, скорее, в географии и даже, если подходить к проблеме еще шире: в культуре. Просто дело было в том, что эта историческая драма разыгрывалась… на Западе, к тому же затрагивала сферу языка, который часто звучал в американских вестернах, пользующихся в тот период необыкновенной популярностью. Разве то, что происходило в долине «Эбро», в «Барселоне», в «Мадриде»… в провинции «Каталония» или в «Гвадалахаре»… разве даже авантюры красных в «Бильбао», в «Гранаде» и в «Лас-Пальмас» могли вызывать неприятие? – И, наконец, гражданская война в Испании стала темой или историческим фоном многих «западных романов» таких известных авторов, как Хемингуэй, Сартр, Мальро, которые пользовались тогда, по крайней мере в нашей стране, чем-то большим, чем просто популярность, – их слепо любили и почитали почти как богов. Их книги, появившиеся у нас сравнительно недавно (в конце пятидесятых годов), считались какими-то «священными письменами» – ими зачитывались, искали в них истину и знания и охотно брали за образец поведение героев этих романов. В такой литературе находили отклик наивные тайные мечты о сильной, мужской жизни. Воплощением этой жизни, во всяком случае одним из воплощений, было участие в гражданской войне в Испании.
Программа торжественного заседания не учитывала, разумеется, подобного рода ассоциации. В создании мифа о сражающейся Испании использовались исключительно элементы и средства со складов и из арсеналов большевистской истории, агитации и искусства. Единственным элементом иного порядка и даже иного мировоззрения была музыка Родриго. Хотя я отлично понимал это и именно из таких соображений навязывал ее моему хитроумному противнику, мне и в голову не приходило, какую роль она сыграет во всем мероприятии. Даже на генеральной репетиции я и предположить не мог, какие будут последствия. Лишь во время выступления, да и то не сразу, я обо всем догадался.
Когда заседание началось и со стороны зрительного зала, до отказа заполненного молодежью, согнанной со всех классов, до меня докатилась волна враждебности, неприятия и насмешки, мной овладела неуверенность, – поймут ли вообще мою «диверсию»? Не примут ли меня за обычного лакея, который, чтобы отличиться, готов пойти на предательство и снести любой позор?
Гнетущая тревога нарастала и достигла апогея, когда вскоре после начала спектакля произошел инцидент в стиле выходок «черни» на воспитательных мероприятиях в местном Доме культуры. Когда один из трех Докладчиков, разъясняя, какие интересы преследовали в Испании буржуазные государства, начал нудно распространяться о существующих там месторождениях меди, ртути и серы и таких важных в стратегическом смысле запасах сырья, как свинец, вольфрам и пирит, кто-то из зала (возможно, Бысь) крикнул во все горло:
– Особенно сильно пирит в кустах пердит! – что на некоторое время вызвало неописуемое веселье (хохот, хриплые выкрики, рев восторга и завывания).
– Хамы и подонки! – с презрением бросил Таракан, сидевший в полумраке, рядом со мной, в правой кулисе.
– Я бы не стал судить их слишком сурово, – взял я под защиту аудиторию, перед которой сам дрожал от страха. – Мне кажется, что ваша оценка настроений школьной общественности в связи с отмечаемой годовщиной была не очень точной.
– Не надо слишком умничать, – огрызнулся Таракан. – Думай лучше о своих проблемах. Сейчас твой выход.
И вот я на ватных ногах вышел наконец на сцену и сел за фортепиано, а меня встретила тишина, пропитанная презрением и насмешкой. «Продался!», «Заглотил приманку!», «Выслуживается!» – мысленно слышал я невысказанные упреки.
Когда, однако, я извлек из инструмента первые звуки, когда из-под моих пальцев в зал поплыла печальная мелодия Хоакина Родриго, и особенно когда я в легком свинге впервые использовал джазовую гамму, добавив одну десятую в доминантном аккорде (роскошный, зажигательный диссонанс), аудитория заметно смягчилась и, кажется, готова была простить мне мою провинность. Наконец, после секвенции незавершенных мелодий, умышленно растянутой до пределов возможного, я увенчал ее тоникой и грандиозным глиссандо и мог вздохнуть спокойно. Аплодисменты и крики «браво», которые раздались после моего выступления, означали не только полное прошение, но и искреннюю благодарность, поддержку и одобрение.
Дальнейший ход мероприятия только подтвердил мои ощущения. Меня все громче приветствовали, когда я в очередной раз выходил на сцену, а после завершения моей партии раздался стон разочарования и требовательные крики: «Еще фламенко!»
Мне вспомнился финал Конкурса любительских театров – церемония раздачи наград в Доме культуры, где главенствовали «Кошачьи погонялы». Теперь по воле аудитории я стал тем же, кем они были тогда. Я стал той темной лошадкой, которая неожиданно для основных действующих лиц, артистов и героев этого мероприятия сыграла роль предательской пятой колонны. Добившись успеха у капризной «черни», я столкнул участников спектакля на обочину и на контрасте усилил неприязненное к ним отношение.
– Танцы! Давайте танцевать фанданго! – доносились до меня выкрики из разгорячившегося зрительного зала, пока я дожидался за кулисами своего последнего выхода.
Я взглянул на Таракана.
– Вот подлинный глас народный, – меланхолично констатировал я. – Вы не чувствуете масс. В процессе отчуждения вы зашли так далеко, что даже понятия не имеете об их жизненных потребностях.
– Ошибаетесь, товарищ, – он с иронией воспользовался той формулировкой, с помощью которой я пытался отделаться от него тогда в коридоре. – Все обстоит совершенно иначе. Если бы мы их не знали, если бы, как вы считаете, руководствовались только теорией, вас здесь бы не было, мы не пригласили бы вас в нашу программу. Я поступил так именно потому, что отлично знаю, какие необходимы условия, чтобы поставленные нами цели были достигнуты. Когда имеешь дело с настолько темным элементом, – он с презрением кивнул головой в сторону аудитории, – нужно принимать это во внимание и подбросить им немного мишуры, иначе до «черни» не достучаться. Условные инстинкты, Павлов… слышали, наверное. Теперь уже не то время, чтобы полагаться только на силу. Такой подход не оправдал себя. Намного эффективнее методика «морковки». Ты им немного подыграешь, они немного попрыгают. Пусть думают, что им позволено вволю разгуляться. Но что-то они запомнят, что-то останется в этих головах… тупых, безмозглых. Без твоего «фламенко» результат был бы слабее.
– Ты можешь сколько угодно обманывать самого себя, – высокомерно сказал я, хотя теперь уже не чувствовал себя настолько уверенно, как минуту назад: самодовольство и вера в собственное превосходство вдруг растаяли. – От этого ситуация не изменится.
– Не надейся, что ты выиграл эту партию, – холодно процедил Куглер. – В лучшем случае: ничья.
ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ?
(РАССКАЗ ПАНА КОНСТАНТЫ)
Когда призванная к ответу услужливая память извлекла из архива заказанный материал и я, спускаясь по лестнице с примолкнувшим паном Константы, поспешно внутренним взором просматривал предоставленную документацию и, особенно, те воспоминания о событиях полугодичной давности, я сразу обратил внимание, что никак не могу решить, присутствовала ли на торжественном заседании Мадам или нет, – и это меня сильно удивило.
На такого рода мероприятиях большинство преподавателей сидели в первом ряду, а она, будто королева, всегда занимала место в центре. Когда я выходил на сцену и, особенно, на поклоны, я не мог ее не заметить. А если бы заметил, то не мог бы этого не запомнить. Тем более что других я отлично помнил. Например, Солитера, как он нехотя мне аплодирует или отворачивается от сцены, чтобы испепелить взглядом энтузиастов «фламенко», которые слишком шумно требуют исполнения «на бис». Или сидящих рядом Евнуха и Змею, как они постоянно обмениваются шепотом какими-то замечаниями с выражением недовольства и осуждения. Но Мадам не оставила никакого следа в памяти. Хотя бы туманный образ, хотя бы фрагмент образа: выражение лица, поза, жест, деталь одежды.
Я так упорно вглядывался в негативы этих сцен, что постепенно на них обозначился образ пустого стула. Я все отчетливее видел, что в середине первого ряда, как раз рядом с Солитером, одно место осталось пустым; одновременно и поведение нашего завуча – его резкие повороты к залу и взгляды из-за плеча – обрело иной смысл – это не было лишь попыткой призвать наглецов к порядку; он кого-то ждал, кого-то высматривал и нервничал. Меня не оставляло ощущение, что ее там тогда не было, и это его сильно беспокоило.
Теперь, с учетом того, что я уже услышал и что еще мог услышать, восстановленная в памяти деталь того события – пустой стул Мадам и ее отсутствие на спектакле – приобрела для меня исключительное значение.
Однако у меня не было времени, чтобы и дальше размышлять об этом и строить предположения, потому что мы уже вышли на улицу и пан Константы начал свой рассказ:
– Я не знаю, что тебе известно о гражданской войне в Испании, и предпочитаю об этом не знать. То, чему тебя учат в школе, если вообще учат, наверняка почерпнуто из сточной ямы лжи, а к литературе, честнойлитературе, у тебя, вероятнее всего, нет доступа, потому что она запрещена.Впрочем, ее не так уж много. Пожалуй, ни одно событие новейшей мировой истории настолько не искажено и не оболгано, как именно эта трагедия, и не только у нас, но и на Западе, в демократических странах.
Но я не собираюсь читать тебе лекцию. Расскажу лишь историю Максимилиана, а выводы сам сделаешь. Но повторяю еще раз: все, что я тебе сейчас скажу, ты должен сохранить в тайне и ни с кем, ни при каких обстоятельствах об этом не говорить. Даже с родителями, а уж со школьными товарищами, тем более на уроках, упаси Господи! Беду на себя накличешь! А за тебя и мне не поздоровится. Ну, обещаешь?
– Да.
– Слово?
– Слово чести.
– Хорошо, тогда я начинаю.
Гражданская война в Испании началась в тридцать шестом году, семнадцатого июля… Это было странное время. Злое. Заразное. Больное. Прежний мировой порядок заканчивался. Инфекция, которая зародилась лет двадцать назад, переходила из первоначального инкубационного периода в агрессивную зрелую фазу. Армия вирусов поднялась в атаку. Ширилась смертельная лихорадка, открывшая дорогу безумию и злодейству.
В Советах – террор и чистки, сфальсифицированные процессы, массовые ссылки в Сибирь, голод, подневольный труд, но прежде всего метастазы… злостная контрабанда «красной заразы» повсюду, где только возможно, и шайка бесов-агентов, выпущенная в мир, чтобы сеять заразу, закладывать мины и готовить фитили на момент взрыва «мировой революции».
В это же время в другой стране, где дьявол любит погостить, именовавшей себя тогда Drittes Reich [111]111
Третий рейх (нем.).
[Закрыть], другая свора ведьм слетелась на свой шабаш. Среди гигантских зданий, на гигантских площадях толпы, доведенные до экстаза, готовились к войне. Факельные шествия, рев мегафонов и массовая экзальтация. Lebenstraum [112]112
Жизненное пространство (нем.).
[Закрыть]для германцев – Herrenvolk [113]113
Народа господ (нем.).
[Закрыть]! Третий рейх Великой Германии станет Тысячелетним! Weg mit den Juden und Slawen! [114]114
Покончим с евреями и славянами! (нем.)
[Закрыть]Мир должен принадлежать нам!
И везде пурпур знамен… как предвестие крови. Там – желтый серп и молот, здесь – черные крючья свастики.
А что же тем временем остальной мир? Безразличие и безмятежность. Сомнамбулизм. Балы и карнавалы. Веселье и джаз. Знать ничего не желаем и слышать ни о чем не хотим! Только восторгаться психологическим театром и молиться на храм авангардного искусства. В этом было что-то от самозаклания, от какой-то готовности к смерти. Сегодня, когда по прошествии лет мысленно возвращаюсь к тому времени, я понимаю, насколько сам был всем этим одурманен. Альпинизм, походы в горы, восхождения на вершины, предвкушение опасности, риск до дрожи в коленях, крыша Европы, Монблан – а в сущности, лишь бегство от действительности. Разряженный воздух. Солнце, лазурь и простор.
Этим же заразился и Макс, но намного сильней. Жизнь в непрестанном движении, игра в пунктуальность и, наконец, странная идея родить ребенка на вершине Альп… Фанаберия эпохи! Экстравагантность, бравада, немного невинной мистики. В благородном стиле, конечно, но от больного дерева. Называвшегося декадансом и сгнившего изнутри.
Но в этом Holder Wahnsinn [115]115
Сладкое безумие (нем.).
[Закрыть]случались иные реакции и иной тип поведения. Пробуждался импульс протеста: восставал homme revolté [116]116
Бунтующий человек (фр.).
[Закрыть], который, сразу осознав приближение катастрофы, призывал к действию, хотя бы наперекор всему.
Ты читал «Победу» Конрада? Там это описано. И описано великолепно! Герой романа, швед по происхождению, Гейст, человек, глубоко разочаровавшийся в мире, испытывающий к нему презрение и отвращение. Мир для него – ничтожная суета или погружение в ад, а люди – саранча, пожирающая друг друга или гонимая ветром. Шопенгауэр. Мизантроп. Единственным выходом для себя он считает отказ от игры в жизнь. Бегство от жизни. Поэтому решает поселиться на «краю света», на почти безлюдном острове, где-то в архипелаге современной Индонезии. Но когда он уже отправляется туда и ждет в далеком портовом городе попутного судна на свой остров, он становится свидетелем некой сцены, которая его крайне возмущает. Какую-то несчастную девушку из оркестрика, играющего для развлечения гостей, жестоко оскорбляет грубая хозяйка гостиницы. Пустяк, казалось бы. Он и не такое повидал. Однако в этом случае Гейст не смог оставаться равнодушным. Удивляясь самому себе, он предлагает девушке помощь.
«Я не настолько богат, чтобы выкупить вас, – робко обращается он к ней со знаменательными словами, – но всегда готов вас выкрасть».
Что произошло дальше, уже другая история. Можешь прочитать, если не знаешь. Мне здесь интересна его внезапная реакция, первый импульс. То, что иногда заставляет нас встать и уйти или совершить такой поступок, за который, возможно, придется заплатить самую дорогую цену.
Мне думается, что похожий рефлекс сработал тогда и у Макса. Но что стало его причиной? Какое особое злодеяние, совершенное тогда в Испании? Бомбардировка Герники? Массовые расстрелы? Нет. Нечто иное. Более нам близкое. То, что происходило в стране.
В Польше на войну в Испании реагировали по-разному. Правительство – заторможенно и неохотно, тайком сочувствуя Франко. Позиция не самая благородная, однако нельзя забывать, кто стоял на наших границах к западу от Познани. Я лишь хочу отметить, что мы по сравнению с другими европейскими джентльменами, которые, хотя им грозила несравненно меньшая опасность, тоже не высовывались и ради собственного спокойствия готовы были оказать любую услугу озверевшим бандитам, выглядели ненамного хуже. В школе тебя наверняка учат, что в деле оказания помощи и поддержки Испанской республики в первых рядах шли коммунисты… Это правда, но неоднозначная. Во-первых, чем была Польская Коммунистическая партия? Во имя чего выступала? И, во-вторых, кому в действительности она так спешила помочь? Республиканцам? Кортесам? Или же «якобинцам» и авантюристам из крайне левых партий, полностью контролируемых сталинской агентурой?
Необходимо полностью отдавать себе отчет, что Коммунистическая партия представляла в Польше советскую агентуру и руководствовалась только приказами товарищей из «центра» и постановлениями Коминтерна. То есть интересами коммунистической России. Следуя порочной, безумной идее быть на службе у величайшего преступника всех времен и народов, который исподволь готовил нападение на Европу, Польская Коммунистическая партия отправила тысячи людей в изгнание и на смерть…
Но вернемся к нашему делу.
Макс по сути своей был человеком аполитичным. Он жил в мире иных понятий. Будто и с гор не спускался. Если бы все-таки мне пришлось определить его социальную ориентацию, я бы, пожалуй, назвал его либералом с легким левым уклоном. Он переживал, когда видел нищету, несправедливость, ложь. Но в то же время он старался держаться как можно дальше от всякого радикализма, особенно от коммунии в ленинской трактовке. Он боялся Советской России, терпеть не мог большевиков и иногда называл их «азиатской заразой». Однако когда наше правительство выступило с предложением лишить людей, сражающихся в Испании, гражданства, чтобы они уже не могли вернуться назад, он воспринял это со злостью и возмущением.
«Так нельзя, – с раздражением заявил он. – Раньше или позже, но это всех коснется. Сегодня они, завтра другие. Опасный прецедент. Удар ниже пояса. Нужно с этим как-то бороться».
Он меня сильно удивил. Что, впрочем, бывало не раз. Откуда у него такая резкая реакция на эту проблему? Почему он вдруг так близко к сердцу принял судьбу людей чуждой и даже ненавистной ему формации?
«С каких пор ты стал переживать за судьбу этих „азиатских бацилл“? – спросил я его тогда. – Ведь ты отлично знаешь, кто они такие и кому служат».
«Это еще не повод, чтобы отказывать им в возвращении на родину! Большинство из них было просто обмануто. А что такое стихийное волеизъявление, ты и сам знаешь, – обычная вербовка. Давление на людей, у которых нет выбора. Ведь здесь они все равно не могли выбиться из нужды и оставались изгоями общества».
«Кого ты хочешь растрогать этой сказочкой? – я уже не скрывал раздражения. – Если меня, то зря стараешься. Да и в любом случае, что здесь можно поделать?»
«Немного, тут я согласен с тобой… Но всегда можно, к примеру, поехать туда… посмотреть».
«Зачем?!» – я аж вскочил.
«Ну, знаешь ли, – спокойно ответил он, – чтобы на месте сориентироваться, что там на самом деле происходит, и чтобы… не признавать себя побежденным».
Я понял, что дальнейшая дискуссия лишена всякого смысла. Он уже принял окончательное решение и лишь хотел меня предупредить.
«А как же с ребенком и с Кларой?»
«О них и речь! – тут же подхватил он, будто встретился со мной в основном из-за этой проблемы. – Я хотел тебя кое о чем попросить. Чтобы ты поддерживал с ней отношения и, в случае чего, помог ей…»
«В случае чего!»– перебил я его.
«Ну, знаешь ли, – он развел руками, – всякое может случиться».
Я спросил, обсуждал ли он свой план с Кларой. Он ответил утвердительно и заявил, что между ними, как всегда, полное согласие.
Что я мог на это сказать? Только обещать свою помощь.
Я хорошо знал его, поэтому был уверен, что он обдумал свой план до мельчайших деталей и для его осуществления воспользуется своими связями за рубежом, особенно во Франции. Однако в подробности я не вникал.
Впрочем, мои предположения вскоре подтвердились. До Испании он добрался через Пиренеи. Первые несколько месяцев он давал о себе знать довольно часто и регулярно. Очевидно, у него сохранились постоянные связи с какой-то базой во Франции, потому что письма шли из департамента Гард. Но где-то в конце мая тридцать восьмого года он замолчал и больше не подавал о себе вестей. Никто из тех людей, с которыми он встречался в Испании, не мог сказать, что с ним вдруг случилось. Или он просто погиб, или попал в плен.
Она переносила свалившееся на нее несчастье с необыкновенным достоинством. Ее спокойствие, самообладание и непоколебимая вера, что он жив и вернется, просто поражали. Тогда я по-настоящему понял, каким она была человеком…
Внезапно наступила тишина, в которой слышались лишь шаги моего cicerone (его коричневые полуботинки были подбиты кожей, а не резиной, как мои). Мы шли по темной улице, по сырому тротуару, покрытому опавшими листьями клена. Он, слегка наклонившись, заложив руки за спину, а я – рядом, справа от него, глубоко засунув руки в карманы куртки. Изредка я краем глаза поглядывал на него. Он опустил глаза и смотрел прямо перед собой на тротуар, как-то странно шевеля губами. Я припомнил, что он уже не в первый раз прерывает свои воспоминания и странно себя ведет, когда на первый план выступает образ матери Мадам.
– Пан Константы, вы употребили прошедшее время, – прервал я наконец затянувшееся молчание. – Вы сказали: «былачеловеком». Значит, она умерла?
– Конечно, умерла, – ответил он с некоторым раздражением.
– Когда? – не выдержал я.
– Минуточку! Все по порядку! – одернул он меня и добавил: – Я вот думаю, о чем сначала рассказать: о том, что происходило в Испании и что тогда случилось с Максом (но об этом я узнал через много лет), или о том, как все выглядело с моей точки зрения.
– Если вы позволите дать мне совет, – тихо отозвался я, – то лучше бы вы рассказали о своих впечатлениях.
– Нет, – сказал он после минутного раздумья. – Лучше я расскажу о том, что происходило тогда в Испании. Только помни: никому ни слова!
Макс перешел Пиренеи в декабре тридцать седьмого года. Сначала он оказался в Лериде, потом под Сарагосой и, наконец, в Мадриде. Он входил в состав нескольких отрядов, в основном французских. Организовывал транспортные перевозки, даже принимал участие в боевых действиях. Постепенно он знакомился с этой страной и с ее недавним прошлым, то есть с историей гражданской войны. Скоро Макс понял, что война ведется не на один фронт, а на два: против Республики воюет не только Франко и его пособники, но и… Иосиф Сталин, использующий намного более эффективные и в то же время коварные методы.
Победа левых сил в Испании в тридцать шестом году была для Советов, с одной стороны, успехом, а с другой, предостережением. Они там уже давно мутили воду, как, впрочем, и везде в мире. Однако не надеялись, что именно в этой стране – аграрной и католической – удастся их эксперимент. Но уж если он удался, то необходимо было немедленно взять его под свой контроль. «Революция», во-первых, должна происходить согласно теории и, что еще важнее, подконтрольно большевистской России. Запомни, главным врагом всей этой кремлевской банды – Ленина, Троцкого, Сталина – являлись не какие-то там «правые», «империалисты» или «фашисты», а всегда и неизменно… демократическая система, особенно левые партии, реальные, истинно левые партии, то есть такая организация, которая легальными методами – политическими средствами – боролась за интересы и права трудового народа. Да-да, именно такие левые партии вызывали самую жгучую ненависть! Потому что они претендовали на их место, препятствовали осуществлению их преступных планов.
Вот почему, когда в Испании победу одержал Народный фронт, но это не принесло ожидаемых результатов, красные бесы сразу принялись подливать масла в огонь. Началась дьявольская мистерия поджогов, анархии и разбоя. Политические убийства, провокации, избиения, бесконечные забастовки. Раскрутить спираль насилия, раздуть пожар анархии, чтобы в определенный момент, когда массовое безумие достигнет апогея, схватить всех за горло и поставить на колени. И с этого момента уже властвовать – безраздельно и жестоко.
И, наверное, они достигли бы своей цели, если бы не другой дьявол, восставший тогда и тоже мечтавший покорить весь мир. Сообразив, что лакомый кусок Европы вот-вот станет добычей соперника, он поспешил на бойню, чтобы не упустить свое.
Так началась война в Испании. И такова ее истинная подоплека. Если бы не козни коммунистов, если бы не Коминтерн, если бы не выпустили сброд на улицы, до нее никогда бы не дошло.
Ну, а уж коли она началась, думаешь, Советы не смогли ею воспользоваться? Наоборот, она им как с неба упала! Думаешь, в это время они всерьез рассчитывали начать мировую революцию? Чтобы «проклятьем заклейменный» начал восставать в массовом порядке и свергать «тиранов»? Да ничего подобного! Конечно, мировая революция была их целью, но при одном условии: с начала и до конца она должна происходить под их контролем. Вновь образованные государства должны полностью зависеть от московского центра, как колонии СССР. Все другие варианты «освобождения народов от оков эксплуатации, рабства и нищеты» считались недопустимыми. Потому что могло вдруг оказаться, что Россия не лучшая в строительстве «лучших из миров», хотя, конечно, она всех опережает, но – в угнетении и одурманивании людей!
Тогда захватить Испанию под предлогом мятежа? Для этого они были слишком слабы. Но, раздув пламя пожарища, позволить ему непредсказуемым образом распространяться? Все, что угодно, только не это! Придется принести Испанию в жертву, прирезать ее, как козла отпущения, но сначала содрать с нее шкуру, выжать все, что удастся.
Именно поэтому и франкистский мятеж им как с неба свалился. Впрочем, они сами сделали все возможное, чтобы его спровоцировать. А когда началась война и в нее вмешались Муссолини и Гитлер, оставалось только ловко маневрировать, чтобы она продолжалась как можно дольше. Ведь такая война была для России на вес золота… И, как ты скоро убедишься, не только в переносном смысле. Во-первых, нежелательного ребенка убивали «Ироды», а не мать родная – «Родина пролетариата». Во-вторых, устроенная чужими руками бойня оказалась в целях пропаганды чрезвычайно вы годным делом: всегда можно сделать вид, что помогаешь жертве, а в действительности лишь затягивать кровавую, мучительную агонию. И, наконец, этот дьявольский карнавал приносил неплохие деньги. Знаешь, сколько Сталин вытянул за это время из Испании? Шестьсот миллионов долларов! Золотом! Не какими-то бумажками.
Ты думаешь, он им даром помогал? Посылал танки и бомбы во имя благородных идей солидарности масс? Его золото интересовало. Даром, во всяком случае не на советские деньги, в Испанию посылали людей, да и то не своих. Из России туда ехали только агенты НКВД, провокаторы и военные советники. Зато «живую силу», пушечное мясо, набирали за рубежом, везде, где действовала сталинская агентура, – в Австрии, во Франции, в Италии, в Чехии и на Балканах. В Польше таким вербовочным пунктом стала Польская Коммунистическая партия.
Гениальный план! Довести страну до войны, как можно дольше затягивать бойню, чтобы извлечь из нее максимальную выгоду, а потом, когда казна опустеет и в сундуках покажется дно, ускорить трагический финал: желательное во всех отношениях падение Республики.
Когда кто-нибудь умирает в страшных мучениях, как ему помочь? Есть несколько старинных способов. Русские мастера в этом деле. Но Советы довели уже знакомую методику до невиданного совершенства. Атаке подвергается разум, что приводит к безумию. Именно такой была операция «по смыканию рядов левых сил». На протяжении не слишком затянувшегося периода в стане республиканцев все передрались, один другому готов был перегрызть глотку, воцарился террор и ужас, сгустилась атмосфера подозрений, доносов, интриг и провокаций. В то время как на фронте, в окопах, ситуация становилась все более угрожающей, в руководстве, на вершине власти, продолжалось взаимоистребление. Франко оставалось только спокойно сидеть и ждать. И действительно, где-то в декабре тридцать седьмого года республиканцы настолько обезумели и ослабли от чисток, что едва держались на ногах. Франко, получив известие, что Сталин окончательно бросил Республику на произвол судьбы (все золото он уже вывез), начал решительное наступление – «каталонское». В январе тридцать девятого года пала Барселона, а в конце марта – Мадрид.