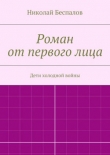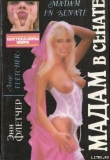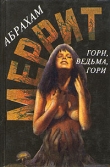Текст книги "Мадам"
Автор книги: Антоний Либера
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
NO PASARAN!
Хотя у меня не было причин опасаться, что однажды открывшийся сезам вдруг опять закроется (данное мною слово и предпринятые вслед за этим таинственные меры предосторожности обеспечивали, казалось, надежную гарантию), осмотрительность не позволяла мне почивать на лаврах, побуждая к готовности на борьбу и к мобилизации полученных знаний, которые могли бы послужить мне опорой или волшебным заклинанием.
Гражданская война в Испании… Что я о ней слышал? Что знал? Как она преподносилась нашей пропагандой?
В школе основное внимание уделялось отечественной истории, а экскурсы в историю других народов случались крайне редко. Обычно только тогда, когда какой-нибудь эпизод влиял на судьбы Польши. Наполеоновские войны, Австро-Венгерская монархия, свержение самодержавия в России – вот важнейшие темы всеобщей истории, включенные в школьную программу. Ну, может быть, еще Французская революция и Парижская коммуна.
Что касается новейшей истории, то картина мира была полностью отгорожена образами русской революции и гитлеровского фашизма. Именно они, как два средоточия чудовищной силы, позволяли осмыслить то, что происходило с человечеством.
Русская революция считалась «историческим переломом». Преобразив, как по мановению волшебной палочки, русский народ, мгновенно превратив его из отсталого в самого прогрессивного, она несла зарю свободы другим народам мира. Именно благодаря этой революции угнетенные народы подняли голову и начали борьбу за свои права, а Польша обрела государственность и независимость, которые утратила, во многом заслуженно, из-за «властолюбия магнатов» и «своеволия шляхты», то есть из-за реакционных по природе своей «эксплуататорских классов».
Но, как всегда бывает в этом лучшем из миров, против света добра всегда поднимаются силы зла. И огонь Прометея, с таким трудом вознесенный над миром «великим русским народом», незамедлительно стал объектом бешеной атаки со стороны враждебных человечеству сил. К несчастью, и наше государство оказалось в их числе, сыграв в этой исторической драме поистине позорную роль. «Польские паны, буржуи, националисты и контрреволюционеры под предводительством И. Пилсудского, буржуя, националиста и контрреволюционера» вместо благодарности Советской республике за свержение царя развязали против нее войну, которую постыдно выиграли (на беду всему миру – и собственному народу, и другим народам Земли).
Однако самое опасное зло грозило с Запада, особенно из Германии. Подлый империализм перешел там в стадию фашизма, вознамерившегося ввергнуть обратно в рабство весь мир («повернуть колесо истории»). Свобода, благосостояние и счастье на Родине Пролетариата оказались таким бельмом на глазу Реакции, что она развязала войну. Однако «Великая Страна Советов» победила зло. Для начала она заняла половину Польши и спасла по крайней мере часть ее от вероломного нападения варваров, а позднее, когда агрессор осмелился пойти дальше, обратила его вспять и, загнав в собственную берлогу, уничтожила.
С этого времени мир разделился на две части: освобожденную, благодаря системе народной демократии, где отстаивали мир, свободу и справедливость; и угнетенную, задыхающуюся в тисках эксплуататорской системы, где царила нужда и вынашивались планы новых войн. Нам посчастливилось жить в первой зоне.
В таком контексте гражданская война в Испании стала одним из эпизодов этой непримиримой борьбы между силами прогресса и реакции. Новейшую историю Испании нам преподносили следующим образом.
В результате пролетарской революции в России прогнившая социальная система в отсталой Испании начала колебаться в самих своих основах. Монарх, Альфонс Тринадцатый (заслуженно получивший такое двусмысленное имя), предвидя победу левых сил, «бежал из страны, как крыса», и в тридцать первом году в Испании установилось республиканское правление. К сожалению, вместо того чтобы сразу, как учил Ленин, перейти к высшей форме социального устройства, то есть к коммунизму, республиканские власти ограничивались полумерами, за что вскоре и поплатились. «Гидра кровожадной реакции подняла свою гнусную голову», и в тридцать третьем году революционные завоевания были утрачены. В ответ рабочие и крестьяне объединились в едином Народном фронте и в тридцать шестом году лишили правых власти. Но вместо того, чтобы немедленно добить «подлого кровопийцу», они пощадили его, что опять привело к роковым последствиям. Отпущенная на свободу «гадина» подняла мятеж и «с бешеной злобой вцепилась в горло юной Республике». Самые свирепые мировые хищники – итальянские и немецкие фашисты – только этого и ждали. «Почуяв кровь и наживу», они поспешили на помощь безумному Caudillo и через три года ожесточенной борьбы загрызли демократию. С тех пор Испания «томилась в оковах режима Франко».
Эту картину дополняла так называемая «польская карта».
В первой половине тридцатых годов в нашей стране правила профашистская Санация, которая почти открыто поддерживала мятежников, чем навлекла на нас несмываемый стыд и позор. К счастью, под этим жестким грязным панцирем полыхал внутренний огонь, воплотившийся в то время в радикально настроенных левых товарищах, то есть в Польской Коммунистической партии. Именно эта организация, предтеча и первый росток социалистической Польши, спасла нашу честь, сразу выступив на стороне прогрессивных сил и оказав республиканской Испании военную помощь. На поля сражений поспешили в Испанию добровольцы – «лучшие сыны нашей Родины», которые под лозунгом «За вашу и нашу свободу» формировали там мобильные отряды имени Домбровского. Им пришлось за это заплатить исключительно высокую цену. Санация, вместо того чтобы гордиться ими, сначала оклеветала их, а потом лишила польского гражданства.
Эта тема, «польская карта», не входила в обязательную школьную программу и рассматривалась как дополнительный материал. Что же касается меня, то я вообще не слишком интересовался такими темами, хотя знал о гражданской войне в Испании немного больше, чем рекомендовалось программой. Этому помог один случай.
Дело было недавно, каких-нибудь Полгода назад, вскоре после завершения Конкурса любительских театров, когда я, разочаровавшись в общественной работе, устранился от любого рода деятельности.
Однажды на перемене я стоял в одиночестве у окна в коридоре на верхнем этаже, тоскливо уставившись в серый прямоугольник спортивной площадки. Неожиданно ко мне подошел Таракан, секретарь школьного Союза социалистической молодежи, прозванный так за маленький рост и уродливость, – Якуб Болеслав Куглер. Он учился в параллельном классе, десятом «Д» (с немецким языком), но был старше меня почти на два года: учиться начал поздно, а потом из-за частых пропусков занятий оставался на второй год.
Хотя с десятым «Д» у меня не было близких отношений, а с Союзом молодежи вообще никаких, Куглера я знал, и довольно хорошо, – по шахматным турнирам, в которых он тоже принимал участие. Мне он не нравился. Наглый, злобный, он ко всем относился свысока. К тому же его внешность! Карлик с огромной головой и глазами василиска; на его узких губах всегда змеилась презрительная улыбка. Однако при этом он отличался незаурядным умом и довольно хорошо играл в шахматы. Только поэтому я его терпел, даже питал к нему нечто похожее на слабость. Он в определенной степени интриговал меня, служил своеобразным раздражителем. Я не мог у него выиграть. Но и он не мог. Мы разыгрывали затяжные, ожесточенные сражения, но конечный результат всегда оказывался ничейным. Один из наших поединков был особенно показателен в смысле правильного понимания наших отношений.
Мы участвовали в клубном турнире по так называемой «молниеносной игре». Суть ее заключается в том, чтобы играть в необычайно высоком темпе; на всю партию отводится, ну, скажем, десять минут (по пять каждому игроку); выигрывает тот, кто за отведенные минуты одержит победу или не проиграет до того момента, как его противник просрочит свое время. Кроме того, по условиям молниеносной игры не надо говорить «шах королю» и можно взять его, если противник, не заметив атаки на короля, не защитит его.
После длительного и изнурительного для нервной системы отборочного цикла до финала турнира дошли двое: он и я. Мы сели за столик и в окружении толпы других шахматистов, среди которых был и наш тренер, в полной тишине начали игру. Я сделал детскую ошибку и потерял фигуру. Таракан, предвкушая победу, ускорил темп игры, предложив быстрый размен фигур. Вскоре на доске остались только короли и четыре черные пешки. У меня не было никаких шансов. Чтобы дойти до последней горизонтали, где пешка превращается в ферзя, противнику необходимо было не более десяти – пятнадцати секунд, а чтобы потом дать мне мат, – еще полминуты. Времени ему хватало. Я метался в безнадежных попытках найти выход. Внезапно, как в трагедии Шекспира, в голове забрезжила спасительная мысль. Вместо того чтобы уходить королем в центр доски (где ставить мат намного дольше), я погнал его прямо на вражеского монарха, и, когда мой противник дошел пешкой до предпоследней горизонтали, я поставил своего короля непосредственно рядом с его королем – как бы лицом к лицу. Таракан, сосредоточившись на проходной пешке, не обратил на это внимания и занял последнюю горизонталь, получив ферзя. Тогда я спокойно забрал у него королем короля.
– Это неправильный ход! – запротестовал Куглер.
– Нужно было вспомнить об этом, когда я сделал предыдущий ход, – подчеркнуто вежливо сказал я. – Или просто сбить моего короля. Сделав такой ход, я знал, на какой риск иду.
– А что судья скажет?
Тренер с минуту помолчал с озабоченным видом, а потом заявил официальным тоном:
– Несовершенство регламента. Ничего не поделаешь. Объявляю ничью.
Куглер, пожав плечами, встал из-за стола, давая понять, что принятое решение его не задело. Однако гримаса на его физиономии говорила об обратном.
Нечто подобное происходило и со мной, только я маскировал совсем иные эмоции. Внешне я тоже изображал уверенного в себе игрока; но в глубине души понимал, что мне просто повезло, и боялся Таракана, как князя Дракулу.
Такой расклад сил на шахматной арене определял наши отношения и в жизни. Мы испытывали неприязнь друг к другу, держались на дистанции, но уважения к противнику не теряли. Во время редких встреч наши беседы искрились иронией и язвительными замечаниями, но это была только игра, а не настоящая война. Он провоцировал меня, намеренно утрируя (чуть ли не в карикатурной форме) некоторые особенности речи и аргументации, свойственные партийным деятелям сталинской закалки; я отвечал ему иронией и лицемерным смирением. Никто из нас не говорил серьезно, и ни один не верил другому.
Такой же характер носил наш разговор в коридоре, у окна, на втором этаже.
– И о чем же так задумался, томясь в одиночестве у окна, наш благородный идеалист? – он оперся рукой о стену. – Если я не ошибаюсь, замыслил какой-нибудь новый theatrum… – он язвительно улыбнулся.
– Вы ошибаетесь, товарищ, – устало отвечал я. – Мы ищем здесь только покоя, но не докучливых встреч. Как видно, усилия наши тщетны.
Он пять раз прищелкнул языком с притворным сочувствием.
– Оторванность от жизни порождает бредовые состояния, – печальным голосом констатировал он. – А это одно беспокойство. Лучше сойти с кривой дорожки.
– У меня нет сил, – тихо и смиренно отозвался я. – Процесс зашел слишком далеко.
– Мы могли бы вам помочь, – с готовностью предложил он.
– Благодарю вас, но не стоит тратить на меня ваше драгоценное время. Случай безнадежный.
– Что за пораженческие настроения!.. – утешал он меня.
– Всегда стоит попробовать.
– Пробовали, и не раз. Увы, бесполезно.
– Я обращаюсь к вам с конкретным предложением, а не с общими словами.
– Не сомневаюсь, – уверил я его. – Я был бы крайне удивлен, если бы дело обстояло иначе.
Совершенно не обидевшись на мой враждебный тон, Куглер начал объяснять, что ему от меня нужно:
– Среди бесчисленных талантов, которыми одарил вас Бог… – с той же иронией произнес он.
– Бог?! – тут же прервал я его. – И не стыдно так святотатственно издеваться над законами природы, над наукой и истиной? Но, может быть, изобрели что-нибудь новенькое и поступили свежие директивы?
– Насмешка не попала в цель, – снисходительно поморщился он и добавил назидательно: – Это всего лишь риторический прием. Вам не по нутру слово «Бог», тем лучше, пусть будет «природа». Мы можем быть гибкими…
– Да, как милицейская дубинка.
– Посредственно, – с кислой физиономией отметил он.
– Вы способны на большее.
– К сожалению, это мой уровень. Не советую рассчитывать на большее.
– Ложная скромность! – Он с лукавой улыбкой поднял руку. – Так на чем я остановился?
– На Боге или… на природе.
– Вот именно! – он прикрыл глаза. – Итак, насколько я знаю, вы за свою жизнь овладели многочисленными искусствами, в частности умением перебирать пальцами по клавишам.
– Наверное, произошла ошибка, – сделал я удивленное лицо. – Я только и умею что играть.
– Это и так называется, – в знак согласия он кивнул головой. – Мы заинтересованы в том, чтобы ваши таланты не пропадали втуне, а могли развиваться, что принесло бы вам соответствующее удовлетворение.
– Я не гонюсь за популярностью.
– Конечно, мы это заметили, – согласился он с каменным лицом. – Об этом свидетельствует хотя бы ваше пристрастие к эстраде: выступления перед толпой, работа в кабаре…
– Кабаре с Эсхилом лавров не приносит, – парировал я в элегическом стиле. – Я нес общественную нагрузку по популяризации культуры. С моей стороны это было самоотверженное служение, не более того.
– Ну, что же, тем лучше. Тогда мотивы нашей деятельности совпадают. Мы тоже работаем исключительно для блага коллектива. Сейчас школьная общественность в связи с тридцатой годовщиной начала гражданской войны в Испании, войны, в историю которой поляки, а точнее, Польская Коммунистическая партия вписали славную страницу, требует от нас, чтобы эта дата была достойно отмечена соответствующим мероприятием.
– Простите, кто требует?
– Я что, недостаточно ясно выражаюсь? Повторяю: школьная общественность.
– Но как понять, чего она хочет?
– Во-первых, по настроениям, – он заговорил по-деловому, как опытный врач. (Роль ярого доктринера его безумно забавляла.) – Кто что говорит, какие высказываются мнения… – многозначительно добавил он и продолжал: – Во-вторых, по четко сформулированным рекомендациям, которые направляет нам общественность через своих представителей.
– Через кого, например?
– Хотя бы через совет активистов нашей организации.
– Совет активистов, – вздохнул я. – Любопытно. Я понятия не имел о его существовании.
– Теперь будете иметь.
– Ну, хорошо. О чем речь? – я резко изменил тон и заговорил жестко и раздраженно. – Что у меня с этим общего?
– Спешу объяснить, – послушно откликнулся Куглер. – Речь идет о музыкальном оформлении. Нужно, чтобы вы сыграли, – сказал он, акцентируя глагол. – Чтобы употребили ваши таланты во благо общества.
«Так вот что их волнует!» – я печально улыбнулся.
– Что же мне сыграть?
– Ах, да ничего особенного! С вашей виртуозностью это детские забавы.
– Но все-таки?
– Несколько испанских мелодий… Песни тех лет.
– К сожалению, в моем репертуаре их нет, – я встал в позу модного маэстро.
– Мы дадим вам ноты, – поспешил он с уговорами.
Мне стало понятно, что я ему действительно нужен, и захотелось проверить, какова цена его предложения.
– Ноты здесь ни при чем, – закапризничал я. – Музыку такого рода я вообще не играю. Только джаз или… классику.
– Ну-ну, не нужно слишком важничать! Что вам стоит сыграть несколько испанских песенок!
– Допустим, большого труда не составит, – бросил я небрежно. – Однако принципы не позволяют мне пойти на это. Люди принципов, люди слова, такие, как вы, должны меня понять. Но я готов дать вам совет.
– Ну? – недоверчиво процедил он.
– Привлеките к сотрудничеству наше «Экзотическое трио». С его специализацией… кубинские народные песни… оно просто находка для вашей программы.
– Мы это уже сделали, – откликнулся он без энтузиазма и добавил покровительственным тоном: – Репетируют.
– Тогда в чем дело? Музыкальное сопровождение вам обеспечено.
– Если бы это было так, то и наш разговор бы не состоялся.
Внезапно у меня родилась идея сделать оригинальный, даже гротескный номер. Я запустил пробный шар:
– Ну, уж если вы действительно оказались в таком затруднительном положении… так и быть, возможно, и я на что-нибудь сгожусь.
– Какие могут быть сомнения! – он скривил губы в неискренней улыбке.
– Насколько я понимаю, нужны будут «музыкальные паузы» и «музыкальный фон» для всего мероприятия, чтобы аудитория осознала народный характер данного исторического события.
– У вас способности не только к музыке, но и к агитационной работе. Наш человек из агитпропа не смог бы лучше сформулировать эту задачу!
– Благодарю за признание заслуг. Но вернемся к делу: я бы мог исполнить несколько испанских мелодий из оперы «Кармен» Бизе, например «Хабанеру» или «Арию тореадора». Или… «Болеро» Равеля в переложении для фортепиано. Вас бы это устроило?
– Я вижу, что, несмотря на меланхолию, которая запечатлелась на вашем лице, чувства юмора вы не потеряли.
– Я не собирался шутить, – заявил я со всей серьезностью.
– Тогда у вас просто мозгов не хватает. Это саботажем попахивает!
– Сабота-а-а-жем! – издевательски протянул я. – Не в обиду вам будет сказано, но если вы так ставите вопрос, то, значит, у вас обнаруживаются самые элементарные пробелы в музыкальном образовании. Боюсь, вы даже понятия не имеете, что такое опера «Кармен» Бизе. Это во всех отношениях революционное произведение! Ведь какие сюжеты использовались в оперном искусстве до «Кармен» Бизе? Мифологическая история, легенды, сказочные мотивы. Там красовались боги, короли и герцоги, аристократы. А кто занял их место в революционной «Кармен»? То-то и оно! Пролетариат! Социальные низы. Народ. Рабочие, солдаты, национальные меньшинства (я имею в виду цыган). И вы смеете утверждать, что использование мелодий из такого благородного произведения музыкальной классики смахивает на диверсию?! Опомнитесь!
– Хорошо, хорошо, – снисходительно бросил Куглер. – Не надо пыжиться. Я прекрасно знаю, что вы горазды на шутки и розыгрыши. Но из меня вам не удастся сделать козла отпущения.
– Болек, давай поговорим серьезно, – я резко перешел на «ты» и на доверительный, даже товарищеский тон. – Кто здесь разберется, что это за музыка? Кто догадается, что какой-то марш на самом деле «Марш контрабандистов» из оперы Бизе? Подумай, парень! Неужели ты не понимаешь, какой здесь уровень? Успокойся, никто, даже «совет активистов», ничего не заподозрит.
– Это твое последнее слово? – он так и не поддался (лишь согласился перейти на «ты»).
Меня аж передернуло от злости, что я никак не могу его обставить. Но и я не поддавался.
– Разреши, – кивнул я головой и не спеша направился к кабинету для занятий музыкой.
Он несколько мгновений постоял в нерешительности, а потом последовал за мной.
Я сел за пианино и начерно сыграл несколько известных мотивов из концерта с гитарой Хоакина Родриго – печальных мелодий, напоенных зыбкой атмосферой пустынной испанской земли, выжженной, ржавой степи и меланхоличных гор.
– Ну, как тебе? – спросил я, не прерывая игры.
– А что это? – парировал он мой вопрос с явным недоверием.
– Так, попурри из народных мелодий, – пожал я плечами, закрыв крышку пианино.
Он молчал целую минуту. А я сидел неподвижно, сложив руки на коленях и опустив голову.
– Хорошо, – сказал он наконец. – Пусть будет. Берем. Хотя без проверки тут не обойдешься, – он поднял вверх палец жестом шутливой угрозы и собрался уходить.
– Минуточку! – крикнул я ему вслед. – Еще одна проблема…
Он остановился и повернулся ко мне:
– В чем дело?
– Если я буду принимать участие в этом мероприятии, то у меня должна быть заверенная справка об освобождении от уроков. Иначе ничего не получится. Я не собираюсь заниматься этим в свободное от уроков время.
– Но ведь это общественная работа! – с нарочитым возмущением заявил он.
– Как хочешь, – ответил я ему. – Я сказал свое слово.
Он круто повернулся на пятках и вышел, стуча каблуками.
Через несколько дней какой-то парень (как выяснилось впоследствии, его второй заместитель) передал мне справку об освобождении от уроков. Внизу стояла печать и подпись Солитера.
Подготовительная работа уже подходила к концу, когда я впервые явился на репетицию. Спектакль фактически был готов. Шла подгонка отдельных элементов программы: оформления, фрагментов сценария, динамики и темпа спектакля.
Работой руководил Таракан. Он сидел за небольшим столом, на котором горела лампа, лежал сценарий программы и снятые с руки часы (советские, никелированный «Полет»), и с авторучкой в руке следил за ходом спектакля. Заметив меня в дверях, он жестом пригласил подойти поближе и указал на стул рядом с собой.
Участники программы составили три группы: декламаторы, докладчики и «Экзотическое трио». Нельзя не упомянуть и ведущего – высокого парня Кароля Броду из десятого «А» (с английским языком) – личность в определенном смысле основную для всего хода спектакля, своеобразного церемониймейстера, исполняющего одновременно роль конферансье, докладчика-интерпретатора и жреца – хранителя исторической памяти.
Программа начиналась известным стихотворением Владислава Броневского. Кароль Брода величественно выходил на сцену, останавливался перед микрофоном и, пронзая аудиторию горящим взглядом, принимался медленно декламировать с напором на звонкую «р», которая в его устах пульсировала зловещей барабанной дробью:
– Республиканцы насмерть стояли,
Кровь их на землю сочилась из ран,
На обожженных стенах развалин
Кровью писали: «No pasaran».
Со следующей строфы к Каролю Броде постепенно присоединялись другие исполнители. Они по трое выходили на сцену, останавливались, опустив голову, после чего поднимали ее драматическим жестом и подключались к декламации, скандируя слова последней строки.
– Выбита надпись огнем и металлом —
гремел Кароль Брода своей луженой глоткой —
Средь баррикад и камней.
В битве свобода Мадрида вставала —
и в этот момент первая тройка поддерживала его хором.
Через минуту на сцене было уже шесть исполнителей, не считая Кароля Броды, а он продолжал, не зная усталости:
– Враг наступал на свободу два года,
Веруя в силу огня и меча,
Статуей родины встала свобода, —
после чего трагически понижал голос, а шестерка выкрикивала в благородном порыве:
– Выдержав натиск, насилье топча.
При исполнении последней строфы использовалась определенная модификация: хор «республиканцев» (в полную силу девяти артистов) уже не скандировал вместе с ведущим всю строку, а только два последних слова – название всего стихотворения и его ключевую фразу. Кароль Брода патетически приближался к финалу:
– Стих мой – он братство и равенство славит,
Залит он кровью собственных ран, —
вне зависимости от интерпретации ведущего непонятно было, почему и каким образом стихотворениетак истекает кровью и кто его, собственно, ранил, —
Если умрет он, пускай оставит —
в исполнении Кароля Броды основной акцент этой строфы приходился на слово «ран» (вероятно, благодаря рифме со словом «pasaran») —
слово
надежды:
– «NO PASARAN!» —
вырывался из десяти глоток громкий возглас в ритме одной восьмой, двух шестнадцатых, одной четвертой, при этом все вскидывали вверх сжатый правый кулак.
После драматической паузы, продолжавшейся несколько секунд, Кароль Брода начинал свое повествование, похожее на марафонский забег.
Предлагаемая интерпретация истории была щедро иллюстрирована цитатами из речей, резолюций и воззваний и изобиловала противоречиями, с которыми неискушенный ум, незнакомый с законами диалектики, никак не мог разобраться.
Например, хотя Республика была демократической, однако ее правительство – правого уклона! – оставалось реакционным, «буржуазным». В свою очередь, это обстоятельство отнюдь не помешало самым темным реакционным силам немедленно организовать заговор против демократии. Этот заговор, с одной стороны, был делом рук «ничтожного меньшинства», а с другой, в нем приняли участие почти все силы «этого еще полуфеодального государства». Поэтому ничего удивительного, что эта «узкая прослойка отщепенцев» имела «сокрушительное, убийственное превосходство». Но двуличные перевоплощения реакции на этом не заканчивались. Это «сокрушительное превосходство» вдруг оказывалось… мнимым! В сущности, «кровавый колосс стоял на глиняных ногах», потому что «его время уже миновало», а «он отстаивал потерянные позиции, поэтому и ждала его свалка Истории». Именно по этой причине он не мог самостоятельно начать мятеж; чтобы осуществить свои преступные планы, ему необходимо было искать поддержку за пределами Республики, и он призвал оттуда «кровавые банды». Военная помощь, которую услужливо оказали ему Германия и фашистская Италия, оказалась настолько значительной и решающей, что приходится говорить скорее не о внутреннем мятеже, а о внешней интервенции. Иными словами, гражданская война в Испании вовсе не была гражданской войной, а «крестовым походом до зубов вооруженного мирового фашизма против испанских народных масс, которые взяли в собственные руки судьбу своей страны»…
Политика Запада относительно событий в Испании была насквозь лживой и одновременно близорукой. Впрочем, ничего удивительного. Ведь там господствовала система, которая держалась на эксплуатации трудового народа и руководствовалась лишь грязными интересами господствующих классов. Государства Западной Европы и Соединенные Штаты усматривали в борьбе народных масс республиканской Испании большую опасность, чем в преступных происках мирового фашизма! Поэтому они, как Пилат, не только умыли руки, но своим молчанием поддержали интервенцию.
Вот так реакционеры из эгоистических побуждений проложили дорогу преступникам и сами, не ведая того, попали под удар, который скоро на них и обрушился.
Лучше не задумываться, чем бы все это могло закончиться, если бы не Советский Союз, который сразу распознал преступные цели «фашистских молодчиков» и оказал Испании многостороннюю помощь.
Но поддержка Страны Советов Испанской республики не ограничивалась только государственной помощью, ведь это была колыбель всемирного пролетариата! Когда по всей земле прокатилась волна протеста, когда народные массы всех стран в знак солидарности выразили желание прийти на помощь своим испанским братьям, СССР немедленно поддержал этот благородный порыв, взяв на себя задачу по координации действий. В результате этой работы были сформированы в наше время уже легендарные Интернациональные бригады, составленные из добровольцев, приехавших со всего мира! Эти беззаветно преданные великой идее люди бросали работу, прерывали учебные и научные занятия, прощались с семьей, чтобы как можно скорее вступить в бой на полях сражений республиканской Испании.
Можно сказать, что в историческом смысле родилась новая форма союза.В него вступали не правительства, не государства, не армии, а – народные массы, общественные классы и партии. Никто не вмешивался во внутренние дела государства (как это было при заключении союза с империалистическими странами), ведь смыслпроисходящего выходил за рамки внутренней проблемы отдельного государства: борьба испанского народа за социальное освобождение не рассматривалась как конфликт локального значения, а как составная часть общего процесса – смертельной классовой борьбы в масштабах всей планеты.
Этот апофеоз интернационализма был, очевидно, главным ударным моментом всего торжества, однако по эмоциональности он уступал национальной литургии, то есть «польской карте».
Сначала вступал Кароль Брода, но минутой позже рядом с ним появлялся Первый докладчик и принимал эстафету, цитируя наизусть отрывок из резолюции Польской Коммунистической партии.
– Правящая клика Санации и ее генералов на весь мир опозорила Польшу, снискав себе сомнительную славу массовыми убийствами рабочих и крестьян, беззаконием и ложью, коррупцией и истязаниями в тюремных застенках. Правящая клика обесчестила само имя Польши, превратившись в глазах демократической общественности Европы в вассала фашистской Германии, в служанку самых темных сил варварства, реакции и мракобесия.
Тут выходил Второй докладчик и, опровергая унылое начало, победоносно заявлял:
– Но сегодня о Польше идет уже другая слава. Слава Народной Польши, Польши, борющейся за свободу. Эта слава пришла с гор, из долин и равнин Испании, где лучшие из лучших, собравшись в отряды имени Домбровского, не щадя жизни, сражались за освобождение угнетенных народов.
Едва отзвучало эхо этой радостной вести, как на сцене появился следующий исполнитель, porte-parole благородных домбровцев:
– Мы следовали традиции героев, боровшихся «за вашу и нашу свободу»: свободу Польши и всего человечества. На полях сражений Испании нас вдохновляли на борьбу образы героев, поднявших знамя свободы сначала в Польше, а потом на баррикадах Парижской коммуны.
Это патетическое выступление тешило польское сердце, однако вызывало и удивление, особенно когда Кароль Брода – в несколько ином контексте – высказался следующим образом:
– Теперь испанский народ познакомился совсем с другими поляками, а не с теми, которые участвовали в наполеоновских войнах и в сражениях под Сомосиеррой, Туделой и Сарагосой, где поседевшие в боях легионеры, наивные демократы, подло обманутые тираном Европы, шли против испанцев во имя порабощенной Польши.
Одним из кульминационных моментов не только этой части программы, но и всего торжественного заседания был отрывок из речи Долорес Ибаррури, знаменитой Пассионарии, которая провожала на фронт отважных домбровцев и благодарила их за помощь. Однако особым успехом речь Пассионарии пользовалась не благодаря своей форме и содержанию, но прежде всего благодаря тому, кто ее читал. Произносила текст первая красавица школы: черноволосая, надменная Люсиль Ружогродек, объект ухаживаний и воздыханий не только школьной молодежи, но и более серьезных поклонников – студентов и плейбоев. Люсиль (в очень узком кругу избранных ее звали «Люси») в черном облегающем платье с приколотой над левой грудью крупной красной гвоздикой, в черных английских туфлях на каблуках-шпильках (наверное, позаимствованных у матери) и с пурпурной лентой в непокорно вьющихся волосах медленно выходила на сцену, после чего, выдержав долгую паузу, начинала своим низким, чувственным голосом монолог: