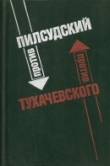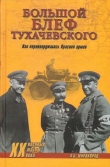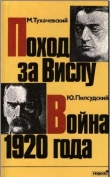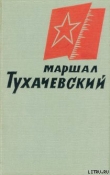Текст книги "Звезда Тухачевского"
Автор книги: Анатолий Марченко
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
Далее. Оба они конечно же стремятся к славе, оба обладают чувством высокого достоинства, граничащего с гордыней; оба наделены природной храбростью и всегда рвутся в пекло боя, в гущу событий; оба не привыкли стоять перед вышестоящим начальством и сильными мира сего в согбенной позе; оба обладают высокой культурой и интеллектом; и конечно же оба – талантливые военачальники.
Была между ними и существенная разница: Колчак не поменял своих взглядов, не изменил своим принципам и пристрастиям, остался в том стане, который его породил и выпестовал, где проросли его родословные корни; Тухачевский же, не задумываясь и не мучаясь угрызениями совести, перешел на сторону тех, за кем шел народ, за кем была сила и за кем было будущее – неизвестно еще, насколько прочное и продолжительное, но – будущее…
И им ничего не оставалось, кроме того что биться друг с другом не на жизнь, а на смерть…
20Еще подростком Витовт Путна был схож со своим сверстником Тухачевским тем, что тоже музицировал, только не на рояле или скрипке, а на пастушьем рожке. Он вырос в семье бедного литовского крестьянина, и, когда стало ясно, что пастух – слабый помощник в семье в материальном плане, отправился в Ригу, где работал и учился в ремесленной школе. В свои неполные двадцать лет за крамольные речи на митингах угодил в тюрьму, но через год был выпущен из нее, но не на волю, а в окопы Первой мировой, где и имел несчастье отравиться ядовитыми газами.
Военную карьеру, как и Тухачевский, Путна сделал благодаря революции. В гражданскую войну судьба забросила его на Восточный фронт, в Пятую армию Тухачевского, где он сперва был командиром бригады, а затем начальником 27-й стрелковой дивизии, прославившейся своим героизмом, особенно в боях за Омск. Позже, в период польской кампании[23]23
Имеется в виду советско-польская война 1920 г., поддерживаемая Антантой.
[Закрыть], дивизия эта была в полном составе переброшена на Западный фронт, и Путна снова попал «в объятия» Тухачевского.
Витовт Путна смотрел в окно почерневшей от времени бревенчатой крестьянской избы на окраине недавно отбитой у белых деревни и, запрокинув черноволосую голову, любовался высоким холодным небом. Чем-то оно напоминало ему литовское небо над его родной деревушкой: до невероятия синее, оно было девственно молодым и, казалось, самой своей синевой и молодостью протестовало против войны, звало к жизни.
От этих раздумий Путну отвлекли хрипловатые звуки, доносившиеся из радиоприемника, установленного в избе. Приемник был трофейный, с английским клеймом, и Путна очень гордился, что только в его дивизии есть такое чудо, с помощью которого можно было, как в волшебной сказке, сокращать расстояния. Проходившие мимо бойцы во все глаза смотрели на это чудо, предполагая, что внутри диковинного ящика сидит человек.
Путна подошел поближе к хрипевшему и шипевшему приемнику. Боец-радиотелеграфист, наскоро закончив обматывать тряпкой сапог с отвалившейся подошвой, по всей форме отдал честь начдиву.
– Кто это там у тебя вякает? – с насмешливой улыбкой поинтересовался Путна.
– Какой-то белый гад, товарищ комбриг, – весело отозвался боец. – Сейчас будет передавать депешу.
– Ну-ну. – Путна уселся на скамью, стоявшую возле окна. – Послушаем.
В приемнике что-то оголтело заверещало, потом запищало, и наконец, будто из преисподней, раздался басовитый прерывистый мужской голос:
«В Совдепию. Всем, всем, всем… Номер шесть… Нашими войсками наголову разбиты… двадцать шестая и двадцать седьмая красные дивизии… Захвачено три орудия, восемь пулеметов…»
Неожиданно приемник замолк. Радиотелеграфист нервно покрутил черные эбонитовые ручки настройки, развернул антенну. И снова тишину раннего утра взорвали хрипы, скрежет, писк, и среди всего этого звукового хаоса вновь прорвался все тот же голос:
«Пробил час мести большевикам… Красноармейцы, штык в землю! Переходите на сторону верховного правителя адмирала Колчака… Вы получите свободу и землю… Мы идем церемониальным маршем на Москву! Подписал полковник Каппель».
– А, это вы, Владимир Оскарович! – почти радостно воскликнул Путна, словно он встретил нежданно старого и желанного друга. – Вот уж не думал, не гадал, что полковник Каппель, для которого слова «Честь имею!» вовсе не пустой звук, вдруг окажется таким мелким лжецом! Хорошо еще, что не оповестил весь мир, будто взял в плен комбрига Путну или командарма Тухачевского! Ну, пошерстил нас основательно – это верно. Трофеи подсчитал точно, как скупой рыцарь сокровища. А вот насчет Москвы…
– Подавится он нашей Москвой, – подхватил радиотелеграфист.
– Можете передать ответ? – спросил его Путна.
– Готов передать, товарищ комбриг!
– Мы приняли белое радио от полковника Каппеля. Передайте полковнику Каппелю красное радио.
И Путна почти торжественно продиктовал ответ:
– «Полковнику Каппелю. На ваш номер шесть. Смеется тот, кто смеется последним».
– И все? – удивленно вскинул рыжие брови радиотелеграфист.
– Все. И подпись – комбриг Путна.
Радиотелеграфист поспешно застучал рукояткой передатчика. Отстучав произнесенный Путной текст до его подписи, он озорно, по-мальчишески взглянул на комбрига, сверкнул желтоватыми зубами и решительно добавил уже от себя: «Так-растак вашу мать!..» И лишь после этого отстучал подпись комбрига.
– Окончательную редакцию ответа одобряю, – похвалил Путна и поощрительно хлопнул крепкой ладонью по узкому плечу радиотелеграфиста. – Хотя и не очень вежливый ответ.
Снова с нежностью взглянув на синее небо, Путна отправился в штаб, где его ожидал комиссар Сорокин: тому не терпелось показать комбригу первый номер газеты, родившейся прошлой ночью.
Дело в том, что в одном из отбитых у противника городов Сорокин заглянул в типографию и приказал бойцам прихватить с собой обнаруженный там ручной печатный станок, который полиграфисты обозвали «бостонкой», ну и конечно же все типографские принадлежности к нему. И объявил, что нужно наладить выпуск своей газеты.
– Инициатива заслуживает внимания, – поддержал его Путна. – Но ты же знаешь, что в армейских условиях всякая инициатива наказуема. И свою идею тебе придется осуществлять самому. Тем более, что опыта тебе не занимать: сам рассказывал, что работал в ленинской «Правде».
– Осилим! – весело откликнулся Сорокин. – К тому же авторов у нас – тьма. Считайте, весь личный состав бригады. И первый наш корреспондент – комбриг товарищ Путна.
– Согласен, если ты будешь вторым. Кроме того, тебе придется писать и за личный состав: у нас же грамотных – раз, два и обчелся. А название уже придумал?
– А чего тут голову ломать? Если «Окопная правда» – подойдет?
– Тухачевский не одобрит, – улыбнулся Путна. – В таком названии не чувствуется наступательного духа. Ты что, товарищ Сорокин, сторонник позиционной войны?
– У меня другого названия нет, – уперся обидчивый Сорокин.
– Ну и валяй, называй по-своему! Я что, против?
И вот газета готова! Сорокин с торжественным видом протянул Путне двухполоску на рыжеватой шершавой бумаге. Путна быстро пробежал глазами «новорожденную».
– Для начала совсем неплохо! Тем более, что заголовки – вполне в наступательном духе командарма! Надо поскорее размножить – и в части. – Он на минуту задумался. – А что, если поделимся тиражом и с соседями? Тебе не жалко?
– Пусть бумагу дают, – тут же заявил прижимистый Сорокин. – Баш на баш!
Он приказал бойцу крутить «бостонку» и снова подошел к комбригу:
– Есть у меня, Витовт Казимирович, одна задумка…
– Ну-ну, – заинтересовался Путна.
– В типографии мне попалась на глаза белогвардейская газетенка «Сибирский стрелок». Издание осведомительно-агитационного отдела штаба Колчака.
– Ну и что из того? Прикажи немедля уничтожить, чтобы не распространять эту заразу!
– А я по-другому мыслю. В типографии изготовим клише заголовка этой газетенки, точь-в-точь, один к одному. И запустим издание газеты для белых. Только со своим, красным текстом. Контрпропаганда будет – на все сто! Беляки не скоро поймут, откуда у этой газеты рога растут.
– А поверят?
– Попервах – еще как! Бумага у них такая же, не отличишь. А когда очухаются – будет уже поздно, многие их солдаты успеют прочитать и узнать правду.
– И кто же будет обслуживать беляков в качестве почтальонов?
– Найдем добровольцев среди коммунистов, сделают честь по чести – с доставочкой на дом!
– Ну что тут скажешь? – Лицо Путны излучало удовлетворение. – Только одно: повезло Путне с комиссаром!
– Смотри, перехвалишь, – смутился Сорокин.
– А зазнаешься – тогда другой разговор будет, – шутливо пригрозил Путна. – Ты вот намекал, что зачислишь меня в авторы своей газеты? Так вот тебе мой первый материал.
И Путна вытащил из кармана гимнастерки вчетверо сложенный листок бумаги.
– Если подойдет, напечатай.
Сорокин взял листок. Путна писал:
«Когда в нашу бригаду прибыл отряд из Карелии, мы преобразовали его в 228-й Карельский полк. В первых же боях этот полк проявил себя с лучшей стороны. Да так проявил, что Колчак за ликвидацию одного карельца обещал награду: Георгиевский крест и сто рублей деньгами. Белые бросали на позиции карельцев по нескольку полков.
Приблизившись к окопам противника, карельцы без звука бросались в штыковую атаку. Они никогда не показывали врагу спину.
Самые тяжелые бои карельцы вели у Казангула. В неделю не менее сорока раз этот разъезд переходил из рук в руки.
Однажды, едва рассеялась утренняя мгла, на разъезд бесшумно, словно тень, вполз бронепоезд «Белый Тагил». И тут же открыл сильный огонь.
Вдруг вскочил рослый боец из седьмой роты, ухватился за шпалу и, подняв ее, подложил под колеса бронепоезда. Бронепоезд дал задний ход и попал под наш артиллерийский огонь.
В этом бою нашего храбреца ранило. Фамилии его не помню. Он был просто карелец».
– Потрясающий факт. – Сорокин искренне похвалил заметку комбрига. – Ты, Витовт Казимирович, прямо журналист. Для нашей газетки, правда, длинновато, мы чуточку подсократим. И добавим: кто знает этого богатыря карельца, пусть сообщит фамилию. Не должно быть безымянных героев.
– Решено, – сказал Путна. – Извини, я тебя оставлю. Мне пора – Тухачевский опозданий не терпит.
И Путна отправился в штаб армии. К счастью своему, комбриг прибыл вовремя: едва он вошел в салон-вагон, как командарм начал оперативное совещание. Главная цель – разработка плана наступления на Омск – последнюю колчаковскую крепость.
– Первая часть Омской операции практически завершена. – Голос Тухачевского звучал хрипло – он был простужен, его мучил кашель, не давал покоя насморк, и тут-то ему припомнилось давнее – еще при назначении на Восточный фронт – предостережение Ленина о том, чтобы он, Тухачевский, остерегался простуды, ибо, по утверждению самого Наполеона, битву при Ватерлоо он проиграл из-за насморка. – Противник перегруппировывает свои силы на участке Петропавловск – Омск. Для полного уничтожения Колчака нужно новое решительное наступление.
– Какое наступление?! – не выдержал даже обычно спокойный и уравновешенный Степан Вострецов – командир Волжского полка, от которого Тухачевский прежде не слышал ни одной жалобы. – Бойцы измотаны, валятся с ног, морозы глотку перехватывают. Худые валенки затыкают соломой и перевязывают веревками. Из ботинок портянки торчат! Нужна передышка хотя бы на трое суток.
– Я вас, Степан Сергеевич, не узнаю. – Тухачевский, строя планы дальнейшего наступления, как раз и рассчитывал опереться на поддержку таких стойких командиров, как Вострецов. – Уж вы-то должны знать, к чему может привести даже кратковременная остановка нашего наступления. Придется отдавать все, что уже завоевали.
– Выше себя не прыгнешь, – угрюмо, но уже без прежней настойчивости отозвался Вострецов. – Мне нужно еще хотя бы пару пушек.
– Пушки дадим, – пообещал командарм. – А вот что касается одежды – рассчитывайте только на трофеи. Возьмем Омск – Колчак нас сам оденет: у него там большие запасы обмундирования – склады ломятся. Союзники хорошо снабжают. В наступлении на Омск нам большую помощь окажут партизаны. Передышка нам позарез нужна, но мы не имеем права на отдых. Колчак за это время перегруппирует и подтянет новые силы в район Исилькуля. Ни о какой приостановке наступления даже на один день не может быть и речи. Тем более, что по разведданным Третья белая армия вышла на рубеж реки Тобол и сейчас спешно подтягивает подкрепления, чтобы перейти в наступление.
– Выходит, любой ценой? – негромко произнес кто-то из командиров. – Так мы всю армию положим, а Омска не возьмем.
– Да, любой ценой! – жестко и властно произнес Тухачевский. – Если потребуется, сам лягу костьми. У нас нет иного выхода! И пораженческие настроения приказываю выкинуть из головы навсегда! Надо, чтобы сознание необходимости наступления дошло до каждого бойца. И тут, я уверен, нашим командирам и комиссарам умения не занимать.
– В моей дивизии большие потери, – доложил начдив Блажевич – невысокий, худощавый, но очень энергичный и подвижный человек. Несмотря на холода, он не признавал полушубков и папах, предпочитая в любую погоду носить шинель и фуражку. – Только за две последние недели – около двух тысяч убитых, раненых и пропавших без вести. Почти четыре сотни болеют тифом.
– Дивизию пополним свежими силами из резерва. Надо подтянуть отставшие тылы, взять на учет вооружение и снаряжение, подсчитать трофеи, всемерно помочь санитарной части наладить лечение больных. Кроме того, разъясните бойцам, что на освобожденных территориях нас, как и прежде, поддержит народ: даже часть колчаковцев, в основном из бедного крестьянства, переходит на нашу сторону.
– Есть у нас горлохваты, – хмуро улыбнулся Вострецов. – Орут: до Омска босиком добежим! В походе, мол, согреемся, без валенок легче будет догонять Колчака. Зато в Омске попируем!
– Вот видите! – воскликнул Тухачевский. – Выходит, Степан Сергеевич, у вас бойцы сознательнее самого командира полка? Если, конечно, отбросить разглагольствования насчет пиршеств. Тех, кто стремится наступать, вы зря зачисляете в разряд горлохватов, напротив, такой порыв надо всячески поддерживать! Такие сами вперед пойдут и других за собой поведут.
– Плохо вы знаете, товарищ командарм, психологию бойца. – Вострецов никогда не заглядывал в рот начальству, а уж если вожжа, что называется, попадала под хвост, то взрывался мгновенно. – Такой горлохват ни черта не стоит, гроша ломаного за него не дам! При командире куражится, а в бою норовит за спину соседа спрятаться.
– Товарищ командир полка! – уже официальным тоном заговорил Тухачевский, хмуря брови. – Ваше заявление считаю бестактным. Пора бы уже знать требования наших уставов и законы субординации.
Вострецов ничего не ответил и молча сел на свое место, пригладив широченной ладонью окладистую черную бороду. Он не привык оправдываться, и лишь его глубоко запавшие глаза, глядевшие исподлобья, таили в себе незлобивую ехидцу.
– Хотел бы я поглядеть, как он сам без валенок Колчака станет догонять, – негромко, но так, чтобы услышали сидевшие рядом и не расслышал командарм, проронил Вострецов.
Соседи сочли разумным ничего не ответить.
Тухачевский приступил к изложению плана наступления.
– Перед нашим фронтом – значительные силы противника, который численно нас превосходит. Это – Степная группа и самая сильная составная часть колчаковской армии – Уральская группа генерала Сахарова. В целом это около двадцати пяти тысяч штыков и сабель. Главные силы противник группирует против фронта 26-й и 27-й дивизии. Наша первостепенная задача – разгромить Уральскую группу, тогда мы станем хозяевами положения. Главный удар будем наносить в стыке Уральской и Степной групп с тем, чтобы нанести противнику решительное поражение в районе железной дороги Курган – Петропавловск.
Излагая план, Тухачевский водил длинной указкой по схеме, висевшей на стене салон-вагона. Схема была выполнена мастерски, даже с художественным вкусом, красные стрелы были хищно и победоносно устремлены к позициям противника, обозначенным синим цветом, и, завороженно глядя на эту схему, по которой как бы выходило, что сломить сопротивление белых – пара пустяков, командиры тем не менее уже предчувствовали, что предстоят жестокие бои, ибо колчаковцы просто так, за здорово живешь, Омск не отдадут. А коль жестокие бои, то и новые большие жертвы. И разве предскажешь, кто из командиров, сидящих сейчас перед этой красивой схемой, останется в живых. Схема потом, через годы, чем черт не шутит, вполне возможно, будет дотошно изучаться в военных академиях как образец планирования наступательного боя, а тех, кто под шквальным огнем противника утопал в сибирских снегах, чтобы эта схема ожила в реальной действительности, уже не будет на белом свете…
И все же командиры отгоняли от себя невеселые думы: с каждым новым наступлением все ближе и ближе был полный разгром врага, а значит, и конец гражданской войны. Сейчас Сибирь, затем Дальний Восток, Приморье – и вот уже долгожданные берега Великого, или Тихого, океана…
– Приказ о новом наступлении я уже подписал, – непререкаемым тоном произнес Тухачевский. – Начальник штаба сейчас доведет его до вас. От себя добавлю: малейшая попытка неисполнения или даже обсуждения приказа будет решительно пресекаться, вплоть до расстрела.
«У Троцкого научился… Известные замашки. Как чуть что не по его – хватается за пистолет». Вострецов был уверен, что в эти минуты такая мысль появилась не только у него, но и у других присутствовавших на совещании командиров. Но благоразумно промолчал.
Что-то в командарме было и такое, это привлекало, притягивало, вызывало даже восхищение: острый ум, решительность, большой такт, уважительность к подчиненным.
Но что-то и отталкивало: командарм, как ни старался, не мог переступить незримую черту, разделявшую его и подчиненных командиров, между ними всегда существовала какая-то, даже независимая от воли обеих сторон дистанция. Это мешало и сближению, и полному доверию к личности командарма. Общаясь с ним, каждый, кто бы он ни был – геройский командир, знающий себе цену, или даже простой боец, – всегда чувствовал, что он ниже его, уступает ему во всем – и в интеллекте, и в умении держать себя гордо, с независимым достоинством, и даже во внешнем виде и манере поведения. Казалось, и сам Тухачевский понимает это, но ничего не может изменить в своем характере, не может слиться с массой командиров и бойцов, как ему хотелось бы слиться, чтобы все тянулись к нему, откровенно делились с ним радостями и невзгодами, считали бы его, что называется, своим в доску. И нередко ему страсть как хотелось, чтобы на нем не висело, диктуя свои привычки, его дворянское прошлое, чтобы в одно прекрасное утро он вдруг проснулся сыном рабочего из Питера или же сыном крестьянина из какой-нибудь заброшенной в глубине России деревеньки. Может быть, тогда все они, кого он ведет теперь в бой, признали бы в нем своего, родного не только по единому строю, но и по крови?..
Тем временем начальник штаба во всех деталях довел до командного состава армии план предстоящего наступления на Омск.
По плану Реввоенсовета республики взятие Омска возлагалось на Третью армию, наступавшую на левом фланге. Но Тухачевский был не из тех, кто позволил бы опередить себя, перехватить инициативу. Он учел успешные наступательные действия своей 27-й дивизии и поставил перед ней задачу первой ворваться в Омск.
Получив Директиву командарма, начдив Блажевич, начальник штаба дивизии Шарангович и комиссар дивизии Кучкин засели за разработку боевого приказа. Третьей бригаде предписывалось двумя полками подойти к Омску с юго-запада, а одним полком двигаться в направлении станции Куломзино. Отряд из полковых конных разведчиков при поддержке бронепоезда и артиллерии должен был захватить железнодорожный мост через Иртыш, чтобы не дать противнику возможности взорвать его. Два полка направлялись в обход Омска с юго-запада, один полк – вдоль линии железной дороги. Бригаде, которой командовал Путна, было приказано двигаться на Омск в направлении кожевенного завода на окраине города. Другая бригада должна была овладеть северной частью Омска. Дело осложнялось тем, что Иртыш еще не был крепко скован льдом, поэтому пришлось готовить легкие переправы из досок и бревен. После взятия Омска все части дивизии должны были взять город в кольцо и не дать возможности колчаковцам вырваться из окружения.
Закрыв совещание, Тухачевский попросил Путну остаться.
Командарм всегда ему искренне симпатизировал и знал, что Путна тоже тянется к нему.
Усадив Путну за стол, Тухачевский предложил ему чаю.
– С удовольствием, – улыбнулся Путна, – утром позавтракать не успел. Радио слушал да газеты читал.
– Какое радио? Какие газеты? – заинтересовался Тухачевский.
Путна рассказал – рассказчик он был немногословный, но слушать его было всегда занимательно.
– Ради такого радио и такой газеты не грех и завтраком пожертвовать, – рассмеялся Тухачевский. – Кстати, хорошо бы к наступлению на Омск выпустить специальный номер и раздать его бойцам. А сверху – шапку: «Даешь столицу Колчака!»
– Сделаем, – пообещал Путна.
– Витовт Казимирович, что там у вас с Мало-Вишерским полком? – неожиданно поинтересовался командарм.
Мало-Вишерский полк не зря оказался в центре внимания Тухачевского.
Еще в восемнадцатом году, в период тяжелых боев за Казань, в армию Тухачевского влился этот отряд из Малой Вишеры. Состав его был невелик – сто пятьдесят штыков. Но велика была крепость духа его бойцов. Дисциплина – железная, спайка – позавидуешь, храбрость – не показная, истинная. Однако, когда пришел приказ сводить отряды в полки, маловишерцы проявили невиданное упрямство, чем основательно потрепали нервы комбригу, да и командарму. Путна пошел на компромисс, с которым нехотя согласился и Тухачевский: не хотят, значит, еще «не дозрели»; пусть какое-то время повоюют как самостоятельная единица, подчиняющаяся напрямик комбригу.
Отряд бросали на самые тяжелые участки, и не было случая, чтобы он не выполнил боевого задания, не было бойца, который бы струсил и покинул поле боя. Но беляки здорово потрепали отряд – известное дело, всегда достается больше всех тем, кто впереди, кто рвется в драку. И осталось в Мало-Вишерском отряде не более полусотни бойцов, остальные полегли на поле брани. Да и эти полсотни уже выдохлись, изнемогли и, казалось, упали духом.
И тогда комиссар отряда Погодин – молчаливый человек с огромной седой шевелюрой, фигурой и походкой чем-то напоминавший Феликса Дзержинского, с таким же аскетичным лицом, послал в Мало-Вишерский уездный комитет донесение о том, что отряд нечеловечески устал, потерял боеспособность, и просил замены. Уком пошел ему навстречу. Путна получил из укома телеграмму, что замена из шестидесяти коммунистов направлена в бригаду и что уставших бойцов следует отправить в Малую Вишеру.
Путне такой ответ пришелся не по нраву: не дело это – маловишерцев сменять, в особое положение ставить. А другие что скажут? И он вызвал к себе Погодина.
– Что же это вы, вишерцы, надумали? Да пристало ли коммунистам отправляться на отдых, хотя бы уком и готов прислать смену?
Погодин переминался с ноги на ногу и молчал.
– Чего молчите? – недовольно спросил Путна.
– Разрешите идти? – отводя запавшие глаза от настырного взгляда комбрига, глухо спросил Погодин.
– Идти-то я вам разрешаю, да вы так и не ответили на мой вопрос.
– Мы там у себя в отряде обмозгуем, товарищ комбриг.
– Ну, обмозгуйте, – согласился Путна. – Только о совести не забывайте, когда будете обмозговывать.
Погодин, ничего не проронив в ответ, вышел.
А вскоре начались тяжелые бои в районе завода Архангельского, в предгорьях Урала, бои за Уфу. И маловишерцы пошли в новые атаки…
И вот теперь Тухачевский вспомнил об этом необычном отряде.
Путна, вместо ответа, подал командарму порядочно измятый в кармане гимнастерки телеграфный бланк. Тухачевский прочел:
«В сегодняшнем бою коммунары-маловишерцы погибли все до одного. Сменять больше некого. Сам ранен. Погодин».
Тухачевский вернул бланк и опустился на стул. Казалось, смерть бойцов уже не могла его волновать, уже столько людей погибало у него на глазах, но то, что он только что прочитал, потрясло до глубины души: это был случай особый.
– Значит, обмозговали? – негромко спросил Тухачевский будто самого себя. – А где Погодин?
– Мы его тогда же, раненого, сразу в госпиталь отправили. При нем был жестяной ларец, а в нем кинжал да флакончик клюквенного экстракта. Так он просил кинжал сохранить. Подремонтировали его в госпитале, и он снова вернулся в строй. Так что будет наступать на Омск.
– А как дела с формированием полка?
– Уже сформирован. И комиссаром там – Погодин.
– Сегодня же подпишу приказ по армии – полку присвоить звание героев-маловишерцев. А Погодина представим к ордену Красного Знамени.
Он встал из-за стола. Поднялся и Путна. Они как бы почтили память погибших бойцов.
– А теперь скажу по секрету, только так, чтоб не получилось, что всему свету, – улыбаясь, сказал Тухачевский. – Возьмем Омск и, наверное, приказ о взятии столицы Колчакии будет моим последним на Восточном фронте.
– Как?! – Путна был несказанно удивлен. – Не понимаю…
– А что тут понимать, дорогой Витовт Казимирович? – ответил командарм. – Мы люди военные. Едем, куда пошлют.
– И куда же шлют?
– Приказ еще не подписан, поэтому прошу вас, это между нами. Москва собирается бросить на Южный фронт.
– Не отдадим! – задиристо воскликнул Путна.
– А куда денешься, – вздохнул Тухачевский. – Жаль, конечно. Сроднился я с войсками. Но ничего не попишешь, если прикажут. А сейчас – еще одна новость.
– Я уже начинаю опасаться этих ваших новостей, – и впрямь испуганно среагировал Путна.
– Новость-то хорошая! И состоит она в том, что комбриг товарищ Путна Витовт Казимирович будет наступать на Омск уже не в ранге комбрига, а в ранге начальника дивизии!
Путна просиял, не скрывая своей радости.
– И какую дивизию вы хотите мне дать?
– А какую вам хотелось бы?
– Счел бы за высокую честь взять под свое начало 27-ю.
– Настоящий провидец! С завтрашнего дня вы – начальник 27-й стрелковой дивизии, лучшей дивизии моей армии! – воскликнул Тухачевский, крепко пожимая руку взволнованному и счастливому Путне.