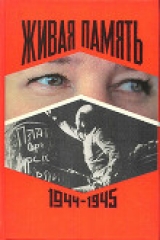
Текст книги "Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3."
Автор книги: Алексей Кулаков
Соавторы: Борис Полевой,Александр Твардовский,Михаил Исаковский,Виктор Кочетков,Владимир Киселев,Леонид Леонов,Георгий Жуков,Павел Антокольский,Алексей Голиков,Николай Кузнецов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 61 страниц)
Анатолий Шиганов. Они сражались за Родину
Фотографии и краткие пояснения к ним прислал в совет ветеранов журналистики России участник Великой Отечественной войны Анатолий Дмитриевич Шиганов. Он сообщает, что при Черниговском облвоенкомате вот уже шестнадцать лет работает клуб «Поиск». Возглавляет его на общественных началах полковник в отставке Владимир Денисович Драгунов.
На территории Черниговщины при обороне в сорок первом и при наступлении в сорок третьем, когда развернулись бои за Днепр, погибло на поле боя и умерло от ран в госпиталях около 25 тысяч советских воинов и партизан. Они похоронены в сотнях одиночных и братских могил. На некоторых холмиках до сих пор значится: «Неизвестный».
За эти многие годы заботами и стараниями В. Драгунова и его подопечных установлены имена восьми тысяч советских солдат и офицеров, произведено немало уточнений и исправлений, а также изменений адресов захоронений.
Все имена погибших, установленные клубом «Поиск», будут внесены в Книгу Памяти.
В нашем реквиеме рассказывается лишь о четырех воинах, поиском захоронений которых занимался Владимир Денисович Драгунов.
Старшина Александр БессчетновИз города Ульяновска пришло письмо в Черниговский облвоенкомат: «Пишет вам Бессчетнова Мария Ивановна. Мне уже за восемьдесят. Живу одна. И хочется мне узнать, где похоронен мой муж Бессчетнов Александр Васильевич. Еще в войну получила я извещение, что он умер в госпитале после тяжелого ранения в голову. А где этот госпиталь? Может, и было написано в бумажке, да я уж не помню. Заболела с горя сердцем… До сих пор болею. Запомнился мне только номер полевой почты – 29433.
Извещение получила я в январе 1944 года. Вот и все мои данные. Куда ни посылала запросы – ничего мне путного не ответили. Люди добрые посоветовали обратиться в Черниговский военкомат, потому что по тому времени война-то шла как раз у Днепра…»
Драгунов выяснил, что воинская часть с названной в письме полевой почтой проходила через северные районы Черниговщины, форсировала реку Сож восточнее поселка Добрянка, где до 7 октября 1943 года вела упорные бои за расширение плацдарма. Позже была переброшена на участок южнее и 15 октября форсировала Днепр. На занятом плацдарме отбивала многочисленные контратаки противника.
«Возможно, на этом плацдарме и был тяжело ранен Александр Васильевич Бессчетнов?» – подумал Владимир Денисович, и выехал в Добрянку. Там, по данным архива медицинских учреждений, было семь госпиталей. В каком из них?..
Обошел все могилы, в которых покоится прах умерших от ран бойцов. И у последней из них, среди многих имен, значилось: «Старшина Бессчетнов А. В.».
Написал письмо Марии Ивановне. Были в нем и такие слова: «Если по состоянию здоровья не сможете доехать от Чернигова до Добрянки одна, то сообщите мне перед выездом из Ульяновска, я вас встречу в Чернигове и в Добрянку поедем вместе».
Так и было сделано. Мария Ивановна поплакала у могилы своего дорогого Саши, с которым так мало успела пожить, возложила цветы, поцеловала землю на могиле…
Потом получил Владимир Денисович от нее письмо:
«Дорогой Владимир Денисович! Большое Вам русское спасибо. Сообщаю также, что мне, как стало все известно о моем муже, выделили квартиру в новом доме как вдове погибшего воина. И вот из старой развалюхи перебралась я в чистую, светлую, со всеми удобствами.
Еще раз доброго здоровья Вам за все ваши похвальные дела для людей».
Майор ветслужбы Евгений ДерингНе письмо, а душевный плач: «Я отлично помню своего папу. Он был таким жизнерадостным, трудолюбивым, обладал юмором и увлекался, кроме основной работы в зоотехникуме, садоводством и фотографией. Любил петь под собственную игру на гитаре…
Когда уезжал на фронт, наказывал мне хорошо помогать матери и старательно учиться. И я вовсю старалась…
Одиннадцать писем прислал он с фронта. Двенадцатое написали его боевые товарищи: „…Евгений Дмитриевич Деринг пал смертью храбрых в сентябре 1943 года при форсировании Днепра…“»
«Я долго искала и уточняла, где же отец похоронен? Наконец мне сообщили, что в поселке Борисовка Черниговской области. Но такого поселка в почтовом справочнике я не нашла.
Поэтому решила написать в Черниговский военкомат. Огромная просьба: помогите мне найти могилу моего папы, чтобы я могла поехать и выполнить свой дочерний долг – посетить прах дорогого и незабвенного отца. Очень надеюсь. Роксана Евгеньевна Деринг. Город Москва».
Владимир Денисович посвятил поиску могилы Деринга несколько недель. Кропотливо рылся в архивах и нашел документы, которые привели его в село Пакуль Черниговского района. Там в братской могиле похоронены одиннадцать воинов, в их числе и Е. Д. Деринг.
Сообщил в Москву Роксане. Она быстро приехала в Чернигов, встретилась с Драгуновым, и они вместе поехали в Пакуль.
Долго молча стояла дочь павшего воина перед могилой родного человека и, возложив цветы, низко поклонилась ей…
Рядовая Зинаида ПоповаА это письмо из Харькова: «Я, участница Великой Отечественной войны Рахмаил Анна Ивановна, обращаюсь к вам с просьбой найти могилу моей сестры Поповой Зинаиды Ивановны. Она на фронте была связисткой и согласно „похоронке“, полученной в 1943 году, погибла и похоронена на территории Черниговской области в селе Н. Мненос Батунского сельсовета.
Следопыты, к которым я обращалась, вели поиск такого села, но безрезультатно. Надеюсь на вашу помощь».
Еще одна загадка для Владимира Денисовича Драгунова, которому вручили это письмо. Загадка по вине того, кто писал «похоронку». Такого села и сельсовета на Черниговщине не было и нет. До войны и в войну был Батуринский район и в него входило село Новые Млыны, а не Н. Мненос.
Туда и послал письмо Владимир Денисович. Ему сообщили: «Исполком Новомлыновского сельсовета сообщает, что останки погибших воинов из разных могил перезахоронены в братскую могилу в центре села. Среди погибших значится рядовая по фамилии Попова 3. И.».
Получив письмо от Драгунова, Анна Ивановна Рахмаил написала: «Уважаемый Владимир Денисович! Большое вам спасибо за поиск и труд. В скором времени обязательно приеду на могилу сестры. Высылаю ее фото – единственное, что у меня сохранилось…»
Партизан Саркис Азарян«Я, Зейналова Лилия Саркисовна, – мать четырех детей и бабушка двух внуков – пяти лет от роду лишилась отца – Саркиса Сандриговича Азаряна. В 1941 году он ушел защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков и потом много лет, пока я росла, моя мать ничего не знала о его судьбе. Так и умерла в неведении. „Пропал без вести твой Саркис…“ – говорили ей люди.
Я выросла, вышла замуж и теперь в моей семье четверо внуков и внучек моего отца. И все мы хотим знать правду о своем отце и деде. Действительно он „пропал без вести“, или погиб за Родину, за свой народ?
И вдруг, совсем случайно, попалась на глаза информация Брянского областного партийного архива, напечатанная в газете. В ней сообщалось о действиях партизанского отряда имени Ворошилова под командованием Гуденко. В числе активных партизан этого отряда назван и Саркис Азарян. Радостно забилось сердце. „Может, это мой отец?“
Тут же послала запрос брянским товарищам. Сообщила данные об отце: уроженец села Матриса Шемахского района Азербайджанской ССР, работал до войны механиком на заводе „Красный молот“, в армии служил в 132-й стрелковой дивизии, последние известия о нем: участвовал в боях под Орлом.
Из Брянска сообщили, что действия партизанского отряда имени Ворошилова тесно связаны с Черниговщиной и мой запрос переправлен в Черниговский военкомат.
Поэтому обращаюсь к вам, уважаемые черниговцы. Жду от вас весточки о моем отце: какова его судьба, где его могила, если он погиб на черниговской земле в период Днепровской битвы».
Драгунов разослал письма во все районы области, где действовали в годы оккупации партизаны Черниговщины, попросил проверить все партизанские могилы – не значится ли на какой-нибудь из них имени Азаряна Саркиса Сандриговича.
И пришел ответ из Гремячского сельсовета Новгород-Северского района: «Партизан Саркис Сандригович Азарян похоронен в селе Гремяч в братской могиле – в парке возле участковой больницы.
Саркис Азарян руководил партизанским батальоном „Народные мстители“. Его батальон уничтожил более пяти тысяч гитлеровских солдат и офицеров, пустил под откос 17 фашистских эшелонов с живой силой и техникой, подорвал 23 паровоза, 76 автомашин, 77 орудий, 5 воинских складов и десятки мостов на железных дорогах, нарушил множество линий связи. К тому же тысячи советских граждан обязаны воинам этого партизанского батальона жизнью. Саркис Сандригович при выполнении одной операции погиб, как герой».
«Далеко от Баку городок Гремяч, что на Черниговщине, – написала в своем письме Драгунову Лилия Саркисовна после того, как он сообщил ей о месте захоронения ее отца, – но теперь он стал для всех нас родным и близким. В скором времени приедем низко поклониться могиле нашего незабвенного отца и деда – славного воина-партизана.
Вам, дорогой Владимир Денисович, огромное спасибо за ваш неутомимый поиск, за вашу большую заботу о тех, кто до сих пор не знает о судьбе своих близких, не вернувшихся с войны».
* * *
Таких благодарственных писем у Владимира Денисовича Драгунова сотни.
Али Гусейнов. Ты помнишь, командир?
Умирал мой бывший командир взвода. Уходил из жизни тихо, давно зная, что обречен. Я глядел на знакомые черты, на впалые щеки, заострившийся подбородок, полуоткрытые глаза, и хотелось приободрить его, сказать что-нибудь успокаивающее. Не получилось. А он вдруг, через силу улыбнувшись, тихо и внятно произнес:
– Да, брат, хреново. Но ничего, мы ведь и так по лотерейному выигрышу жили…
И раньше частенько повторял мой командир эти слова. В застолье, а то и так, когда житейская невзгода нагрянет.
Уходил из жизни мой командир. Был он лет на шесть-семь старше меня. В сорок третьем это была большая разница. Ведь мы тогда своего комполка, тридцатилетнего майора, величали почтительно – батей. Со временем разница в летах стерлась. И теперь взводный был уже не Дмитрием Дмитриевичем Дмитриевым, а просто Дмитрием. Димой…
Жили мы с лейтенантом в одном городе, встречались не так чтобы часто, но в День Победы – непременно.
…Где это было? На Днепре. Ты помнишь, командир, как переправлялись мы на островок какой-то безымянный с заданием корректировать огонь минометов? Лил нудный осенний дождь. Мокрым было все. Но меня, хилого, не брала никакая хворь (грешным делом думалось: отлежаться бы в тепле пару дней в медсанбате).
Влезли в утлую лодку, был с нами радист, только не наш, аккуратнейший сержант Шарый, а из другого дивизиона. Немец обстреливал переправу. Методически посылал снаряд за снарядом. Переправились. Окопчик вырыли неглубокий. Песчаник там – в землю как следует не влезешь. Стали обустраиваться. Пехота рядом, в основном «цивильные» – так мы новобранцев, не успевших еще обмундироваться, тогда звали. Ну вроде бы все в порядке. Стали развертываться, и оказалось, радист сплоховал, когда переправлялись: замочил, недотепа, батарейки питания. Что делать? Послать на тот берег? Нет, лейтенант, ты перестал ему доверять. Ты посмотрел на меня. И я все понял. Пошел к переправе. А что там творилось! Вдоль берега носился с пистолетом какой-то капитан, как сейчас помню, в пенсне, придирчиво осматривал раненых и никого на ту сторону не пускал. Я попытался объяснить ему что к чему. Он и слушать не хотел.
– Пристрелю, – кричит, – дезертир! Назад! Скоро штурм!
Наступление? А как же корректировка без рации? Нет, думаю, переправлюсь во что бы то ни стало! Пошел вдоль берега. А немцы огонь усилили, шлепают снаряды один за другим. Смотрю, плотик, три бревна, сверху плащ-палатка с сеном. Оттащил подальше, с расчетом на течение (а Днепр быстр в том месте), плюхнулся животом и поплыл. Капитан заметил и давай палить в меня. Да, видно, стрелок был никудышный, не попал. Переправился кое-как. Нашел своих, взял батарейки. Пергаментом мне их обернули. Ну, а дальше с превеликим трудом обратно, нашел тебя, командир. Связались с КП дивизиона. Через некоторое время дали огонь. Да какой! С визгом летели над головой снаряды и мины. Раз пять поднималась пехота. Но преодолеть мелководье не могла и снова откатывалась назад. Потом все стихло. Видать, не получится штурм. Берег вражеский – круче нельзя, я с первого раза понял, что орешек этот разгрызть нелегко будет. Вообще на войне отчего-то у врага берег всегда оказывался круче нашего. Так казалось. А вскоре – отбой. Дали нам команду возвращаться.
Обидно было. А впрочем, какие обиды на фронте: живые остались – и хорошо. Через многие годы, читая мемуары военачальников, мы с тобой узнали, что переправа эта была ложной, отвлекающей…
А помнишь, сколько мы вырыли всяких окопов за войну? И КП, и НП, и просто себе окопчик – землекопы мы были отменные. Перерыли, наверное, пол-Украины, пол-Белоруссии, пол-Польши. Командир ты был строгий.
– В полный рост!
– Бруствер, чтобы бруствер был обязательно.
– Хоть помрите, а перекрытия сделайте…
Ох и честили мы тебя за глаза. А теперь, через десятилетия, я думаю, берег ты нас как мог. Сачкануть-то иной раз и на фронте хотелось.
…Как-то мы говорили с тобой о страхе. Был ли он, страх? Конечно, но столько убитых кругом, что притуплялось само предчувствие опасности, риска. Могилы братские не пугали. Неосознанная до конца смелость. Откуда она? Чувство долга, солдатского товарищества – вот, пожалуй, что преобладало. И, конечно, лютая ненависть к врагу. Она была сильнее смерти. А еще я заметил: те, кто был старше по возрасту, берегли себя больше, нет, не то чтобы берегли, а осторожнее нас были. И это закономерно – у многих семьи, дети, жизненный опыт.
А впрочем, в нашей смелости было что-то залихватское, мальчишеское. Может быть, поэтому и вернулось нас так мало…
А однажды… Помнишь, командир, ночь была кромешная. Где-то в полукилометре – передний край. Справа светлее – там горела деревня. Нам с тобой приказ: выйти к пехоте и обеспечить утром корректировку огня. Нагрузил я на себя пару катушек связи, ты перекинул через плечо телефон. Идем, скрипит катушка, разматывая провод. А чем дальше, тем легче тащить этот груз. Шли-топали, но… стоп. Пора менять катушку. А где же пехота?
«Наверное, передок дальше, – сказал ты, – вечно полковая разведка напутает». Шагаем дальше. И хотя бы стреляли впереди, или там немец ракеты или «фонари» запустил. Нет. Тишина. Это бывало на войне. Особенно перед заварухой. А тут и вторая катушка кончается. А устали, ноги не несут.
– Что будем делать, товарищ лейтенант? – спрашиваю.
– А ну к черту все, – ответил ты, – давай ночлег искать.
Тут и уперлись в копну. Такую пахучую, мягкую, теплую. Влезли в нее, в самую середку. Прозуммерил – связь есть.
– Где вы? – спрашивают на КП.
– Не знаю, – говорю, – две катушки размотал.
– Ладно, оставайтесь до утра, – приказывает командир дивизиона. – Рассветет, разберетесь…
Уснули. Эх, я часто потом, особенно в бессонницу, через долгие годы вспоминал, как же мы отменно засыпали на войне. Могли спать стоя, в снегу, в луже. Однажды я заснул в окопчике, через полчаса подошла «катюша», встала рядом, дала залп – я даже не шелохнулся. Ребята после рассказывали, что подумали: не контузило ли меня?
Проснулся я от холода. Почти совсем рассвело. Первым делом по привычке хотел прозуммерить – проверить связь. Но какая-то непонятная сила заставила разгрести сено. И я увидел… Прямо к копне, на ходу расстегивая ремень, шел немец. А дальше, метрах в сорока-пятидесяти, на дороге стояли примерно рота вражеских солдат и три танка. Сунулся обратно в копну. Тихо толкнул тебя, зажал рот и прошептал:
– Мы в тылу. Рядом немецкие танки…
– У, чертова пехота, – проворчал ты, – прошли ее. Заснули, видно, славяне.
Честно говоря, я немного растерялся. Но со мной был ты, мой командир, и твое решение было самым верным:
– Берем огонь на себя! Повезло, ориентир – дерево – видишь?
Нет, не подбили нашим огнем танки, да и фрица ни одного не убило, наверное. Пока батарея пристреливалась по нашей корректировке – разбежалась пехота, повернули назад машины. А пара мин разорвалась рядом с копной, но что-то нужное для своих мы сделали. Потом весь этот знойный день просидели в сене, хотелось есть, еще сильнее глотнуть воды. Самое печальное – к вечеру связь с КП оборвалась, видно, миной провод срезало.
Но носа не высунешь: по дороге нет-нет да и проскакивали то машины, то танки. Пехота не показывалась. А там, откуда мы пришли, шел жаркий бой. Иногда снаряды и мины, урча, проносились над нами да жужжали пули.
Так и просидели весь день в копне. К ночи отвалил фриц. Тут наши батарейцы еще огоньку поддали.
Утром следующего дня прошли наши танки, и вот она, родная пехота. Я помню, командир, как ты ей обрадовался. Ведь всю ночь ругал ее, сермяжную, а тут первого расцеловать был готов. Правда, тут заминочка произошла. Задержали нас. Для выяснения личности в СМЕРШ отвели. Пока там выясняли, не разведчики ли мы вражеские, наш полк перевели на другую позицию. Еще пару дней искали свою часть. Кто был на войне, знает, что это такое. Начнешь спрашивать, начинают спрашивать тебя…
Наконец нашли своих. Конечно, рады были до смерти и мы, и ребята наши. Меня-то что? Тебя, командир, боялись потерять.
За этот случай (какой там подвиг – пехоту свою прошли) нам с тобой ничего не дали. Я как-то вроде невзначай спросил тебя, лейтенант, об этом.
– Подумаешь, – улыбнулся ты, – великий Суворов за Измаил ничего не получил. А мы пару дней в копне провалялись.
…Уходил из жизни мой командир. Уходил тихо, мужественно, как солдат. Достала она, проклятая, его через сорок пять лет.
Что тут скажешь? Помолчим. И пусть новому поколению никогда не достанется доля наша. Будь она проклята, война! Это твое и мое слово, командир. Наше последнее слово!
Геннадий Карпушкин. Имя из Книги Памяти
Как-то одна знакомая журналистка, беря у меня, члена редколлегии областной Книги Памяти, интервью, спросила: много ли мне попадается там близких имен? Что я мог ответить ей в пятиминутной радиопередаче? Между тем вопрос ее всколыхнул бездну раздумий и чувств…
Близкие мне имена в Книге Памяти? Это прежде всего мои деревенские соседи. Слева – братья Гришаевы: Александр Иванович, Иван Иванович и Михаил Иванович. Справа – братья и сестра Колобковы: Сергей Федорович, Семен Федорович и Анна Федоровна. Это и мои братья: родной – Валентин Васильевич Карпушкин, двоюродные – Иван Григорьевич, Петр Григорьевич и Степан Григорьевич Лактюшины…
Несли ли когда-нибудь в веках семьи российских селений такие потери? Мне оскорбительны как заниженные, так и завышенные числа погибших в войне, приводимые в целях мелкого политического расчета. В последнее время их завышают прямо с какой-то сладострастной кровожадностью. Кое-кто, скажем, называет цифру в 60 миллионов человек. Что ж? В этом случае можно предложить простой арифметический расчет: сколько вообще могла поставить под ружье страна, имеющая стовосьмидесятимиллионное население, из которого половину составляли женщины, а из другой половины не меньшая часть приходилась на стариков и детей? Мне скажут: под ружье становились и погибали женщины. Все правильно! Но женщины становились в строй, как и мужчины, по велению сердца. И было-то их менее одного миллиона. Вот и повторяю я все тот же вопрос: могла ли вообще в то время страна поставить под ружье 60 миллионов своих сыновей и дочерей? К тому же надо учесть, что кто-то из них и не воевал вовсе, а многие пришли с войны живыми.
Что же касается точных, подтвержденных документально цифр потерь, то могу на основе опыта, приобретенного в работе над Книгой Памяти, вполне ответственно заявить, что исчерпывающих данных не содержит ни один – пусть даже самый авторитетный, принадлежащий министерству обороны – архив. Ни все другие архивы, вместе взятые…
Однако возвратимся к теме, обозначенной в заголовке статьи. Близкие имена из Книги Памяти – это и все погибшие мои одноклассники: Амелин Александр, Андреев Алексей, Гусаров Евгений, Дмитриев Дмитрий… Но тут я не могу не прервать себя.
Не могу потому, что Дмитриев Дмитрий Васильевич – это Митька. С тех пор как помню себя, не могу отделить от Митьки своего детства и юности. И на селе нас никогда не отделяли друг от друга. Где в каком-нибудь озорстве был замешан Митька, там сразу, без разбору, заодно обвиняли и меня. Когда нам было года по четыре, а может, по пять, – но точно уже при колхозе, – весной родители, уйдя в поле, оставили нас с Митькой без всякого присмотра. В нашей избе мы отыскали спички и подожгли соломенную завалинку. Оба посчитали себя глубоко обманутыми взрослыми, от которых слышали, что огонь заливают водой. Выплеснутая на пламя полная кружка воды не возымела никакого действия. Через дом от нас был тогда магазин. У его открытых дверей, на наше счастье, стояли проезжие мужики из соседней деревни. Они-то и погасили огонь, начавший было подбираться к низко нависшей над завалинкой соломенной кровле.
В этой жизни все во взаимной связи. Иногда бывает, что, посеяв всего лишь один поступок, пожинаешь судьбу. Превратности наших судеб начались сразу же после окончания семилетки, когда пришла пора вплотную начинать осуществление дерзкой мечты наших родителей, – выучить Митьку и меня на агрономов. Между тем в объявлении местного техникума, напечатанном в районной газете, черным по белому говорилось, что в техникум принимаются юноши и девушки в возрасте пятнадцати лет.
Василий Андреевич, Митькин отец, классный бондарь, в молодости побывавший на заработках и в Астрахани, и в Самарканде, слыл на селе человеком грамотным и бывалым. Оторвавшись от наструга, он взял газету в руки.
– Не примут, – безапелляционно изрек он, – им только по тринадцать. Определенно не примут!
Тетя Груша, однако, обладала в нашем небольшом, в пятьдесят домов, поселке неограниченным могуществом. Старший сын ее был председателем колхоза. Нужные справки тут же, без проволочек, были оформлены, нужные свидетели тотчас же найдены. Благо, в районном ЗАГСе при пожаре сгорели подлинные документы. Необходимые года были прибавлены без особых помех.
Уж не помню теперь почему, но документы в Песоченский техникум мы так и не подали. Пришлось обоим оканчивать десятилетку. Зимой и весной сорок второго года, когда мы еще не закончили учебы, наших одноклассников стали то и дело вызывать в военкомат. Нас с Митькой не трогали. Мы пошли к секретарю сельсовета – при этой должности тогда находился учетный стол. Секретарь, пожилой, седой мужчина, открыл свои книги. По ним мы призыву не подлежали.
– Не знаю, – уклончиво ответил секретарь на наш вопрос, как нам быть дальше. – Конечно, если потребуется, я могу и церковные записи поднять. Решайте сами.
Время было суровое, настрой у юношества был патриотический. И мы приняли решение. Для Митьки оно оказалось роковым. Для моей матери – острой неутихающей занозой в сердце до самого последнего дня войны. В районном военкомате, где мы показали выправленные три года назад свидетельства о рождении, таких только приветствовали. Направили на медицинскую комиссию, обоим предложили выбор – любой род войск. Мы пожелали авиацию…
В холодный пасмурный день середины сентября к Василию Андреевичу приехал на дрожках другой Дмитриев зять. Гражданский человек, он еще с довоенных времен служил в военкомате. Я пришел, когда гость сидел с тестем за столом. Митька вышел мне навстречу, отвел в сторону и мрачно прошептал:
– Ать, два…
Это означало, что нас забирают. И забирают в пехоту. На другой день в военкомате молодой капитан усадил Митьку и меня за стол, дал по листку бумаги.
– Пишите! – приказал капитан и стал диктовать текст: «Начальнику Рязанского пехотного училища полковнику Гарусскому…»
Мы вмиг опустили ручки и что-то протестующе стали мямлить в ответ.
– Что?! – рявкнул капитан. – Поедете в стройбат. И порознь.
Мы снова покорно взялись за ручки…
В училище, широко известном в армии тем, что при обучении здесь будущим командирам не дают никаких поблажек, мы с Митькой старались тянуться за всеми. Хорошо натренированные еще в школе, выбивали из боевой винтовки 48 или 49 очков из 50-ти возможных.
Митьке все же было чуточку легче. Он вышел из богатырской семьи, где сила, ловкость, смелость были в традиции. Его отец, трое братьев, да и сам Митька – люди рослые, плотные, как говорится, косая сажень в плечах. Про деда его, Андрея Савельевича, георгиевского кавалера и говорить не приходится: про того на селе ходили прямо-таки легенды – будто в молодости он, подвыпив малость, подлазил под коня, приподнимался и отрывал лошадь от земли. Митька гордился своим дедом и не раз, когда Андрей Савельевич был еще жив, выносил на улицу его боевые награды, цеплял себе на грудь. Память почему-то услужливо вызывает из дымки давности такое видение – серебряная, чуть больше полтинника, медаль и на ней надпись: «За храбрость».
Хотя и мой род тоже не был обделен чуть ли не двухметровыми великанами, хотя и в моем роду тоже был георгиевский кавалер, участник русско-турецкой войны – бомбардир-наводчик Корней Иванович Карпушкин, – я заметно уступал Митьке и в ловкости, и в боевитости. Проще говоря, был жидковат в сравнении с ним.
В военном училище нас ночами часто поднимали по тревоге – иногда просто проверить, как скоро рота приходит в боевую готовность, иногда для дальнего марш-броска. На этот раз, подняв по тревоге, нас построили на плацу. Стали зачитывать фамилии. Тем, кого выкликали, подали команду – выйти из строя! Военный приказ впервые разлучал нас: меня отправляли на фронт, Митьку оставляли в училище. Нам дали проститься. На нас были шинели, и поступили мы так, как подобает солдатам: по русскому обычаю обнялись, троекратно, крест-накрест поцеловались. И простились – навечно…
Должно быть, мы росли в самом лучшем на свете колхозе. Вопреки расхожим нынешним мнениям, у нас ценили и любили – с крестьянской жадностью – любой труд. И для праздности ни детям, ни взрослым не оставляли ни дня, ни часа. Не успел я прийти домой в отпуск по ранению, как старики-правленцы, сами бывшие солдаты, без обиняков, по-хозяйски рассудили: «Раздроблена нога – зато руки целы. В кузнице молотобоец-мальчишка. Наковальню под него специально пришлось углублять… Ничего, поднимете снова. С Павлом Гаврилычем, ему не привыкать… Надолго ли? А это уж как выйдет – насколько позволят тебе военные власти…»
В то утро, как всегда, я шел в кузницу мимо конного двора. Женщины, сбрасывающие с сушила сено, махнули мне:
– Зайди!
В их властном зове мне сразу почувствовалось что-то недоброе.
– На Митьку, твоего друга… похоронку прислали. Еще вчера. Уж почтальонша не хотела дядю Васю на ночь убивать. Утром вручила… Помертвел весь, горюн, сказал, что для него теперь война уже кончилась…
Еще раньше Василий Андреевич получил весть о гибели другого своего неженатого сына – Николая. Конечно, пули и осколки в бою одинаково не щадят и злых и добрых, и лживых и правдивых, но десница войны, думается, все же чаще падает на лучших – людей совести, людей чести…
В рабочей группе Книги Памяти на Митьку не оказалось архивных документов, из которых можно установить дату и место гибели воина. Но я смело могу определить: похоронку ту принесли перед новым 1944 годом. С теми днями связано одно не совсем обычное воспоминание. На вечерке девчата дотошно допытывались у меня, нежданного-негаданного жениха, кого, какую суженую я видел во сне в новогоднюю ночь. Я отвечал, сознавая зыбкость положения солдата-отпускника, почти по частушке: «У меня суженой нет, нет и не имеется». «А во сне видел Митьку, – добавил я уже вполне серьезно и перевел взгляд, как бы ища сочувствия, на солдатку Настю Гришаеву. – Надо же такому присниться: пришел он во всем гражданском, в костюме, при галстуке. Такой прифранченный он был, когда мы ходили перед самым призывом в гости к Таньке, его сестре. Там у нее тогда молодая новая учительница жила, для нее, должно, он и прифрантился… Вот не пойму только: вроде бы к себе на гулянку звал…» И тут я вдруг осекся, видя, как у Насти от страха расширяются зрачки, как бледнеет, каменеет ее лицо. Признаюсь, у меня захолонуло в сердце, когда она не своим голосом, со значением сказала: «Это дурной сон. Митька тебя к себе зовет! И ты пошел за ним?»
С достоверностью, какую можно получить разве что из архивных метеосводок, могу утверждать, что 31 декабря 1944 года на Курляндском полуострове, под Либавой, в сырую, заплывшую в непогодь землю целый день лил сильный, холодный дождь. Под вечер в хвойном лесу завязался тяжелый бой. Противники так сблизились друг с другом, что невозможно было отличить, где бьет наша танковая пушка, а где танковая же немецкая. И от чьих это выстрелов оседает наземь мокрый лапник, сбитый ударной волной. Больше чем когда-либо жаждал я спасительной темноты: с приходом новогодней ночи истекал срок грозящего мне Настина пророчества…
Дальше, если следовать порядку, по которому фамилии погибших на фронте моих сверстников располагались бы в классном журнале, идут: Кирюхин Федор, Куликов Борис, Липаткин Иван, Маркешкин Николай, Осокин Василий, Романов Василий (Василий Федорович Романов – родной брат Виктора Федоровича Романова, известного в нашей области председателя колхоза «Доброволец», увы, ныне уже покойного).
Заключает этот скорбный список Сергей Хромов. Не просто отличник, прилежный ученик, но исключительно одаренный, талантливый юноша, которому наши учителя единодушно прочили карьеру ученого. Однажды в популярной центральной газете я увидел статью за подписью Сергея Хромова, профессора МГУ. Я был так поражен, что начал было наводить справки у земляков, впрочем, хорошо сознавал безнадежность затеи, – может, в память мою что-нибудь неверное запало, может, все-таки живым остался Сергей?..
Очень может быть, что я и забыл кого-то из своих одноклассников, убитых на войне. Но и того, что вспомнил, пожалуй, достаточно, чтобы убедиться в одном широко распространенном утверждении: из ста призывников двадцать четвертого и двадцать пятого годов рождения с фронта домой вернулось лишь двое-трое. Но мне хотелось бы тут сказать еще об одной стороне злосчастной судьбы моих сверстников.
С глубокой древности человеческая мысль, когда она касалась бессмертия всего сущего и вечного обновления жизни, знает пример: зерно, брошенное в землю, не умирает бесследно, оно истекает в росток, который затем кустится и дает во много раз больше зерен взамен одного семени. Отвлечемся, однако, от всего чувственного, иррационального, так свойственного смертной душе. Обратимся к одним лишь логическим категориям и признаем: предусмотрительная природа в этом отношении куда милостивее расположена к человеку – он еще на своем веку может видеть, как развиваются его ростки, какими внешними чертами и какими чертами характера он будет продолжать жить в своих детях и внуках и даже правнуках.








