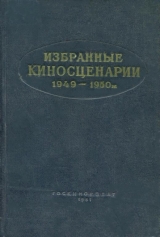
Текст книги "Избранные киносценарии 1949—1950 гг."
Автор книги: Александр Попов
Соавторы: Лев Шейнин,Владимир Крепс,Борис Горбатов,Петр Павленко,Владимир Алексеев,Михаил Маклярский,Фрицис Рокпелнис,Константин Исаев,Михаил Чиаурели,Михаил Папава
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
П. Павленко, М. Чиаурели
ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА
Фильм „Падение Берлина“ в 1950 году удостоен Сталинской премии первой степени.
На V Международном кинофестивале в Чехословакии в 1950 году фильму „Падение Берлина“ присуждена первая премия фестиваля – „Хрустальный глобус“.
Цветущее поле.
Отдаленно возникает детская песня:
Хороший день, земля в цвету.
Цветы растут и я расту,
Цветок взойдет и опадет,
А мне расти из года в год.
Дети проходят, взявшись за руки, и поют:
Земле цвести
И нам расти.
Весенним и прекрасным днем
О счастье давай споем,
О счастье, о весне
В нашей солнечной стране…
Среди ребят учительница Наташа Румянцева:
– Пошли, ребята, пошли. На завод опоздаем…
Ребята берутся за руки и вместе с Наташей поют:
Хороший день, земля в цвету.
Цветы растут и я расту…
Очертания гигантского завода и рядом с ним живописного заводского поселка выступают на фоне утреннего неба. Вот-вот рассветет. Даже птицы – и те еще не проснулись как следует и только сонно отряхиваются в нежной весенней зелени деревьев.
Но вот тишину раздвинул могучий низкий голос заводского гудка. Его октава величественно всколыхнула воздух, как хорал.
Зачирикали птицы.
Кудлатый пес, со стоном зевнув, нехотя вылез из своей будки и заспанными глазами огляделся.
Где-то вдали зазвучало радио.
День начался, хотя солнце еще не взошло.
Мартеновский цех.
Блеск расплавленного металла слепит глаза. Выпуск плавки. Огнедышащая струя металла льется в ковш.
Едва различимые фигуры сталеваров в спецовках, рукавицах и синих очках движутся у пылающих печей.
Молодой сталевар, сдвинув на лоб очки, присаживается и вытирает лицо.
Свет пламени играет на его одежде. Кажется, что она сейчас вспыхнет.
К сталевару подбегает редактор стенгазеты Зайченко со свежим экземпляром «Красного сталевара» в руках.
– Алеш, – кричит он, но сквозь шум цеха его едва слышно. – Сколько сегодня выдал за смену? – и показывает номер многотиражки с портретом Алексея на первой полосе. – Вот, в героях ходишь! Вчера дал девять тонн с квадратного метра. Сегодня не подкачал?
– Ступай ты к чорту, – улыбаясь говорит Алексей, – пиши – одиннадцать тонн с квадратного метра.
– У-у-у… так це ж всесвитный рекорд, Алексей, – радостно ахнул Зайченко и заторопился, чтобы не опоздать с этой новостью.
Мы следуем за ним по мартеновскому цеху.
Стайка школьников, окружившая девушку-учительницу, пугливо топчется в дальнем углу. Учительница рассказывает, и ребята внимательно слушают ее.
– Ребята, я вам уже рассказывала, что первые металлургические заводы в России были построены царем Петром, но они были маленькие… – говорит учительница.
– Наталья Васильевна, а Стаханов тоже был при царе Петре? – прерывает ее Ленька Гуров.
Рассмеявшись, учительница отвечает:
– Что ты! Стаханов родился в наше, советское время. Таких людей, как он, раньше не могло быть.
Учительница очень молода, лет двадцати, очень красива. Ее тоненькая, почти детская фигурка выражает большую волю, лицо открытое и смелое.
Она, видно, приготовилась к долгой беседе, но подбежавший редактор «Красного сталевара» помешал ей.
– Это что такое? Это что такое? – кричит он еще издали. – Экскурсия? А печать ничего не знает… Как же так? Некрасиво, Наталья Васильевна! – И он пожимает ей руку, в шутку притворяясь рассерженным. – Однако дадим заметку и об экскурсии. – Ловко развернув лист, он начинает быстро записывать на уголке: «Школьная экскурсия тов. Румянцевой».
Ребята, подталкивая друг друга, разглядывают тем временем портрет Алексея Иванова, лучшего сталевара завода.
– Ну, я бегу, Наталья Васильевна! – говорит Зайченко. – Алешка Иванов сегодня одиннадцать тонн дал, красота! – И, оставив экскурсию, мчится из цеха через широкий заводской двор в контору. – Он бежит, размахивая газетой и крича встречным: – Одиннадцать тонн с квадратного метра!.. Всесвитный рекорд! Можете себе представить?!
Секретарь директора завода Лидия Николаевна, девушка в локонах, которые так красиво и замысловато уложены на ее голове, что напоминают шоколадный торт, говорит по телефону:
– Нет его… да, да. Что у вас, рентген с собой? Ну, занят, потому и нет…
Звонит второй телефон. Не кладя первой трубки, она подносит к уху вторую.
– Алло! Нет директора. Что? – ее лицо вдруг краснеет. Она вскакивает в сильнейшем волнении. – В «Правде» прочитали? Честное комсомольское? – И, бросив телефонную трубку, она приказывает вбежавшему Зайченко: – Костя, милый, беги к комсоргу Томашевичу, возьми «Правду», нам всегда позже всех приносят. Скорей, скорей!
Зайченко, не понимая срочности дела, говорит ей:
– Я хотел Хмельницкого повидать. Алешка Иванов сегодня одиннадцать тонн дал!
– Оставь, Хмельницкий занят. Беги, я тебе говорю, за «Правдой». Такое случилось…
Зайченко, которому невольно передается волнение Лидии Николаевны, исчезает, бросив свою газету, а секретарша, поправив прическу, входит в кабинет, на двери которого значится: «Директор завода».
Хмельницкий – грузный, здоровый человек, из рабочих, с большими руками, в которых перо кажется былинкой, углублен в работу.
– Василий Васильевич, – шепчет секретарша, – Василий Васильевич!
– Скройся! – мрачно отвечает он басом, не отрываясь от работы.
– Василий Васильевич!
– Скройся, говорю тебе!
Не скроюсь… Орденом нас наградили!
– Что?
– Орденом Трудового Красного Знамени.
Хмельницкий, подпрыгнув, выскакивает на середину комнаты. Секретарша пробует скрыться за дверь, но он, схватив ее за руку, возвращает в кабинет.
– Кто сказал?
– В «Правде» напечатано.
– Где «Правда»?
– Да вы же никогда не читаете ее здесь, я посылаю вам на квартиру, – лепечет Лидия Николаевна, то и дело поправляя свои локоны, а Хмельницкий продолжает держать девушку за руку.
В кабинет директора врывается группа рабочих с возгласами «ура!». Впереди заслуженный сталевар Ермилов и комсорг Томашевич.
Е р м и л о в. Слыхал?
Х м е л ь н и ц к и й. Давай газету!
Т о м а ш е в и ч. Смотрите!
Х м е л ь н и ц к и й (читает газету). «Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении…»
Е р м и л о в (перебивает). Алеше Иванову – орден Ленина, тебе, Васильич, тоже. А мне «Знак».
Раздаются возгласы рабочих:
– Поздравляем!.. Поздравляем директора!
Х м е л ь н и ц к и й. Ну, поздравляю.
Раздаются радостные крики:
– Качать директора!
– Ура!
Хмельницкого на руках с радостными возгласами выносят из кабинета.
Алексей Иванов с товарищами выходит из цеха, к нему навстречу бежит группа рабочих. Его поздравляют, аплодируют, преподносят букет цветов.
На заводском дворе собрались сталевары. Хмельницкий стоит среди массы ликующих рабочих мартеновского цеха.
Х м е л ь н и ц к и й. Только теперь работать надо еще лучше. (Увидел старого рабочего, подходит к нему.) А, Николай Порфирьевич, поздравляю, очень рад за вас.
Хмельницкого окружает группа ребят с Наташей Румянцевой.
Р е б я т а (хором). Поздравляем вас, Василий Васильевич!
Х м е л ь н и ц к и й. Это что же, экскурсия?
Н а т а ш а. Да.
Х м е л ь н и ц к и й. Молодец, молодец, учительница! Вот тебе еще нагрузка, Наталья Васильевна, приходи сегодня в клуб и будешь делать доклад о товарище Иванове.
Н а т а ш а. Как же так, Василий Васильевич? А я же о нем ничего не знаю.
Х м е л ь н и ц к и й. Ничего, ничего, зайди к его мамаше, она тебе многое расскажет.
И не успела Наташа вымолвить слова, как Хмельницкий уже скрылся в толпе рабочих. Наташа стоит, устремив взгляд вперед.
Живописный рабочий поселок. Тихие тенистые улицы. Маленькие домики с палисадниками.
Наташа Румянцева идет, окруженная школьниками. Они поют хором.
Из калитки выходит Иванов в светлом костюме и в шляпе, отлично выбритый.
– Вы не знаете, где дом Ивановых? – спрашивает его Наташа.
– Вот этот самый, – равнодушно отвечает молодой человек, не обращая никакого внимания на учительницу и удаляясь быстрыми шагами.
Ребята удивлены:
– Да это ж и был Иванов, Наталья Васильевна. Не узнали?
Наташа входит во двор. Ребята остаются ждать ее у калитки. Они вынимают из карманов бабки, и начинается игра. Лохматый черный пес Леньки Гурова принимает деятельное участие в игре мальчиков.
Сени. Навстречу Наташе выходит пожилая женщина.
– Простите, здесь живет товарищ Алексей Иванов?
– Да, только что вышел. Разве не встретили?.. Алеша! – зовет она. – Алеша!
Смущенная Наташа удерживает ее:
– Не нужно, не нужно! Мне удобнее, собственно говоря, с вами.
Ребята глядят в щели забора на то, что происходит во дворе.
Мать Иванова и Наташа сидят под цветущей черемухой, вестницей русской весны. Старуха рассказывает:
– Мы спокон веков сталевары: и муж покойный был сталеваром, и батюшка мой тем же делом всю жизнь занимался, и деды наши, и прадеды. Поначалу на Урале фамилия наша жила, а потом сюда перебрались, при Сталине, как бы сказать, приглашены были делу пример показать, потому как мы люди не простые, девушка. Мы люди знатные, себе цену всегда знали. Алешенька, конечно, всех дедов своих перегнал, в большой почет вышел. Про себя он мне иной раз говорит: – «Я, – говорит, – мама, сталинец». И правда, сталинец, ничего не боится, ему препятствий нету. Строптивый такой парень получился, дай ему бог счастья. Любознательный был мальчонка, до всего тянулся. Часы приметит или там гармонь – сейчас в руки загребет, давай разбирать.
Ребята слушают, прильнув к забору. Бабки забыты. Все их внимание приковано к рассказу матери Иванова.
Наташа говорит:
– Вы все мне чудесно рассказали, Антонина Ивановна, кроме одного: когда он родился?
– Ох, матушка ты моя, красавица, – говорит Антонина Ивановна, – забыла я. Ну, да он у меня государственного рождения человек. Двадцать пятого октября, по старому стилю, тысяча девятьсот семнадцатого года – вот когда родился. Покойный мой муж, бывало, говорил: «Ты, мать, вроде как крейсер «Аврора» – по старому режиму сыном вдарила». И то – вдарила! Экий сын! Правда, что снаряд – все на свете пробьет.
Дети удивленно шепчутся у забора:
– Кто это «Аврора» – она, что ли?
– Да не она, а вроде… это сравнение.
– Сам ты сравнение! Она же старуха, а не крейсер…
– Вот я как дам по уху, будешь знать, кто «Аврора»!
И затевается шумная возня, быстро переходящая в потасовку. Кто-то стукнулся спиной о забор. Забор зашатался. Закричали в несколько голосов:
– Подначку нельзя! Я Наталью Васильевну позову… Наталья Васильевна, Ленька рогаткой бьется!.. Наталья Васильевна!
Наташа Румянцева прощается у ворот с матерью Иванова.
– Приходите вечером в клуб, – приглашает Наташа.
– Приду, приду, красавица, – говорит старуха, – послушаю твой рассказ.
Большой клуб переполнен. В президиуме Хмельницкий, Ермилов, инженеры, среди рабочих в партере Иванов. Пот льет с него ручьем. Рядом с ним товарищи – Костя Зайченко и Томашевич.
Наташа стоит у трибуны. Она докладывает, волнуясь:
– Все наше – и сталь, которую мы варим, и машины, которые строятся из этой стали. Я счастлива, что живу в такое замечательное время и что в первых рядах моего поколения идут люди, подобные Алексею Иванову.
Аплодисменты.
Иванов разглядывает Румянцеву. Ему не верится, что она может сказать что-нибудь толковое.
Костя Зайченко, аплодируя, толкает Алексея в бок:
– Хорошего, Лешка, себе агитатора нашел.
Тот смущенно откашливается:
– Чорт ее знает, чего несет…
Слышен голос Наташи:
– На его глазах создавалась наша страна. Вместе с нею мужал и крепнул характер Иванова…
И мы пробегаем глазами по залу, по лицам сидящих.
Вот в первом ряду Антонина Ивановна, мать Иванова, рядом с ней другие матери и отцы, старики-сталевары с медалями и орденами на груди.
А дальше безусая молодежь, юноши и девушки, тоже с медалями и значками отличников, и совсем юнцы, фабзавучники, будущие мастера стали.
Все народ крепкий, сильный, веселый.
Взгляд Иванова неотступно и восторженно следит за Наташей.
Зайченко толкает Томашевича в бок, обращая его внимание на Иванова.
И Томашевич шепчет Алексею на ухо:
– Ты где же с ней успел познакомиться?
– Да я даже и не знаком.
– Откуда она о тебе знает? И любознательный, и часы починил, и то, и се…
– Шут ее знает. Я не знаком.
– Не ври. А я думал, что мы одни с Костей Зайченко по ней страдаем; оказывается, и ты нашего полку, брат.
– Да отстань ты! – морщится Иванов, но взгляд его не может оторваться от Румянцевой.
Зайченко огорченно шепчет Томашевичу:
– Пропал наш с тобой концерт, Витя! Слыхал, как она о нем? И герой, и человек будущего…
– Погоди, Костя, вот как ты споешь, а я сыграю новую вещь, она и о нас так говорить станет. Ей-богу! А это ж она по обязанности, общественная нагрузка!
Румянцева продолжает:
– Я очень волнуюсь, потому что никогда не произносила речей, и я думаю, что вы тоже за меня волнуетесь. Я сейчас закончу. Вот что я хочу сказать, товарищи… Кто привел нас к победам сегодняшнего дня? Кто открыл перед нами все возможности? Вы знаете, о ком я думаю. Но я сейчас вот что хочу сказать: для меня было бы величайшим счастьем увидать его и сказать ему, что я… но поскольку это невозможно… я просто скажу: да здравствует товарищ Сталин, породивший нас для великой и счастливой жизни!
Зал поднимается рукоплеща. Возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин!», «Сталину – ура!»
Вестибюль клуба. Здесь очень оживленно. Появление Наташи Румянцевой, Зайченко и Томашевича встречается аплодисментами. Наташа, взволнованная выступлением, аплодисментами, говорит своим спутникам, как бы оправдываясь:
– Как смогла, так и сказала…
Навстречу выходит Алексей Иванов, его мать и Ермилов.
Наташа шепчет Томашевичу:
– Это его мама…
Мать Иванова подходит к Наташе и, обняв ее, говорит:
– Ну и соловей, ну и оратор. Уж так уважила, так уважила нашу фамилию. Алеша, ты бы хоть спасибо сказал Наташе…
Алексей, пожимая руку Наташе, говорит:
– Разрешите поблагодарить от всего сердца. Своим докладом вы меня просто в краску вогнали.
– Ну, что вы… Это я должна вас поблагодарить за великолепный рекорд.
Томашевич берет под руку Наташу:
– Разрешите в качестве подшефного музыканта проводить вас домой.
Алеша, отстраняя Томашевича:
– Нет, брат, сегодня уж буду я провожать, так сказать, в качестве подшефного сталевара.
Все кругом смеются. Иванов берет под руку Наташу и, уходя, говорит матери:
– Мама, иди домой, я скоро буду.
Улица перед домом Наташи. Идут Наташа и Алексей. Наташа на ходу декламирует:
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальной
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом…
и, остановившись, смеясь, спрашивает Алексея:
– Кто это написал?
Алексей, смутившись и неловко переминаясь с ноги на ногу, только промолвил:
– Это?..
Наташа смеется:
– Это Пушкин написал.
– Может быть, Пушкин.
– А вот это? – и, взойдя на крыльцо, Наташа декламирует:
Здесь встанут стройки стенами,
Гудками, пар, сипи.
Мы в сотню солнц мартенами
Воспламеним Сибирь.
– Маяковский!
– Правильно, – говорит Наташа, несколько удивившись.
– А это ваш дом, да? – в замешательстве обняв водосточную трубу, спрашивает Алексей.
– Да… Может быть, зайдете к нам?
– Да нет, уже поздно, – отвечает Алексей, посмотрев на часы. Они прощаются.
– Большое вам спасибо, – говорит Алексей. – До свиданья.
Наташа входит в дом, подходит к окну и видит, что Иванов, забыв выход из палисадника, идет вдоль дома. Выглянув из окна, она, смеясь, окликает:
– Товарищ Иванов, а вы не туда пошли.
– А где выход? – спрашивает Алексей, подойдя к окну.
– Там, – указывает на калитку Наташа.
Иванов, порывшись в карманах, достает два билета:
– Наталья Васильевна, пойдемте завтра на концерт. Вот у меня два билета, – и протягивает ей билеты.
– Спасибо, – говорит Наташа. – Я с удовольствием пойду. Только вы заходите за мной.
– Да нет, уже вы сами приходите, я буду ждать, – смущаясь, отвечает Алексей и, снова прощаясь, наконец уходит.
На концерте Алексей сидит рядом с Наташей, но, как ни странно, ему скучно и неуютно. Музыка не понятна ему и, видимо, невероятно утомляет. Желание вздремнуть так сильно, что он едва сидит. Глаза против воли смыкаются.
– Ох, ей-богу, хуже, чем в ночной смене! – наконец, произносит он вслух, и Наташа, зашикав на него, беззвучно смеется.
Она вся поглощена музыкой и тем вниманием, которое оказывал ей со сцены Томашевич. Он ей одной улыбался и кланялся, и для нее одной играл.
Закончилось первое отделение, и все направляются в фойе. Томашевич не отходит от Наташи, они с увлечением говорят о Чайковском, и Алексею не удается вставить ни слова в их разговор.
В это время подбегает Костя Зайченко, разодетый, как жених, с цветком в петлице.
– Выпьем по кружке? – предлагает ему Алексей.
– Что ты, что ты! – машет Зайченко руками. – Мне сейчас выступать.
Оставив Алексея одного, он убегает не оглядываясь.
Подходит Хмельницкий и, окинув взглядом обстановку, сразу определяет положение.
– Не светит твое дело? – спрашивает он Алексея сочувственно. – Ну, ну, не гляди быком, я к тебе с сердцем.
Он берет Алексея под руку.
– Ты смотри… не снижай темпов наступления… всем фронтом, понятно?.. Сталь музыку всегда переспорит. Держись крепче.
Алексей неприязненным взглядом окидывает Наташу и Томашевича.
Раздается звонок, народ повалил в зал, и Томашевич, взяв Наташу под руку, увлекает ее вместе с другими, а Алексей, прячась за спинами людей, идет следом.
Думая, очевидно, что Иванов сбежал, Томашевич садится рядом с Наташей, а Алексей, прислонившись к боковой колонне, наблюдает за Наташей.
На сцене поет Зайченко. Его молодой красивый голос проникает в самое сердце.
Слеза бежит по лицу Алексея. Он не замечает ее. Он стоит, прислонив голову к колонне, и, глядя на Зайченко, мучается.
Не песня смутила Алексея, смутила его любовь к Наташе. К ней одной тянется его душа, и Алексей не знает, дотянется ли. Новый мир нежности и красоты открылся перед ним в ее лице. Но его ли этот мир и здесь ли проходит путь настоящей жизни, этого он еще не может понять. Полюбит ли она его? Сомнения одолевают Алексея, ему думается, что счастье быть любимым не для него. И он зол на все, что препятствует ему быть рядом с Наташей.
Наташа, издали наблюдавшая за Алексеем, обеспокоена.
Рабочие из бригады Иванова во главе с Ермиловым обратили внимание на странное состояние Алексея.
Ермилов, подмигивая товарищам и указывая на Ивановна глазами, говорит:
– А наш-то, – того, по всему видно, в любовь ударился.
Все тихо засмеялись. Иванов увидел устремленные на него насмешливые взгляды товарищей.
Он стоит, сжав кулаки, и если б не стыд перед людьми, – он бы выдрал все вихры у этого Томашевича и надвое переломал бы «проклятого» Зайченко. Тяжело дыша, он оставляет клуб и один идет по темным улицам к реке; слезы бегут по его лицу.
Сев на берегу, он запел. У него хороший баритон, и он любит петь, только стыдится. Но сейчас, в тишине весенней ночи, под дальнее пение первых соловьев, песня его льется свободно, как разговор с самим собой.
Эх ты, Ваня, Ваня… —
поет он, отирая слезы.
Ему хорошо наедине со своей тоской.
Постепенно песня успокоила и ободрила Алексея. Он находит утешение в ее звуках, и новые надежды шевелятся в его душе.
Ночь. Комната Иванова. Он сидит за столом. Развернул том Пушкина и отбросил, заглянул в стихи Лермонтова и не прочел ни строки, а потом, сжав голову руками, погрузился в чтение Маяковского.
Мать входит к нему и сразу догадывается о причине мрачного настроения.
– Отказала? – спрашивает она.
– Не говорил еще, – отвечает он.
– Ты – как отец, тянешь, тянешь, пока всю душу не вымотаешь. Я, знаешь, когда отец покойный за мной ухаживал, ему аж два подметных письма послала: дескать, торопитесь, а то вашу даму могут увезти в добрый час…
– А он?
– Отец-то? Шальной был, вроде как ты – прибег, аж двери затрещали. Довела я его тогда… А может, тебе стихи ей написать? – спрашивает мать. – Я одного знала, он все больше стихом завораживал, вычитает где-то, себе в бумажку спишет – и ну привораживать. Вон их у тебя сколько! Спиши, которые красивее, и пошли…
Он молчит.
– Девушка чистая, хорошая, ничего не скажешь, – вслух думает мать, – но только не для тебя она, Алеша: ты человек рабочий, а она… из ученой семьи. Ее родитель инженер, что ли, большой…
Сын засыпает, опершись на руки. Мать подходит к столу и читает:
Литературная шатия,
Успокойте ваши нервы.
Отойдите – вы мешаете
Мобилизации и маневрам…
– Да… не подходит к нашему делу… Ну, утро вечера мудренее, – и выходит на цыпочках, стараясь не потревожить сына.
Иванов стоит в кабинете у Хмельницкого.
– Василий Васильевич, дай ты мне какой-нибудь отпуск или учиться пошли куда-нибудь подальше, – не могу я тут больше.
Хмельницкий басит:
– Прописал бы я тебе отпуск по шее, да вашему брату везет. В Москву вызывают. Собирайся.
– Я готов хоть сейчас, хоть в Москву, хоть на полюс, – говорит Иванов. – А кто вызывает-то?
– Сталин, – отвечает Хмельницкий.
– Не поеду, ни за что не поеду!.. Да как же я… – взволнованно бормочет Алексей.
– Поговори у меня! – грозит Хмельницкий. – Вместе летим. Я тебя ни на шаг не отпущу…
– Не поеду, – настаивает Иванов, – боюсь, даже представить не могу, чего я говорить буду…
– Чудак человек, говорить ему надо… С тобой будут говорить, а ты знай себе слушай, ума набирайся… Такое человеку счастье, а он еще ерепенится!.. Пошли, милый, самолет ждет…
Сад молодо зеленеет. Цветут деревья. Поют, заливаются жаворонки в небе. Сталин поднимает голову и прислушивается.
В белой домашней куртке Сталин обминает ногой землю вокруг только что посаженного им деревца.
Подходит дежурный, говорит:
– Товарищ Сталин, прибыл по вашему вызову сталевар Иванов.
– Просите Иванова сюда.
Алексей идет по дорожке сада. Он очень взволнован.
– Ей-богу, я не могу, – говорит Алексей дежурному, – отпустите меня, ради бога… что я… рапортовать надо или как?.. Лучше Хмельницкого вызовите, а?
Дежурный не успевает ответить – Сталин сам идет навстречу гостю.
Иванов, глубоко вздохнув, останавливается. Губы его дрогнули.
– Здравствуйте, Виссарион Иванович, – вымолвил он через силу, – то есть… простите ради бога…
Сталин смеется.
– Это моего отца звали Виссарионом Ивановичем, а я – Иосиф Виссарионович… Ничего, ничего… – смеясь и повторял «Виссарион Иванович», он, обняв Иванова, ведет его в дом, где уже накрыт стол.
За столом товарищи Сталин, Молотов, Калинин, Маленков. Берия, Ворошилов и Иванов. Все блюда стоят на столе. Подающих никого нет. Каждый берет сам, что ему надо.
Иванов, чтобы не сделать какой-нибудь оплошности, ест один хлеб.
Сталин говорит ему:
– Когда гость не ест, хозяину обидно. Попробуйте вот это, – и кладет на тарелку Алексея рыбу, наливает вина в бокал.
– Спасибо. За ваше здоровье, товарищ Сталин, – говорит Алексей.
– За мое здоровье часто пьют, – отвечает Сталин. – Давайте за вас выпьем, за ваши новые успехи.
Все пьют. Берия снова наполняет бокалы и как бы вскользь замечает:
– Их завод только Ивановым и держится, а вообще неважно работает…
– Наш завод? – Иванов не заметил шутки. Он взволнован и отвечает с достоинством: – Наш завод сильный, народ у нас смелый, дерзкий, далеко вперед видит… Нет, не зря нас орденом наградили, товарищ Берия.
– Завод у них ничего, – говорит Сталин, – руководство только немного отстает… Верно?
Иванов отрицательно мотнул головой.
– Нет! Таких директоров, как наш Хмельницкий, по всему Союзу поискать, – произносит он уверенно, – сталь мы даем хорошую, такую никто не дает. Так и называется у нас – хмельницкая сталь.
– Сталь многие дают, но не все отдают себе отчет, для чего она и сколько ее нужно нам… У вас о войне народ что думает? – спрашивает Молотов.
– Думают, что подходит она, подкатывается… – отвечает Иванов.
– В будущей войне сталь будет решать все, – говорит Сталин, – ибо чем богаче оснащен воин, чем сильнее его техника, тем ему легче победить.
– Сталь-то у нас, товарищ Сталин, хорошая, а будет еще лучше, – говорит Иванов. – Я вот выдал первую плавку новой марки, а наш старик-сталевар Ермилов, гляди, меня через месяц-другой и перекроет. Получше плавку выдаст. А там еще кто откроется…
– А вы и сдадитесь? – спрашивает Ворошилов.
Сталин усмехается:
– Конечно, сдастся. Успокоится на достигнутом – и все.
– Я – на достигнутом?! – восклицает Иванов. – Я никогда не успокаивался на достигнутом. Да и никто из нашей молодежи не представляет себе, ну как это, например, можно без соревнования. Сталь варить – это надо головой работать, – заволновался он вдруг. – Может, вам так сообщают, что, дескать, состав есть, технологический процесс указан – точка, делай?
– А разве не так? – улыбаясь, спрашивает Сталин.
– Не совсем так, – отвечает Иванов, отодвигая от себя тарелки, нож, вилку, чтобы было свободнее рукам. – Сталь – она как живая, товарищ Сталин. Все обеспечено как будто и делаешь все по технологической инструкции, а глядишь – брак. В чем дело?.. В том дело, я вам так скажу, чтобы сталь правильно, хорошо прокипела. Может, матери так детей не рожают, как я эту сталь. Вот как оно!.. Ходишь возле мартена, душа дрожит, все думки там, в печи, будто я сам в огне варюсь.
Иванов останавливается.
– Рассказывайте, рассказывайте, – говорит Сталин, придвигая к Иванову его тарелку, но тот, не замечая, отодвигает ее в порыве нахлынувшего красноречия.
– А когда плавка готова, гляну на металл и сразу вижу, удалась или нет. Тут отца-мать забудешь. А как пошла… такая радость берет, тогда все нипочем, петь тогда охота… Тут шум, грохот, а ты поешь себе, как соловей.
Все выходят из-за стола. Подходят к Сталину и Иванову.
– Вы женаты, товарищ Иванов? – спрашивает Молотов.
– Приближаюсь, – туманно отвечает Алексей.
– К чему это вы приближаетесь? – спрашивает Сталин.
– К тому… к женитьбе приближаюсь, а не выходит. Не моей, видать, марки сталь. Если можете, помогите, товарищ Сталин, – вздохнув и смутившись, отвечает Алексей.
Все смеются. Сталин разводит руками:
– Тяжелый случай! Но если что от меня зависит, конечно, помогу. А в чем дело, по существу?
– Красавица! – говорит Алексей. – И душа чистая! И умница! А вот стихами меня замучила… Вдруг, скажем, звонит по телефону: «Алло! Алексей, Алеша! «Кавказ подо мною, один в вышине…», продолжай!» Вы понимаете?
Сталин, смеясь, останавливает его:
– Что же вы?
– Я, конечно, не поддаюсь, насколько могу, но кто же столько стихов помнить может?
– А стихи между тем хорошие, – задумчиво произносит Сталин и, прищурив глаза, негромко читает наизусть:
Стою над снегами у края стремнины:
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье,
И первое грозных обвалов движенье…
Иванов замирает.
– Значит, тоже этим занимаетесь? – удивляется он, и лицо его становится несчастным.
– Ничего, не пугайтесь стихов, – смеясь, говорит Сталин, – постарайтесь оказаться сильнее ее в деле. Остальное все придет.
– Да это я сколько угодно… – робко улыбается Иванов, – а только не светит мое дело. Вы уж извините меня, товарищ Сталин! Может, я чего не так сказал.
Сталин кладет руку на плечо Иванова.
– Мы свои люди, мы все друг другу можем сказать… Передайте привет сталеварам. Наша просьба – не успокаиваться, не почивать на лаврах, добиваться новых успехов… Это важно и в личной жизни.
Иванов прощается.
– Нам, сталеварам, верьте, – говорит он Сталину, – не подведем, на сто очков всех этих заграничных обставим. Точно вам говорю. – Он идет, но тотчас возвращается. – Спасибо за все, товарищ Сталин. – Пожимает руку. – Спасибо! – и быстро уходит из столовой.
Рассвет. Степь, золотистая от созревших хлебов. Пшеница в рост человека, поблескивая росинками, невнятно шелестит на ветру.
Жаворонки взвиваются к небу и исчезают в нем с песнями. Кажется, поет воздух.
Алексей и Наташа, прижавшись друг к другу, молча идут по узкой тропинке между стенами хлеба. Вдали видны комбайны.
– Я так люблю тебя, Алеша… Алексей, что мне кажется… вся жизнь моя и всех людей стала втрое лучше и интересней с тех пор, как я полюбила тебя…
– А ты знаешь, я Сталину рассказал о том, как люблю тебя…
– Ты с ума сошел!.. А он что?
– Не бойтесь, говорит, стихов, любите ее, и она вас будет любить…
– Выдумываешь ты все… никогда не поверю.
– Ей-богу, если, говорит, она вас любить не будет, мне напишите…
Обняв Алексея, Наташа спрашивает:
– Ну и что же, будешь писать?..
Ничего не ответив, Алеша молча берет ее голову в руки и целует ее глаза, лицо.
Она жмурится, как от яркого света, а потом крепко закрывает глаза.
Алеша отходит в сторону, скрывается в густых хлебах и поет:
Эх ты, Ваня…
Наташа сначала даже растерялась. Она не сразу понимает, что происходит с Алексеем, а Алексей не может поверить в свое счастье.
Он идет и поет, и в песне его такая сила, такой простор, который приходит раз в жизни, в час торжества души.
Наташа следует за Алексеем, не нагоняя его, потом притаилась среди колосьев – пусть-ка теперь поищет ее!..
На горизонте заурчало что-то громоподобное. Глухие взрывы невидимой грозы потрясли землю, хотя небо безоблачно. Где-то высоко-высоко прошли самолеты.
Наташа, закинув голову, оглядывает небо. От самолетов оторвались блестящие капельки… и понеслись вниз. Ей очень интересно и совсем не страшно. Вдруг подпрыгнула земля в ужасном грохоте, и жаркая волна ударила в хлеб и повалила его. Взметнулось пламя. Сухая пшеница затрещала тут и там. Низкий черный дым заволок поле.
Вдруг еще удар, и еще.
Загорелось во многих местах.
Наташа бежит, ничего не понимая. Платье ее черно и в клочьях, волосы разметались. Она кричит:
– Алеша, милый, что это?..
Но огонь с громким треском пожирает хлеб, и ее голоса не слышно.
Алексей уже мчится к ней сквозь горящую стену хлеба.
Он подхватывает ее на руки и несет…
Над поселком и заводом стоит черная туча.
Алексей несет Наташу по горящим улицам поселка. Повсюду раненые. Мечется, мыча, перепуганный скот. Деревья лежат поперек улиц. Дым и пламя вырываются из заводских корпусов.
Силы Алексея иссякли. Он шатается. Несколько раз прислоняется к телеграфным столбам, чтобы не упасть. Собрав последние силы, Алексей бежит со своей ношей домой.
Мать выглянула из двери, зовет его, – и вдруг удар, Алексей падает, но глаза его успевают увидеть загоревшийся родной дом и лицо матери, полное отчаяния и боли.
Он слышит ее зов:
– А-ле-ша!..
По улицам горящего города мчатся немецкие мотоциклисты. За ними танки.
Площадь заводского городка. Молчаливая толпа жителей. Среди них Наташа. Под балконом немецкий офицер, не торопясь, продолжает речь.
Он говорит:
– Порьядок от германской армии ист очень гуманный. Руський народ – народ славяньский, сам жить не может. Мы дадим новый порьядок.
Кто-то негромко свистнул.
Немец смотрит: перед ним стоит хмурая толпа. Он замечает в толпе мальчишку-ремесленника и обращается к нему с добродушной улыбкой:
– Кто сделал небольшенький свист? Ты, мальшик?








