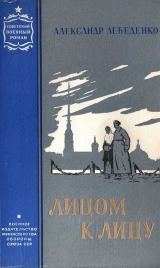
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц)
Позже в подворотню спустилась никому не знакомая ясноглазая девушка с пышными, какие не спрячешь, волосами. Она держалась в стороне и то и дело уходила в молчаливый, заложенный штабелями дров двор.
В одиннадцать часов сошел высокий человек в военной шинели. Ни к кому в частности не обращаясь, он спросил:
– Я из квартиры профессора Гейзена. Кто здесь записывает?
– Кто же это у Гейзенов? – шепотом спросила Нина. – У них ведь не было взрослых детей… И все они в отъезде. Во всей квартире только племянник, приехавший с фронта, и кухарка.
– Не все ли равно, – перебила ее Елена и отвела свой взор. У пришедшего было открытое обыкновенное лицо, русые, давно не стриженные волосы, неопрятными завитками побежавшие по затылку, и мягкие серые глаза.
Воробьев, проходивший мимо пришельца, махнул рукой:
– Пришли, ну и дежурьте свои два часа. Какая тут запись.
Пришелец стал ходить по двору, оглядывая черные окна и как бы только впервые знакомясь с домом.
Маргарита сбежала вместе с Петром. Они внесли шум и смех. Маргарита бросилась обнимать Елену и Нину. Елена снисходительно дала поцеловать себя в шелковистую холодную щеку.
– И вы тут? Ну, значит – здесь салон, – щебетала Маргарита. – Поставить гостиную мебель, граммофон, и можно открыть танцы.
– Ты готова танцевать на кладбище, – важничая, заметил Петр.
– Здесь прекрасный асфальт, почти как паркет, – сказала, кружась, Маргарита.
Воробьев взял ее под руку и не спеша повел во двор. Петр, покачавшись на каблуках, посмотрел им вслед и нырнул в темноту лестницы. Кровать прельщала его значительно больше прекрасного асфальта подворотни.
В замке чугунной двери на улицу – длинный ключ. Входивших и выходивших пропускал тот, кто был ближе к двери. Один из посетителей, намеревавшийся быстро пробежать подворотню, увидав Елену, сразу сломал поспешный свой шаг, замялся, вынул папиросу, спросил у Синькова огня и пустился с ним в рассуждения о ненормальном времени. Синьков, которому он помешал, насмешливо следил за собеседником, то и дело стрелявшим глазами в сторону Елены. Наконец Синьков не выдержал и спросил:
– Вы, гражданин, уходите или решили здесь заночевать? Тогда я запру дверь.
– Я сейчас, сейчас, – смущенно сказал гражданин, вынул изо рта папиросу и, подавив вздох разочарования, прошел на улицу, не отрывая взоров от Елены.
В подворотне раздался смех, сперва сдержанный, а потом, когда разрешающе улыбнулась сама Елена, более громкий.
Между тем гражданин в дверях столкнулся с Алексеем. Черных занес было ногу, чтобы переступить порог, но должен был податься назад перед напором человека, который выходил на улицу, не глядя перед собой.
– Тут весело, – сказал Алексей и шагнул через порог.
Он еще был под впечатлением боя. Странно было слышать смех в такую ночь…
Смех стих. Воробьев, Синьков демонстративно отвернулись. Ясноглазая девушка ушла глубже в темный двор.
Алексей внимательно осмотрел всех дежурных, протянул руку пришельцу из квартиры фон Гейзена.
– И вы уже дежурите?
Белокурый был рад знакомому лицу. На днях, когда он с чемоданом и ремнями переезжал в квартиру профессора, этот солдат встретился ему на лестнице. Он указал квартиру, он проводил до самой двери и, так как руки приезжего были заняты вещами, любезно нажал кнопку звонка.
– Жить здесь будете? – спросил он.
– Да, на время. Меня пригласил фронтовой товарищ, племянник профессора, поручик фон Гейзен. Квартира ведь пустая.
– Сбежал профессор, – недобродушно улыбнулся солдат.
– Нет, он, кажется, застрял на Кавказе. Выезда нет…
– Ну, живите благополучно. А вы сами тоже офицер будете?
– Военного времени. Я из студентов.
– Тут много офицеров живет. Не скучно будет.
Та же недобродушная улыбка играла на лице Алексея, и, должно быть, от нее становилось белокурому неловко.
– Это общество мне уже и на фронте поднадоело, – махнул он рукой и прибавил мечтательно: – Лучше бы удалось поучиться.
Теперь Дмитрию Александровичу Сверчкову – так звали белокурого – захотелось на глазах у всех отнестись к этому солдату благожелательно. Он крепко пожал ему руку. Пусть все видят. Алексей почувствовал пожатие, посмотрел на Сверчкова чуть скептически, но задержался.
– Как на новоселье?
– Ничего, отдыхаю, а потом надо было бы за какое-нибудь дело.
– Служить?
– Лучше бы учиться. Но придется и работать.
В ворота постучались.
Сверчков подошел к двери и спросил:
– Кто?
– Пустите, – шел из-за дверей сырой, без всякого звона голос.
– А вам куда?
– Куда нужно… Впустите, говорю.
– А паспорт есть? – хихикнул Синьков, поглядев на дежурящих и как будто сообщая им, что он решил пошутить.
– Бросьте дурака валять.
– Что вы, я вас пальцем не тронул, – острил Синьков.
В дверь ударил увесистый кулак.
– Стучать будете – и вовсе не пустим.
– Тьфу, дьявол, да кто вы такие?
– Это уж вы скажите, кто вы такой.
– Ну, я из тридцать четвертого номера – Смирнов.
– Ну, так бы и сказали. Ходите поздно. Что жена скажет?
Бормоча недоброе себе под нос, рыхлый человек в коротком рыжем пальто прошел во двор.
Через несколько минут сбежала горничная Бугоровских.
– Барыня беспокоится, что вы так долго, – обратилась она к Елене.
– Барынь теперь нет, товарищ, – сказал вдруг Алексей и выступил вперед. Его бесило это слово, зажигало под сердцем неуютный огонек. – Бар всех в Неву побросали. А каких не успели – те еще дождутся…
В подворотне осела вдруг тишина. Казалось, даже ветер улегся где-то у стены и затих.
Воробьев крякнул и выпрямился. Маргарита повисла у него на руке.
– Привычка, – махнула рукой горничная. – А известно, какие теперь баре? Подмоченные… – добавила она презрительно.
– Хам! – прошептал Синьков. – Расселся в генеральской квартире…
– Не надо, – тихо сказала Елена. – Я пойду. До свиданья. – Не подавая никому руки, она увела дрожащую, испуганную Нину.
– Не скоро еще отвыкнут, – почел долгом сказать Сверчков. Но сказал он это так, в сторону. Полные губы Алексея сжались и побелели.
«Отучим, как козырять отучили», – думал он про себя и если не сказал вслух, то из-за Сверчкова. Нарочито крепким рукопожатием он простился с ним и ушел.
Тогда девушка-незнакомка, которая удалилась было во двор, вернулась в подворотню. На ней было худенькое пальто, и ноги были высоко открыты. Была в лице ее большая прелесть от пышных волос и серых ясных глаз, простая и женственная прелесть, которую можно не заметить, но, заметив, нельзя забыть.
Сверчков стоял около девушки, изредка посматривая в ее сторону, и не уходил. К утру незначительные фразы, редкие, необязывающие, сделали знакомыми всех, кто был в подворотне, – и офицеров, и Катьку, и сероглазую девушку.
Хмурый свет ленивого утра постепенно разливался по улице. Проводив ясноглазую девушку до квартиры генерала Казаринова, где обитал теперь Алексей, Сверчков отправился спать.
Ульрих Гейзен уже лежал в постели. На ночном столике громоздилась пачка книг. Днем и ночью он читал много, жадно, без разбора, словно бы отгораживаясь от жизни пыльными полками книг, уходя в мир особых книжных измерений. В нем были задатки ученого. Род Гейзенов славился профессорами и доцентами. Но дядя не верил в добрую судьбу Ульриха. В племяннике было мало спокойного упорства, много порывистости. Мало мудрой рассудительности, много поспешности в суждениях.
Сверчков выбрал одну из книг на ночном столике и стал укладываться.
Дружба Сверчкова и Гейзена одинаково знала часы обоюдного молчания и взрывы горячих бесед…
Глава XVI
РАНТОВЫЕ ГВОЗДИ
Тихон Порфирьевич Шипунов любовался своим умением появляться неожиданно и беззвучно. За эти американские неслышные ботинки с каучуковой подошвой в два пальца он заплатил уйму денег. Анастасия Григорьевна старательно выщипывала у туалета брови. Шипунов подошел и звонко чмокнул ее в открытое плечо.
Анастасия Григорьевна вздрогнула, уронила серебряные щипчики, инстинктивно запахнула пеньюар и вся съежилась.
– Опять! – раздраженно крикнула она. – Кто вас впустил?
– Сам вошел, – радовался Шипунов. – И, представьте, не заблудился.
– Но я вас тысячу раз просила не входить без стука. Это невежливо. Даже к жене надо стучаться.
– Даже к жене? – удивился Шипунов. – Хорошенькое дело.
– И чмокаете громко, как сапожник.
– Сапожникам теперь завидуют… Они зарабатывают больше, чем профессора…
Успокаиваясь, Анастасия Григорьевна что-то соображала.
– На вас нельзя даже сердиться. Вы – самородок. Но вас надо учить.
Она протянула ему розовые пальцы.
– Учите, Анастасия Григорьевна, пожалуйста, учите.
– Мы будем взаимно, – шепотом заговорила Демьянова. – У меня опять не хватает верхнего материала. Вчера в моей мастерской на два часа раньше кончили работу.
– Надо было из обрезков делать детские тапочки.
– Ах, я не догадалась. Действительно, какая я непрактичная.
– Вы замечательная.
– Глаза у вас сладкие…
– Ай, вы со мной делаете такое… – Он потянулся к ней, но уже не так решительно.
– Нет, нет, – отстранилась Анастасия Григорьевна. – Условие помните? Нейтральная территория. И, пожалуйста, Тихон Порфирьевич, – со слезой в голосе продолжала она, – чтобы дети не знали… Если Маргарита или Петр хоть что-нибудь узнают… и о мастерской… Я все тогда брошу. Все, все… – Она сдавила виски руками. – Тогда все равно.
– Зачем? – скривился Шипунов. – Совершенно незачем. Такие деликатные дети… Хотя Петру уже восемнадцать лет и он, наверное, все понимает и мог бы даже помочь…
– Нет, нет. Вы меня не убедите, Тихон Порфирьевич. Я вас очень прошу.
– Хорошо, – заговорил вдруг деловитым тоном Шипунов. – Замшу я привезу утром. Пришлите ко мне домой Лену.
– Лучше Сашу…
– Нет, лучше Лену. И процентов десять накиньте.
– Опять?
– Все дорожает, дорогая Анастасия Григорьевна. Сахар почем берете? Ну то-то же. Сами накинете двадцать.
– Скоро не будут брать.
– Будут. Женщины хотят нравиться не только офицерам, но и комиссарам.
– Вы думаете?
– А вы как думаете? – Он противно захихикал. – Только с рантовыми гвоздями гораздо хуже. Я хотел с вами говорить. – Он перешел на шепот. Он совсем наклонился к Анастасии Григорьевне. – У вас есть связи с заграницей…
– Никаких, никаких, Тихон Порфирьевич. Это вам насплетничали. Наверное, Ленка… Какие могут быть связи?
– Ну какие-нибудь… завалящие… Послов для этого не надо… Привезти партию гвоздей…
– Не знаю, не знаю, – волновалась Анастасия Григорьевна.
– Вам привозят пудру Коти. Духи у вас, – он взял пузырек со стола, – Амбре антике, – прочел он по буквам.
– Амбр антик.
– Ну, все равно… А впрочем, как? Что значит? Наверное, древние пахли иначе. Почему это – чулки, туфли можно… – Анастасия Григорьевна спрятала ноги под стул, – а гвозди нельзя? Попросите небольшую партию рантовых гвоздей. Мелочь.
– Не знаю, не знаю.
– Иначе придется бросить мужскую обувь. Кстати, вы слышали? Казариновы исчезли… И как долго никто не знал.
– Настя рассказывала Лене… Но куда?
– Или на восток, или на запад…
– Все бегут, все бегут. Не знаю, не знаю, что лучше.
– Верьте мне, – постучал в грудь Тихон Порфирьевич, – здесь уже все было, а там еще все будет.
– Правда? – умиленно смотрела на Шипунова Демьянова.
На самом деле Анастасия Григорьевна была потрясена исчезновением генеральской семьи. В такой момент покинуть город, квартиру… Но, по-видимому, Казариновы знали, что делали. С другой стороны, становилось невозможно существовать. Если бы не ее предприимчивость, дети бы уже голодали. Это надоумил ее Шипунов – незаметное, полупрезираемое прежде существо, какой-то фельдшер на побегушках у ее покойного мужа. Но именно теперь этот фельдшер внезапно развернулся. У него оказались такие полезные знакомства. Он рыскал по городу, мог все достать и знал все цены. Он не всегда опрятен, надоедлив… Но, господи, чего не вытерпишь в этой жизни. Эту истину Анастасия Григорьевна усвоила уже давно и очень крепко. Жизненный путь не усеян розами.
– Можно? – раздался за дверью голос Воробьева.
Анастасия Григорьевна застегнула ворот пеньюара.
– Это вы, Леонид Викторович?
Воробьев и Синьков показались в дверях, но, увидев Шипунова, остановились.
– Ну, словом, мы у вас в гостиной…
– Я только приведу себя в порядок. И потом дела, дела…
– О, вы – деловая женщина.
– Тихон Порфирьевич, смывайтесь. Я научилась вашему жаргону… О ужас!
– Не забудьте гвозди… Рантовые гвозди.
В гостиной две сестры Поплавские кружились на месте, взявшись за руки. Братья Ветровы листали изученные до застежек семейные альбомы. Маргарита лениво перебирала ноты, разговаривая с Воробьевым.
Анастасия Григорьевна в лорнет осмотрела комнату.
– Дети, на дворе холодно?
– Лютый мороз, – запрыгал на месте Петр, дуя в сжатые кулаки. – Надень боты.
– А вы что будете делать?
– Только не карты, – взмолилась Маргарита.
– Будем танцевать, – предложила Поплавская.
– Найдем дело, – успокоил Анастасию Григорьевну Синьков. – Скучать не будем.
– Ах, если бы я могла половину моих дел передать кому-нибудь. Но, видимо, теперь – пора деловых женщин…
– Мы все рады работать, – вставил Воробьев. – «Товарищи» не дают.
– А вы к ним обращались? – спросил вдруг Олег Ветров.
– И не подумаю.
– Олег, заткнись, – вскрикнула Маргарита.
– Марго…
– Теперь все так, мама.
– Ты дочь профессора…
– То, что «товарищи» могут предложить, мы и сами найдем. В порту бочки катать? Снег чистить?
– Полезнее железки, – сказал Игорь Ветров.
Воробьев шагнул к близнецам, остановился и отошел к окну.
– Леонид Викторович, можно вас на минуту для конфиденциальной беседы?
Анастасия Григорьевна отвела Воробьева в переднюю. Они сели на стульях у трюмо, близко друг к другу.
– Вы опять исчезали?
– Да, около двух недель.
– Маргарита говорила, с удачей?
– Относительно…
– Леонид Викторович, я вам как-то говорила о моей мастерской. Я этим кормлюсь сейчас. Поддерживаю детей… Ах! Этот страх за каждый день!
– Перемелется, Анастасия Григорьевна, – взяв ее за руку, механически и смущенно утешал Воробьев. – Не могут же большевики держаться дольше весны.
– Говорили – две недели… – не отнимая руки, тосковала Анастасия Григорьевна.
– Да… Но сложилось иначе.
– Слушайте, Леонид Викторович, мне нужны гвозди.
– Гвозди? Какие?
– Рантовые, что ли. Словом, сапожные. Такие, каких здесь не делают.
– Ах, вот что, – понял Воробьев. Он помолчал. – Не знаю, Анастасия Григорьевна. У меня такое ощущение, что это был наш последний рейс.
– Но ведь вы даже на аэроплане умудрялись…
– Да, в октябре – ноябре… Тогда у большевиков можно было стащить поезд. Теперь у нас были детские салазки… И нас плохо принимали… В Гельсингфорсе вместо наших друзей мы встретили Чека и Совнарком. Проще говоря, мы едва унесли ноги. – Лицо Воробьева стало хмурым. – Может быть, можно купить здесь, за валюту.
– За валюту? Я спрошу…
– Единственно, что могу предложить, – встал Воробьев.
Анастасия Григорьевна у зеркала пудрила нос и под глазами.
– Все дети, дети…
Дети между тем расшалились. Петр гремел на гитаре «Трубачей», наступая на сестер Поплавских. Синьков гонялся вокруг стола за Маргаритой.
Увидев Анастасию Григорьевну, все притихли.
– Петр, Маргарита. Стόит мне на порог, вы чувствуете себя на танцульке. Смотрите – Олег и Игорь, они всегда держат себя с достоинством.
– На то они большевики.
– Выходит, большевики воспитаннее.
– Вы каждый день ходите к большевикам? – дурашливо спросила Маргарита. – Что они там делают?
– Преимущественно учатся, – ответил Игорь.
– Чистить карманы, – брезгливо обронил Синьков.
– По статистике уголовного розыска, это сейчас делают преимущественно бывшие офицеры, – сказал Олег. – А большевики учатся управлять государством.
Воробьев взлетел со стула:
– Вы… молодой человек… Не следует злоупотреблять терпением.
– Леонид Викторович, – удержала его за рукав Анастасия Григорьевна. – Он ведь не серьезно… И потом – нужно быть терпимым.
– Конечно, терпение, – злобно прошептал Воробьев. – Мы мастера терпеть… Доказательства налицо.
– Да. Нужно было вешать вовремя, – тяжело дышал Синьков.
– Вешали. Но всех не перевешали бы, – спокойно заметил Игорь.
– А вы не дразните, – рассердилась Анастасия Григорьевна. – Я вас перехвалила. Вы ведь для курьеза большевики.
– Черт их знает. Может, они по ночам с обысками ходят.
– Ходим, – так же спокойно сказал Олег.
– Ну, это черт знает что! – Воробьев швырнул стул в угол. – Анастасия Григорьевна, берегитесь этих друзей. Они и к вам придут…
– К знакомым и родным не посылают, – деловито возразил Олег.
– Слышали? Только из уважения к вам я сдерживаюсь. А то бы пересчитали ступеньки…
– Мясник, – обронил Игорь и уткнулся в альбом.
Воробьев стукнул дверью и вышел.
Ветровы, развернув по альбому, сидели, как будто ничего не случилось.
Раздраженный столкновением с Ветровым, Воробьев направился к центру города. На Стремянной в одном из серых, до зевоты скучных домов, какие составляют основную массу старого Петрограда, во втором дворе он потянул черную ручку звонка николаевских времен.
– Здесь проживает господин Август Спурре? Я от его знакомых из Гельсингфорса.
Старая женщина, утиравшая руки грязным передником, отступила, пропуская Воробьева в темную и сырую, как погреб, переднюю.
Если господин Август Спурре не совсем походил на шар, то он во всяком случае успешно стремился к этой совершенной форме. На безбровом, безусом розовом лице быстро мигали маленькие глазки с розовыми кроличьими веками, пухлые губы выдавали сладострастность натуры, а короткие пальцы – любовь к деньгам и чревоугодию.
– Чем могу служить? – спросил он Воробьева без всякого акцента.
Воробьев вынул из бумажника визитную карточку и молча подал ее Спурре.
– Очень хорошо, очень хорошо, – твердил господин Спурре, рассматривая карточку со всех сторон. – Я могу познакомить вас с лицом, которое вас интересует. – Он задумался. – Господин Тенси – очень занятой человек. Допустим… Сегодня у нас среда. Можете ли вы в пятницу, в семь вечера – безобидный час, – зайти на Невский в третье по счету кафе от Владимирского к вокзалу… Там столики, какао, кофе. Я буду с господином Тенси.
Господин Тенси был точен, и в семь вечера в пятницу они втроем пили горячее, но скверное какао в подвальчике дома против кино «Колизей».
– Меня интересуют две вещи, – цедил сквозь зубы американец, глядя прямо в лицо Воробьеву, – разумеется, только в плане частных интересов.
Воробьев счел за лучшее сказать, что он совершенно незнаком с английским языком. Спурре переводил ему фразу за фразой. Воробьев не пожалел об этой предосторожности.
– Пусть этот бык думает, что мои личные дела – это все. Второе придет после некоторой проверки. Это не переводите, – тем же тоном цедил Теней.
«Ах ты, гнида», – подумал Воробьев, хотя на гниду этот массивный толстоносый человек в мохнатом туристском костюме походил меньше всего.
– Я – любитель искусства. Мы, американцы, тратим уйму денег на все это… – Он сделал широкий жест растопыренными пальцами мясистой руки. – Во время такой разрухи гибнут мировые ценности. Нетопленные квартиры. Отсутствие ухода, прислуги. У вас даже музеи не имеют дров. Я охотно покупаю для себя и для друзей предметы искусства. Но настоящие, – он поднял руку, сверкнув рубином большой запонки. – Настоящие… Тициан, Мурильо, Гальс, Дюрер и Рембрандт, особенно Рембрандт, – у нас в Штатах тысячи три Рембрандтов. Можно лучших русских художников. Ну, кроме картин, скульптура, ювелирные изделия, фарфор: Гарднер, Чельси, Мейсен и вот этот, ваш Петербургский. Редкие книги. У вас – Коран Османа, есть Эльзевиры. Старинные иконы, византийского и грузинского письма.
– Но ведь я ничего в этом не понимаю.
– И нечего понимать. Зато вы знаете город. Вы найдете пути. Оплата валютой. Можно белой мукой, сахаром, рисом. Очень хороший бизнес для вас…
– Не пренебрегайте, – сказал Спурре, когда они остались одни. – У них три тысячи Рембрандтов. Он написал не более пятисот полотен. Вот сделайте выводы из этой арифметики, – он мелко и хитро захихикал.
Воробьев был в дурном настроении. Он ожидал другого. Но, судя по не переведенной ему фразе, будет и что-то другое. Все равно – деньги нужны. Не заходя домой, он поднялся к молодому художнику Коле Евдокимову и, не здороваясь, с порога спросил его:
– Вы можете добывать картины, ну, всяких там мастеров, старые иконы и все такое?.. За муку, рис, сахар… – И, прежде чем тот успел ответить, заявил: – Мы с вами будем искать. Доход поделим.
Евдокимов не скоро понял, чего от него хотят. Но и сам он и его друзья нуждались в самом необходимом, и вскоре к мистеру Тенси потекли иконы в древних ризах из купеческих квартир на Гороховой и Вознесенском, картины с Потемкинской и Фурштадтской, фарфор и бронза из Царского Села. К делу приспособили и Синькова. Голод подстегивал этих добровольных комиссионеров и открывал двери квартир, когда-то многолюдных, а теперь оставленных на одиноких бабушек, тетушек и прислугу. Тенси платил скупо, но аккуратно.
Через месяц Тенси познакомил Воробьева и Синькова с иностранцем, которого он отрекомендовал как своего друга.
– Вы сильные и смелые люди, – не то спросил, не то сказал утвердительно друг господина Тенси.
Воробьев пожал плечами.
– Мне сказали, что на вас можно положиться.
Воробьев ждал.
Это молчание понравилось иностранцу.
– Нам нужно два человека для одного дела, которое может не понравиться вашему правительству, но нужно для общего успокоения и порядка.
– Пожалуйста, – просто сказал Воробьев.
После этого разговора каждые три дня, захватив рыболовную сеть и удочки, друзья отправлялись под вечер с Елагина острова к финским берегам в небольшом ялике, который обычно стоял на замке у моста. Во тьме, мигая крохотным огоньком, к ним подходил быстроходный катер. На носу стоял неразговорчивый финн с трубкой в зубах и в кожаной ушанке, молча принимал небольшой пакет и вручал Воробьеву такой же.
Высокий черный человек в назначенный час поджидал Воробьева в Летнем саду на пустынной набережной Фонтанки. Он принимал и отдавал пакеты, оглядываясь во все стороны. Это был Леонид Иванович Живаго, мелкий служащий одного из посольств.
Однажды лодка была обыскана сторожевым катером порта. Пакет своевременно пошел на дно. Такова была инструкция. Молодые люди ловили рыбу. Это было более чем естественно в эти трудные годы. Это могло быть спасением от голода.
За эти ночные поездки платили куда лучше, чем за поддельного Веласкеза или подлинного Репина.
Глава XVII
УГЛОВАЯ КОМНАТА
Настя осталась у крыльца. Рукавом она вытирала пот со лба. Не так легко, хотя бы и вдвоем, прокатить тележку по свежему снегу с Крюкова канала до исполкома. Корзины, ящики, плохо увязанные, плывут во все стороны. И, главное, нет покоя на душе. Алексей говорит: белье военным, пальто рабочим, которым не на что купить теплое. Ну, а барынины кружевные сорочки куда? И когда с тротуара услышала, как прошипел седой чиновник в высоких ботах: «Награбили. Среди белого дня…» – дрогнули руки, и она едва не убежала.
Но Алексей, упершись кряжистым плечом, перекатил тележку через выбоину, и Настя опять впряглась помогать брату.
– Приволок генеральское. В общий котел, – сообщил Алексей секретарю.
– Валяй, валяй. Сдай завхозу под расписку…
– Послушай, товарищ Черкасский. Дай мне троих людей и ордер – я тебе вагон добра приволоку. Там же хламу до потолка. Квартир двадцать. Хозяева бегут, остались случайные люди, племянники, тетки…
– Я тебе толковал, толковал… А сколько таких домов в районе? – Черкасский разложил на столе протертые локти. – Ты знаешь, что у нас в районе на сегодня тридцать восемь крупных предприятий в руках хозяев? Погоди, погоди, – остановил он взволнованный жест Алексея. – Петроградский Совет уже отобрал у владельцев за отказ продолжать производство сестрорецкий металлический завод «Самолет». Мы секвестрировали «Русско-Балтийский». Хозяин завода «Руссель Заде» решил сбежать к Каледину – мы его арестовали и отобрали завод. Мы конфискуем заводы тех хозяев, которые отказываются платить рабочим. Конфисковали предприятия и капиталы «Русско-бельгийского общества». Декрет о конфискации Путиловского завода подписан Совнаркомом. Но разве это и все наши заботы? На десятках заводов идет расхищение фондов, прячут сырье, прячут импортные экстракты, какие не получишь у нас, инструменты и части. Кто злей – портит машины: не нашим, не вашим. Уже сейчас останавливаются заводы. Многие инженеры, техники тянут за хозяев. Хозяева хотят, чтобы мы убедились, что без них нам не обойтись, не справиться со сложным хозяйством. Представь себе, что мы отберем все заводы, а пустить их не сумеем. И дело вовсе не в том, чтобы захватить у буржуев их барахло, – сказал он с великолепным для его рваных локтей презрением. – Нам важно взять в свои руки промышленность на ходу, перестроить ее, обновить, расширить, и тогда социалистические заводы дадут рабочему все, чего он только пожелает, в любом количестве.
Алексей стоял молча.
«На фабриках сидят и властвуют буржуи».
Эта мысль крепко поразила Алексея. «Социалистические заводы» не раз воспламеняли его воображение на докладах и митингах, но сейчас они прозвучали как отговорка.
– Сидят, но уже не властвуют, – продолжал секретарь. – Мы думаем и о домах. Домовый комитет у вас есть? Если нет, займитесь его организацией. Такие комитеты будут всюду. Будут следить за домовым хозяйством, брать на учет брошенные квартиры, вселять в здоровые помещения бедноту из подвалов. На Васильевском уже работает районный центр домовых комитетов…
– У нашего хозяина двадцать комнат, зимний сад, бассейн, зал в десять окон, – хмуро буркнул Алексей.
– Ну, это надо взять под клуб. Запишем. – Секретарь карандашом сделал пометку на узком листке бумаги. – А ты, товарищ, держись поближе к Совету и в клуб заглядывай при райкоме.
«Фабрики забрали, а буржуй считает прибыли», – размышлял про себя Алексей, катя домой пустую тележку.
Настя смотрела на недовольное лицо брата и объясняла его по-своему.
«Ну, так и есть, не в те руки попало».
– Что, Алешенька, не берут женское? – спросила она.
– Все берут, – буркнул Алексей.
«Ну, так и есть – не в те руки… Царица небесная!»
Алексей стал посещать открытые заседания исполкома. Белокурый силач председатель и брат Федор ставили один за другим вопросы. О милиции, о пожарах, о воровстве. Закрывали домашние церкви, разбирали вопрос о дровах для школ и больниц. Алексей узнал, что в районе около сорока школ, но учатся в них, как и прежде, дети буржуев. Буржуйчики и сейчас безобразничают, глумятся над товарищами из бедноты. Педагогов-коммунистов в районе всего два, но члены союза педагогов-интернационалистов под руководством Совета и райкома уже борются за обновление школы. Незакрытые буржуазные газеты сеют клевету. Их закрывают, они возникают вновь, под новым, нагло похожим на прежнее названием.
В Лавру слетались ревнители царского воинствующего православия в белых и черных клобуках. Они затевали крестный ход по всей столице, чтоб подлить масла в гаснущие лампады слепой веры. Их цель – спровоцировать Советскую власть на контрвыступление и доказать всему миру, что в стране нет свободы совести.
Кружилась голова от этих дел. Все – нужное и важное, все – трудное и спешное.
Но время шло. Алексей врастал в работу товарищей, и у него крепло доверие к ним.
Он бродил по десяти комнатам генеральской квартиры, как бродит охотник в плавнях по топким переходам. Никак было не прижиться к остаткам чужого быта. Мешали лишние, раздражали непонятные вещи. Чужая роскошь, сырея и рассыпаясь в нетопленных комнатах, шамкала, как разрушающийся, но не приемлющий взглядов нового поколения старик.
Восемнадцатый год прочно переступил порог генеральской квартиры. Передняя завалена сундуками, баулами. К потолку лезут корзины с рухлядью на дне. Комоды карельской березы, шкафы и шифоньеры с зеркалами набиты добром по сей день, но все в них хаотической кучей. Из-под ботинок глядит веер слоновой кости. Венчальные свечи торчат из фаянсового соусника. Тряпки и ленты взбиты цветной пеной. Обувь и посуда, бусы и шитые подушки, трубки и рамки для фотографий – все перемешано неизвестно кем и когда.
Бельевые шкафы теперь пусты. Шубы висят в шкафах, вделанных в стену. До них еще не дошли руки, а надо бы их туда же, в Совет…
Во всей квартире долгое время жили только Алексей, Настасья да вечно брюзжащая, всем недовольная, чувствующая себя вещью, оставленной хозяевами, Пелагея Макаровна. Она грозила куда-то уехать. Десять раз на день ссорилась и мирилась с Алексеем, который и на гнев и на милость старухи отвечал не всегда добрым смехом.
Алексей облюбовал себе кабинет. Здесь мягкое кресло у стола и кожаный диван.
Настасья долго не уходила из своей беленькой клетушки у кухни. Но стужа охватила плохо отапливаемый дом. Плиту теперь не топили, и обе женщины перебрались в небольшую комнату, в которой Алексей установил железную буржуйку. Комнаты прислуги превратились в кладовые.
Остальные комнаты… Днем некогда их рассмотреть. А ночью, даже при свете люстр, они как запущенный, прохваченный морозом сад.
Убирать всю квартиру некому и не к чему. Пыль выкрасила большие комнаты в серый защитный цвет. Увядают цветы, опуская книзу желтеющие, крошащиеся листья. В углах тряпочками висит набухшая пылью паутина. Картины обмотаны газетами или марлей. Газеты рвутся от сырости, свисают серыми, порыжевшими клочьями. В зале звездою треснуло трюмо. Присмотревшись, нетрудно догадаться – пуля в упор. Степкина работа. Это догоняла убежавшего генерала и его кривоногую генеральшу ненависть Степана.
Зима, казалось, была за генералов. Хозяйские дрова вышли в ту зиму быстро. Алексей приволок вязанку дров из Совета. Топили печь в кабинете и буржуйку. На ней же кипятили воду, варили картофель.
В слякотный, мозглый вечер Алексей пошел в генеральскую спальню, выбрал из множества икон две побольше, с киотами, отодрал ризы, швырнул их в кладовушку, а доски мелко изрубил деликатным топориком из генеральского любительского инструмента.
Настасья глядела молча, а на другой день принесла на кухню трояк икон помельче, но сама рубить не стала. Алексей увидел иконы, улыбнулся и взялся за топорик.
Иконное дерево горело жарко. Слезилась в огне краска, морщилась и отставала от дерева, как созревший струп. Пелагея Макаровна смотрела в окно и топить печь святыми дровами и даже греться от их огня наотрез отказалась.
За иконами дошла очередь до тяжелых генеральских кроватей. За кроватями отправился в печь белый разваливающийся шкаф из кладовой.
Настасья жалела вещи, с тоской жгла легко коловшиеся полированные доски. Алексей не испытывал при этом никаких особых чувств, но в выборе был последователен. Он откладывал то, что действительно могло пригодиться. То же, что считал «буржуазными предрассудками», пускал на топливо без сожаления.








