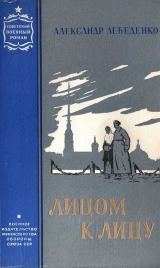
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
Конечный смысл его собственных действий и действий всей белой армии был ясен. Нужно во что бы то ни стало ликвидировать большевиков, их власть и идеи. Но ближайший практический смысл победы Северо-Западной армии ускользал от него. «Демократические» министры брезгливо морщились при имени Булак-Балаховича. Булак называл их слюнтяями, а Родзянку реакционером. Англичане распоряжались Северо-Западным правительством, как полковник – своим вестовым. Союзники белых, эстонцы и финны, мечтали о Неве как о границе своих республик. Он сам никогда не сомневался ни в своей ненависти к красным, ни в своей преданности «законному порядку». Он был смущен всем тем, что видел от Пскова до Нарвы, всем, что наблюдал на походе. Конечно, он не поддастся этому смущению, как дисциплинированный солдат, который идет в атаку равно по приказу любимого и нелюбимого, уважаемого и неуважаемого командира. Но оно, это смущение, живет в его сердце, не любящем сомнений, светит своими змеиными глазами.
Он видел, что, не теряя часа, из последних сил нужно было ударить по железнодорожному пути, связывающему две столицы, взорвать мосты, динамитом спутать рельсы, уронить стрелки и семафоры.
Утром пушки как будто еще ближе придвинулись к Петрограду. Днем на юго-востоке от Ям Ижоры часто свистели поезда. Казалось, там была расположена узловая станция.
Наступил вечер, подкрепления не подходили, но Ульрих фон Гейзен решил двинуть свой отряд вперед, несмотря на то, что уже вчера к вечеру на этом участке сказалось превосходство красных. Пересеченная густой сетью железнодорожных насыпей местность и сгущающаяся тьма способствовали перебежкам атакующих, но они же помогали и защите. Объект нападения был близок. Даже частичный, даже временный успех может привести отряд к магистральному железнодорожному полотну. Ульрих осмотрел канаву, когда-то служившую границей между капустным полем и болотом. Зрелище неспособно было поднять дух командира. Передышка была необходима, но, по существу, она была дарована врагом, вдруг прекратившим перестрелку. Это был отдых, отравленный неуверенностью в каждой ближайшей секунде. В такие часы растрачивается нервная энергия и не накапливаются силы. Если еще можно было что-либо выжать из этих людей, то это следовало сделать немедленно.
– Ребята! Еще усилие, и мы взорвем рельсы! – сказал он громко. – И все… Отдыхать будем в Питере.
Бойцы поднялись в густом влажном тумане. Их немедленно встретил пулемет. К нему присоединился второй. Человек с сумкой, набитой динамитными патронами, упал. Фон Гейзен наклонился над умирающим. Он срывал с него сумку, но руки раненого не отдавали порученную им ценность. Они хватали пальцы Ульриха, впиваясь ногтями в его кожу и рукава. Невидящие глаза смотрели куда-то в землю, как будто вместо сырой черноты там был простор, наполненный страшным последним движением.
Упало еще несколько человек. Третий и четвертый пулеметы красных присоединились к двум первым. Тогда солдаты, не считаясь больше с командиром, побежали обратно к канаве. Ульрих последовал за ними. Бессмысленно и невозможно было идти с горстью людей по ровному полю на цепь пулеметов.
Красные стрелки сразу же двинулись вслед за отступавшими.
Теперь для всех было ясно, что дневная передышка целиком пошла на пользу красным. Они накапливались всю ночь и весь день. Даже сейчас, где-то слишком близко, стучали колеса вагонов.
Воробьев лег в канаву последним. Раздражала близость недосягаемой цели.
– Нам упорствовать нельзя, – прошептал ему Ульрих. – Перед нами выбор – наступать или отступать. Патроны на исходе, и никто нас не поддерживает.
Пушки, казалось, стремились к Петрограду. Город ничем не обнаруживал себя в сером утре: ни золотыми куполами, ни силуэтами башен и домов.
– И тем не менее придется обороняться, – сказал Воробьев и еще прибавил: – Ведь приказа об отступлении нет.
– Какой приказ?! – махнул рукой Ульрих и схватил рукоять одного из двух еще не поврежденных пулеметов.
Грохот ворвался в туман. Пулеметы красных ответили.
Приказ об отступлении пришел поздно вечером и вовсе не потому, что штаб был осведомлен о положении Ульриха и его отряда, и не в силу простой заботливости начальства. Высадившаяся у Тосно латышская батарея уже громила правый фланг белых. Пятнадцатая армия наседала на Лугу, на Мшинскую, на Лисино. Николаевская железная дорога сделала свое дело. Ее поздно было рвать, и до нее уже было не добраться. Из сводок белого штаба, хорошо знавшего силы отряда Ульриха, все это было виднее, чем из ямы капустного поля. Но и эти слабые силы были сейчас нужнее в другом месте – у Гатчины. Именно там, где они могли защищать зарвавшийся фланг Юденича, атакуемый в двух направлениях.
Припадая к кустам, кочкам, отсиживаясь в ямах с вонючей жижей и остатками гнилой капусты, преследуемые по пятам курсантами, матросами, красноармейцами, Ульрих и Воробьев отходили, вышвырнув к черту динамит, так и не коснувшийся мостовых устоев и насыпей дороги, по которой шла к Питеру помощь Республики.
К ночи пушки вновь отступили от Петрограда, и сознание большой и окончательной неудачи овладело бойцами Юденича. Оно шло навстречу слуху о победе красных под Орлом и Воронежем, хотя «Приневский край» извещал о доблестной защите Деникиным Орла и Мценска и о падении Тулы.
Такое противоречие слухов обычно на фронте, и в настроении бойцов оно разрешается в зависимости от того особого ощущения фронтовых дел, которое покоится на трудно объяснимом, но далеко не случайном сознании.
В полночь путь отступающих пересекло высоко поднятое над болотистой низиной полотно железной дороги. Солдаты карабкались на давно не укрепляемую, осыпавшуюся под ногами насыпь. Ульрих, с револьвером в руке, смотрел, как возникали и пропадали над черной стеной черные фигуры солдат. Случайно проглянувшая звезда воровским фонариком дрожала в черноте неба. Ветер бил в лицо мокрым, холодным крылом. Редкие выстрелы возникали в темноте со всех сторон, как будто все это погруженное в ночь поле было засеяно самовзрывающимися патронами. Воробьев сел на железнодорожный камень с черной цифрой.
– Все уже? – спросил Ульрих, когда три фигуры разом поднялись и разом исчезли за полотном.
– Сейчас, – ответил из темноты голос фельдфебеля.
Дальний выстрел как будто слился с близким стоном. Солдат торопливым шагом подходил к полотну. Винтовку он нес перед собой, как будто она могла обжечь ему плечо или грудь. Даже в темноте было видно, как он только на мгновение ставил ногу на землю и сейчас же отрывал ее, неестественно взбрасывая колено. У насыпи он с кашлем опустился на землю и, положив винтовку, стал снимать ботинки.
– Нашел место и время, – сердито буркнул Ульрих.
– Не могу, господин поручик, – волдыри с кулак, все в кровь…
– Ну, марш, марш через полотно! – скомандовал фон Гейзен. – Один останешься, что ли?
– Все равно… все равно не дойти. Пусть красные добьют, – с неподдельным отчаянием прохрипел солдат.
– К красным захотел? – подступил к нему фон Гейзен.
Быстрые зарева пушечных выстрелов полыхали на западе.
– Идите, – сказал Ульрих Воробьеву и фельдфебелю.
Он ногой наступил на винтовку, к которой потянулась рука солдата.
– Я за тобой, сволочь, слежу с утра, как ты ноги натирал и как за листовками с аэроплана бегал. Красные обещают тебе помилование? Так я тебя не помилую!
– Аа-а! – взревел солдат, пытаясь встать. Рой близких рассыпанных выстрелов ответил на его крик.
Сбив солдата ударом ноги, Ульрих вскинул руку с наганом и выстрелил. Солдат рванулся в сторону и совсем припал к земле. К ней пригвоздил его второй выстрел. В темноте неподвижно замерла его босая нога.
Встряхнув головой, повязанной большим платком поверх бинта, Ульрих рванулся к насыпи.
– Стой! – раздался задыхающийся от бега голос из тьмы, и вспышки, как угли в печи, едва осветили местность…
Ульрих уже съезжал по грязному борту насыпи.
Он бросился бежать на запад. Ноги его сразу вошли в холодную воду. Потом он ударился коленом о низкий забор. Ограде этой он обрадовался, как спасению. Она укроет его во тьме от людей, спешивших за ним по пятам. Преодолев ее, он сейчас же упал, споткнувшись о что-то низкое, тяжелое и тупое. Ожидая встретить стену строения или дерево, он вытянул руки вперед. Но ни рука, ни револьвер не встретили ничего, кроме пустого пространства. Ульрих поднялся, шагнул и опять упал на колени. В бок ему упиралось что-то колючее. Оно разорвало на нем френч и рубаху. Он хотел подняться, но стопудовая чугунная рука придавила его к земле. Он рванулся всем телом, расшиб раненую голову, но рука ушла, как будто растаяла в темноте. От этого мистический ужас охватил Ульриха. Он бросался во все стороны и всюду встречал руками пустое пространство. Но сейчас же из этого пространства тянулись к нему тяжелые мертвые руки. Они появлялись и исчезали, как будто хор глухонемых бесов справлял вокруг него шабаш. Он зарыдал почти волчьим воем и в ослеплении, страхе и ненависти выстрелил прямо перед собой.
В мгновенном зареве выстрела вокруг него вырос уродливый, карликовый лес кладбищенских крестов…
Воробьев пришел в Гатчину на сутки раньше Ульриха. Сюда со всех сторон стекались белые отряды. Юденич собирал кулак, которым можно было бы действовать на северо-восток против Седьмой и на юг против Пятнадцатой красных армий.
Первоначальный успех и ожидаемая поддержка английского флота и диверсантов из Петрограда смутили победителя Эрзерума. Если бы Деникину удалось взять Тулу и Москву, а он оказался бы властителем Петрограда – какие лавры увенчали бы его голову! К тому же от Петрограда до Москвы немногим больше чем от Курска или Воронежа. От мысли о скромной демонстрации он перешел к плану решительного действия с целью захвата приневской столицы. С этого момента все его распоряжения складываются в стройную систему, которая может привести его войска либо к решительной победе, либо к решительному поражению. Он отвергает план Родзянки идти на Чудово, захватывая широкие, мало защищенные территории. Кратчайшим путем он идет на Гатчину – Красное Село – Ям Ижору. Он рвется к городу. Он согласен на бой на улицах.
В первом порыве армия докатилась до Пулкова. Оставался один только шаг, но на него не хватило сил.
Гатчинский кулак – вторая и последняя ставка на этом пути. Либо Петроград будет взят, либо армия Юденича перестанет существовать.
Штабные генералы роптали. Ревельские политики жаловались в Париж. Но генерал по-своему был прав.
Не его вина, если революция на всех фронтах в конце концов оказалась сильнее реакции.
В Гатчине уже знали о поражении белых у Орла и Воронежа. В свете этих событий предприятие Юденича выглядело неприглядной, несерьезной, непродуманной авантюрой. Напор красных увеличивался. Листовки, подписанные командованием Седьмой армии, сулили помилование солдатам и офицерам, которые покинут ряды белой армии. Мобилизованные солдаты уходили к красным толпами. Участились переходы вольноопределяющихся и офицеров.
Воробьев жил в маленьком домике с палисадником и печальным мокрым садом, с беседкой, обнажившейся от зелени, как объеденный муравьями скелет змеи. Вся мебель была вынесена или сожжена. Он спал на полу на собственной шинели, содрогаясь от холода, почти ни с кем не разговаривал, утром съедал свой паек, чтобы не носить и не прятать хлеб, и больше ничего не ел до вечера. Ульрих поместился в соседней комнате, где была железная печь с отвалившейся дверкой.
Однажды под вечер, идя на дежурство, Воробьев встретил группу пленных. Их вели под конвоем посредине улицы. Не разбирая, ступали они в лужи, сбивались с шага, пошатывались от усталости. Караул гнал пленных, не позволяя задерживаться, к окраине города. В последнем ряду Воробьев заметил человека, который возбужденно оглядывался, смотрел на него, как бы не решаясь узнать.
Это был Коля Евдокимов, и Воробьев, ценивший талант художника, инстинктивно шагнул к нему. Евдокимов прорвал цепь часовых, бросился навстречу поручику. Но конвоир рванул его за плечо. Евдокимов упал на колено. Ящичек выпал из его кармана, и цветные карандаши рассыпались по грязи.
– В чем дело? – крикнул Воробьев часовому. – Это мой знакомый… мой родственник!
– Не могу знать, господин поручик, – решительно встал перед ним начальник караула. – Не приказано…
– Не беспокойтесь, я буду хлопотать! – крикнул Воробьев художнику, охваченный тоской и сознанием своего бессилия.
Он шел вслед за отрядом до комендатуры, безрезультатно говорил с дежурным офицером и помчался на телеграф.
Но оказалось, что гражданский телеграф не действует. Тогда он ринулся к коменданту станции и там именем министра и полковника Маркевича с трудом добился разрешения передать депешу Бугоровскому по штабному проводу:
«Художнику Евдокимову грозит расстрел. Возбудите срочное ходатайство».
Потом подумал и приписал:
«Ради Елены».
Ответ пришел через два дня:
«Это меня не касается Бугоровский».
«Да, это уже другие кадеты», – подумал Воробьев и принялся собираться в поход. В это время Коли Евдокимова уже не было в живых. Его альбом взял солдат караульной команды, и этюды ленинского лица во всех поворотах передавались тайком с рук на руки.
Гатчинскому кулаку не суждено было вторично ринуться на Петроград. Он был с трех сторон охвачен красным фронтом, к которому текли подкрепления и который, быстро оправившись от неудач, чувствовал себя с каждым днем сильней и уверенней.
– Все наши первые удары сильны и успешны, – говорил Ульриху Воробьев. – Но, вместо того чтобы ворваться на плечах врага в наши города и столицы, мы у самой цели встречаем еще более упорное сопротивление. Так было с Колчаком, Деникиным, с нами… И можно с уверенностью сказать, что мы, раз побежав, уже не остановимся…
Действительно, отпор белых слабел, их стремительные контратаки все чаще сменялись беспорядочным бегством. Казалось, над армией нет больше управляющей руки и не стало больше довольствующих и снабжающих организаций. Давало себя знать отсутствие крепкого, надежного тыла.
Мрачные вести доносились отовсюду. Красные каждый день с аэроплана разбрасывали листовки, начинавшиеся словами:
Мы взяли Петропавловск!
Мы взяли Ливны!
Мы взяли Чернигов!
Солдаты дезертировали. Офицеры роптали.
Отряд Ульриха всегда был в арьергарде. Казалось, бес вселился в этого раненого, тщедушного человека. Он был стремителен и беспощаден к себе и другим. Он не дорожил жизнью, но пули щадили его.
С некоторых пор их преследовал отряд курсантов, поклявшихся командованию и питерским рабочим ни на шаг не отставать от белых до самой эстонской границы.
Их упорство, храбрость, в которой они не уступали лучшим офицерским отрядам, бесили Ульриха. Он не желал верить, что революция, «бунт» может выставить настоящих солдат. Но в стычках с этими настойчивыми, терпеливыми врагами он чувствовал то же, что чувствует сильная мужская рука, которую жмут более сильные пальцы.
Ненависть к ним Ульриха и его товарищей могла быть сравнена только с любовью, которую они вызывали в среде своих, тех, кого они защищали.
У скольких тысяч сегодняшних командиров, инженеров, директоров, строителей, агитаторов, парторгов сильнее ударит сердце при воспоминании о военных курсах, школах победы девятнадцатого – двадцатого годов.
Осенью восемнадцатого года появились они впервые на улицах Москвы и Петрограда.
Ноги в тугих обмотках, английские ботинки с подметкой толщиною в кирпич, сербские шапочки, сдвинутые к правому уху, туго затянутые пояса и бодрая, в те дни невероятная, выправка. Они не походили ни на стрельцов Петра, ни на гренадеров Фридриха, ни на англичан, шедших в атаку с галстуками, ни на царских упорных, но замотанных шагистикой солдат. Шапочками, да еще тем, что появились они на земле совсем новым, рожденным в огнях и бурях племенем, они скорее всего походили на военных пилотов.
Выросшие на рабочих окраинах, пришедшие из расстрелянных карательными отрядами деревень, оторвавшие привычные руки свои от кузнечных молотов, токарных станков, фрезеров и рубильников, они брали оружие в руки, как новый вид металлургических изделий, потребных на то, чтобы силой этой стали, собственных рук и классового духа отвоевать у врагов свой кровный завтрашний день.
Усаживаясь за бывшие юнкерские и кадетские парты, они с любопытством вертели откидные пюпитры, каракулями покрывали классные доски и слушали преподавателей, как слушают люди, для которых настоящая жизнь проглядывала до сих пор только в щели сказок и песен, как внезапно разбуженные, которым с высоты броневика сказали, что все прошлое было тяжелым сном и только теперь начинается день. Они навсегда поверили в правду борьбы, которая принесет правду победы.
Они не знали точно, где это Мадрид и есть ли действительно на свете Гренадская волость. Но они верили, как верят в вечер и утро, в реку и солнце, что всюду, где растет трава и добывают руду, есть два класса и всюду идет борьба между ними. И одна часть мира, большая, была для них братьями, а другая, меньшая – врагами.
Они стояли на часах у трибуны, с которой говорил Ленин. В Таврическом дворце они слушали Джона Рида. Они охраняли Второй конгресс Коминтерна и Шестой съезд Советов. Они стояли на часах у ворот Кремля, пропуская автомобиль Свердлова. Часовыми они стояли у кабинета железного Феликса. Они прошли от Архангельска до Батума и от Плоцка до Никольск-Уссурийска. И весь мир был для них книгой, которую прочел им Ильич, а потом увидели и проверили их собственные глаза.
Они не были великанами на подбор. И, хотя многие из них оказались лихими наездниками, снайперами и инженерами – у многих руки были худы и плечи костлявы. Иные из них больно кашляли по ночам и обманывали врачей при приеме в школы.
Все они были дети молодого класса, и в старые школы, залы и аудитории они принесли дух и мысли, несхожие с духом тех, кому они наследовали, как горы не похожи на море. Завладев этими зданиями, преподавателями, физическими кабинетами, они сразу стали создавать свои традиции, как люди, которые уверены, что история даст им срок на укрепление этих традиций, а годы их жизни, становясь у начала большого исторического пути, поднимутся над веками, как пирамиды поднимаются над песками Нила.
В самые трудные дни Республики они прерывали учение и спешили на фронт. Нужно было скорее разбить врага, чтобы вернуться опять к классной доске.
Там, где появлялась эта гвардия Революции, там всегда расцветала победа.
Возвращаясь, они рапортовали на фабриках, на заводах о своих победах. Их встречали с восторгом, который можно сравнить только с ненавистью, какую они внушали врагу…
Иногда белым, отступившим к Ямбургу, удавалось задержаться на какой-нибудь складке местности или на водном рубеже. Тогда шли в атаку курсанты. Комиссары и командиры этой гвардии покидали штабы и шли в цепях вместе с бойцами. То и дело сближаясь с наступавшими до штыковых ударов, Ульрих заметил, что всюду, где бой закипал с особенной силой, появлялся высокий худой человек. Нисколько не рисуясь, с не покидавшей его, как папироса, деловитостью, он шел впереди. Он те размахивал руками, не суетился, ни разу не крикнул «ура». Но всюду вслед за ним, покоренные его спокойной уверенностью, поднимались курсанты и, обгоняя друг друга, шли на пулеметы белых.
Ульрих про себя решил, что этот комиссар не уйдет от него живым. Дважды худая, строгая фигура дрожала на мушке его винтовки. Под ногами латыша взрывал пыль заслуженный пулемет по имени «Ермак». Но комиссар был так же деловито осторожен, как храбр. Он залегал в канаву и поднимался, только когда выходила лента.
С сухим ожесточением вел эту последнюю игру Ульрих. Все было безотрадно, и армии должен был наступить скорый конец. Что будет дальше, не мог сказать ни один офицер Юденича. Обеспеченные под всеми предлогами стремились в Ревель. Фантазеры строили планы переезда – вокруг Европы – в Крым. Для остальных, не располагавших средствами и заграничными связями, – чины, репутация и даже жизнь утратили цену. Талабский полк, состоявший преимущественно из офицеров, поклялся умереть, не сдаваясь.
Ожесточение скрашивало для Ульриха последние дни этой безнадежной борьбы. В каждом белом солдате из крестьян он видел будущего дезертира, следил за ним с неутомимостью ищейки и расправлялся безжалостно. Но с особой силой ненависть его к красным сосредоточилась на латыше – военкоме преследовавшего их по пятам курсантского отряда.
Они столкнулись в густых сумерках в роще, которая примыкала к небольшой усадьбе. Альфред был убежден, что лес давно оставлен белыми. Заметив неприятельского разведчика, он спрятался за стволом березы. Он узнал офицера с воспаленными впалыми глазами и всегда перебинтованной головой. О нем с ужасом говорили перебежчики. Встреча эта в обоих вызвала прилив долго накапливаемой страстности. Тонкие стволы могли прикрыть только центральную часть тела. Но ни один из них не хотел отступить, и ни один не желал умереть от руки другого. Двинуться вперед, выйти из-за прикрытия означало смерть. Началась изощренная дуэль. Она должна была окончиться смертью одного, но могла продолжаться очень долго, так как у каждого было несколько обойм.
Альфред стал на колено. Он потянулся было к порттабаку, но сообразил, что огонь папиросы станет целью. Ульрих выстрелил раз и два. От ствола летели белые щепы, и Альфред понял, что выжидать нельзя. Тот, кто стреляет, рискует меньше. Он вытянул руку и выпустил всю обойму, целясь в ствол на уровне туловища. Вздох донесся после третьего выстрела, но Альфред только перенес точку прицела ниже.
Позади уже трещали сучья под ногами красноармейцев. На помощь Ульриху спешили разведчики. Короткая горячая перестрелка – и красные цепью двинулись вперед, но Альфред так и не узнал исхода дуэли. Капли крови на серебристой коре могли быть от легкой раны.
Воробьев взвалил на плечи умирающего товарища. Он уходил к шоссе отяжелевшим, но все еще сильным шагом. Ульрих был легок и удобен, как подросток. За плечом Воробьева раздавались хрипы. Может быть, Ульрих хотел что-нибудь сказать, но останавливаться было невозможно. Кроме того, Воробьев был убежден, что говорить не о чем. Все было ясно до отвращения, и слова походили бы на мух, выползающих из уха мертвеца…
Прикрытые широкими у устья Лугой и Наровой, Ямбург и Нарва могли стать крепостью, в которой укрылась бы белая армия. Красное командование требовало от своих частей ворваться на плечах разбитых белых в эту защищенную природой и эстонской проволокой зону.
Здесь Пятнадцатая армия догнала основные силы белых. Из документов убитых во время контратак Воробьев знал, что против них работают части, с которыми он сам совершал походы под Ригой, Верро и Валком. Разрывы мортирных пудовых бомб, по всей вероятности, принадлежали дивизиону Алексея Черных. Этот враг был ненавидим, помимо всего, личной ненавистью, но он был недосягаем. Короткие сильные контратаки временами еще удавались белым, но до красной артиллерии им не довелось дойти ни разу.
Пятнадцатая армия взяла Лугу. Никогда еще бойцам дивизиона не приходилось в такой мере чувствовать себя освободителями. Ветер качал вершины сосен у обочин шоссе, и тут же неподвижными знаками войны и ненависти стояли виселицы, уже освобожденные от трупов. Красноармейцам показывали дома, затихшие или покинутые вовсе после расправы. К воротам белого домика с зелеными ставнями рыдающая женщина вывела осиротевших детей.
Вечером на площади был митинг. Говорил военком дивизии Бабин. Он был потрясен следами расправы и находился в том состоянии, когда досадуешь, что весь мир не может слышать слова негодования. Он видел, что в толпе его слушателей нет равнодушных, и говорил горячо и гневно. Его перебивали восклицаниями. Он отвечал жестом или резким словом и продолжал свою речь. Над братской могилой всей толпой пели «Вы жертвою пали в борьбе роковой…». Военком дивизии сказал Алексею, что в Луге он принял в ряды армии партию добровольно вернувшихся дезертиров. Лужские виселицы превратили колеблющихся крестьян в убежденных бойцов Красной Армии.
Алексей теперь был спокоен за Петроград. У него не было вестей от Веры, потому что его дивизия шла по бездорожью, пробиваясь сквозь болотистую пойму Луги. Но он был убежден, что все хорошо. Он приветствовал приказ – взять Ямбург с налета. Недобитый враг – это все равно, что наполовину выполотые сорные травы.
На зеленом лугу в разливах Луги сел громивший Ямбург бомбами красный самолет. У него испортился мотор, и летчик отправился пешком за помощью. Он пришел в деревню, где стоял штаб артиллерии, и, узнав, что комиссара зовут Алексей Черных, постучался в его избу. Это был Олег Ветров.
Алексей сохранял внешнее спокойствие, но на самом деле едва сдерживал себя, слушая рассказ о встрече Ветровых с Верой у Нарвских ворот. От него он узнал, что Игорь летает теперь со Степаном, и обо всем ходе гигантского боя, который был яснее для летчика, чем для артиллериста. Олег рассказывал о прорыве белых к Николаевской дороге, где они встретили сильный отряд Харламова, о горячих боях под Гатчиной, о подвигах матросов, не допустивших к Кронштадту ни белых, ни англичан, о том, как «Севастополь» двенадцатидюймовыми снарядами громил позиции белых. Он бранил свой «Ньюпор» – хлам, закупленный для царской армии взяточниками у французских заводчиков.
Алексей вызвал Веселовского. Он был теперь начальником связи, и дружба все крепче связывала его с Алексеем. Аэроплан был вывезен в деревню на артиллерийских лошадях. Олег уехал верхом в отряд за частями для ремонта мотора.
Велик был разгром белой армии. Ямбург был взят с налета. Белая армия, армия без тыла, растаяла. С Эстонией шли мирные переговоры. Талабский полк был окружен и расстрелян.
Такою гибелью подписывают приговор не только себе, но и идее. Это было Ватерлоо Юденича. Самоубийство, столь же похожее на героизм, как пустоцвет – на цветение.
Воробьев прибыл в Ревель опустошенный. Вместе с армией растаяла ось, вокруг которой вращалось разогнавшееся колесо его жизни. Его не прельщали ни Крым, ни Кавказ, где еще шло сопротивление белых, потому что вера в белое движение уходила, как уходит почва из-под ног, когда человек теряет чувство равновесия.
Сердце стучало громко и сильно в его большом, по-прежнему могучем теле, и он мечтал теперь найти такую страну, где люди сражаются с природой один на один. Голоса бесконечных поколений предков-крестьян заговорили в нем с поразительной силой. Знакомые бельгийские инженеры приглашали его в Конго. Желтая лихорадка, жара, паразиты и гады, дикари и рабы. Но там были непроходимые леса, о которых он мечтал в детстве, и почти не было белых людей. Он телеграфировал согласие и выехал в Антверпен. Перед отъездом Воробьев снес в Красный Крест письмо Маргарите. Он писал ей только потому, что хотелось попрощаться хоть с кем-нибудь в этой стране, которую он в детстве с волнением и не осознанной до конца и потому самой сильной любовью называл родиной, чтобы в итоге, потеряв самого себя, возненавидеть и ее.
Бугоровские тоже готовились к отъезду. Ехали в Стокгольм с намерением перебраться на юг Франции. Бугоровский звал Воробьева ехать с ними. Нина с необычайной ласковостью смотрела на обветренное лицо офицера. На столе у Виктора Степановича лежала рукопись. Воробьев прочел машинально: «Проект военизации городского транспорта Петрограда на время военного положения».
– Благодарю вас, Виктор Степанович, – сказал он тихо и решительно. – Мне надоела Европа…
Алексей приехал в Петроград в автомобиле военкома дивизии. Это была служебная командировка, и на другой же день следовало вернуться под Ямбург.
По всем данным, на третьем этаже дома на Крюковом канале у него уже был сын.
В Петрограде бросались в глаза следы приготовлений к уличным боям. Алексей радостно и взволнованно думал о том, что и он принял участие в битве, которая спасла этот город от мести, виселиц и разгрома.
Он взбежал по лестнице с силой сокола, подлетающего к хорошо спрятанному гнезду. Вместе с Настей, которая, несмотря на всю неожиданность, не задержала его ни на минуту, он помчался к угловой. Но у самой двери вдруг пошел осторожно на цыпочках, и глаза его с вопросом остановились на сестре.
– Мальчик, здоровенький, – прошептала она, задыхаясь.
Отошедшая от деревни еще с детства, она приветствовала брата именно этими, благословенными в семьях пахарей, словами.
Алексей постучал, и слабый, но взволнованный голос ответил:
– Войди.
Вера знала, что это идет отец ее прекрасного сына. Только он мог шагать так громко и замереть у дверей.
Слабые руки жены, только недавно принесшей ребенка, обнимают так, как будто все цветы мира кивают над ее ложем, слова, сказанные при встрече, плавятся на огне этих чувств, и память никогда не хранит их. Он сидел у ее постели, рассматривая ребенка, положенного туда же, потому что в эти дни нигде не продавались детские коляски или корзинки. Он был невероятен, этот ребенок. У него был мудрый, прорезанный мужской многодумной морщиной лобик, пальчики, которые гнулись во все стороны, и ножки, собранные в самые потешные на свете кулачки. Он не был ни красив, ни безобразен, но он был удивительно свой. Это ощущение заполнило Алексея, и он вдруг перестал размышлять о сыне – он стал его чувствовать. Только теперь он преодолел страх и взял сына на руки. Вера следила за каждым движением мужа. Она осматривала его с ног до головы. Он был цел, не изуродован, по-видимому, здоров. Только на ребре ладони залег шрам, как от удара ножом. Вместо задорной веселости первых дней и вместо сменившей ее впоследствии озабоченности – на лице его расположилось мужественное спокойствие и какая-то чуть-чуть смешная для нее, так его знавшей, важность.
Настя поила их чаем, ребенок сосал грудь, засыпал. Тогда заговорили шепотом. Вера еще ничего не знала о судьбе Синькова и Воробьева, и Алексей решил, что расскажет все подробно позже, когда она окрепнет.
Военком снабдил Алексея свертком.
– Немножко трофеев… для жены, – сказал он, довольно улыбаясь.
В свертке оказались давно не виданные вещи: какао, шоколад, сгущенное молоко. Все это было в незначительном количестве, но Настя обрадовалась подарку совсем по-детски и немедленно принялась варить какао. Вера шепнула несколько слов золовке, и Настя сейчас же исчезла, сильно хлопнув выходной дверью.
Алексей смотрел на жену, осторожно глотавшую горячее какао, и думал, что ей и ребенку нужно хорошее питание, но сейчас он не в состоянии обеспечить им даже самое необходимое. Он и его товарищи победили, они сохранили за собой этот прекрасный город, то это еще не все…








