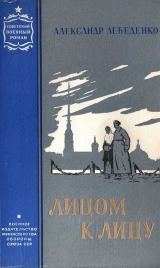
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
– На деревне… купил.
– А почему у курицы голова отвернута? Разве так продают?
– Хозяйка, наверно, стерва была…
– Сам ты стервец! – крикнул Алексей. – Я тебя под суд отдам. Сколько с нас причитается за все? – спросил он хозяйку. – За все, и за сапоги.
– Денег таких нет, – намекнул Синьков.
– Полгода зарплаты отдам! – хлестнул нагайкой Алексей. – Если кто что еще – трибунал! Никого не пожалею!
Хозяйка спросила какую-то скромную сумму, и казначей расплатился с нею, взяв расписку. Алексей, мрачный, как зимняя туча, поехал вперед. Как пришибленный, ехал за ним Федоров. Он порывался что-то сказать комиссару, но, увидев отяжелевшее, злое лицо Алексея, опустил поводья.
Остановившись у гулкого телеграфного столба, Сверчков пропускал мимо себя батарею. Цепью тяжелых, медленно перекатывающихся ходов шли орудия и зарядные ящики. Груженные горами красноармейского барахла, ныряли в ухабах выносливые обозные фурманки. Щелкая железом, прыгали по буграм двуколки. Знакомая картина. Окрики старшины, фейерверкеров, мерная поступь командирского коня. Память легко перелетала отсюда, с лифляндских долин, через события восемнадцатого года к батарейным позициям в Полесье. Такие же щербины крыш, портящие линию горизонта, рощицы у рек и ручьев, ползущая по проселку одинокая телега, рваное небо – то небо, которое легко можно не замечать в городе, – и тяжелый шаг перегруженных лошадей.
И вот раздастся команда, и эти люди, со звездочкой вместо кокарды, установят гаубицы, телефонисты забросят в леса, в окопы провод, командиры сядут у цейсовых труб, и батарея опять откроет могущественный артиллерийский огонь.
Есть ли какие-нибудь сомнения в этом? Никаких. И своя пехота не ворвется на батарею, чтобы штыком проткнуть приказывающих стрелять командиров, Здесь есть сила, способная привести в подчинение одинокого бунтаря, ослушника новой дисциплины. За комиссаром стоят коллектив, трибунал, Особый отдел. За ним стоит группа спаянных одной идеей и волей людей, наиболее культурных, грамотных, ведущих за собой всю массу. Да, всю массу. Может быть, кроме таких, как Савченко, Фертов, Коротковы.
Батарея – опять орудие боя, верное и сильное. Это опять – армия, хотя здесь те же люди, которые в семнадцатом отказывались идти в наступление, которые убивали офицера за выстрел, срывающий перемирие, заключенное самими солдатами. Здесь есть то, чего не хватало армии царя. Солдаты отказывались повиноваться – и офицеры упали на дно, как падают весной камни, занесенные на лед еще зимою. В Красной Армии дисциплина еще недостаточно сильна, но ее нельзя уничтожить вовсе, покуда в частях существует проникнутый одной идеей партийный коллектив.
Мимо уже катился батарейный обоз. Не хватало зарядных ящиков. На сотне крестьянских телег, укутанные в сено, продвигались за батареей бомбы и шрапнели. На облучках, покуривая трубку, в тулупах, в валенках и сапогах, в черных барашковых шапках, сидели бородачи и деды. Мобилизованные Советами, они отсчитывали километры, пробиваясь за армией. Они заплетали думу об оставленных домах с мелкой и тряской тревогой обозного похода, с дымом своих трубок. Они кормились из красноармейского котла, доедали домашнее, копили деньги, выплачиваемые интендантством. Но среди них, к удивлению Сверчкова, не было ни уныния, ни ропота. Они ходатайствовали только о коротких переходах и о стоянках в деревне, где есть крыша для человека и навес для коня.
В деревушке Федоров зашел к комиссару. Алексей смотрел на него гневно.
– Ну, что?
– Товарищ комиссар, это ж не ее сало. Купил я сало. А кура – не знаю чья… Ну, это верно – куру на огороде поймал, голову отвернул.
– У кого купил сало?
– Не могу сказать, товарищ комиссар… А только купил.
– Чего же ты там не говорил? Где ж теперь проверить? У крестьянина купил?
– Не могу сказать А только крестом-богом клянусь.
– Иди ты со своим крестом-богом!
– Что б я сдох…
– У кого, говори? – Алексей взревел, не выдержав. Синьков, готовясь к успокоительному жесту, подвинулся ближе.
– Эх ты, рвань! – вмешался вестовой Симонов. – Скажи прямо – Фертов продал.
– А ты заткнись, сука! – ругнулся Федоров. – Кто тебя за язык тянет?
– Зови Фертова, – скомандовал Алексей. – А ты, Константин, – отвел он в сторону Каспарова, – посмотри с фейерверкером вещи этих трепачей.
Фертова пришлось оторвать от игры в трынку. Он вошел, большой, под потолок, и мягкий, как соломенное чучело. Увидев Федорова, насупился. Федоров не смотрел на него вовсе.
– Фертов, сало Федорову продавал? – спросил Алексей.
– Продавал… Кажется…
– Сам где взял?
– Купил. Где же иначе? Там целый базар, в деревне.
– Почем платил?
– Полторы желтухи за фунт.
– А ты почем купил?
– По керенке…
Видно было – Федоров не врет и не понимает, почему Фертов изменил цену.
– По дружбе, значит, уступил? – съязвил Алексей.
– А в чем дело, товарищ комиссар? – вскинул голову Фертов. – Почем хочу – продаю, почем хочу – покупаю.
Комиссар молчал, и Фертов медленно переступил высокий порог, не закрыв за собою двери. В окно было видно: вся компания – Савченко, Фертов, Плахотин отправились к орудиям. Возвращался Каспаров. У Савченки и Фертова, кроме чемоданчиков, оказались мешки, привязанные к ходу орудия. Взводный свалил их на снег. Из мешков текла сукровица.
– Чего ты, дурак, там не сказал? – напустился Алексей на Федорова. – Они ведь спали рядом, а там за стеной и кладовая. А теперь тоже скажут – купили. Снять вещи с передков! Пусть на плечах тянут, – рассердился Алексей и отправился к обозникам, приехавшим с сеном.
Но Савченко и Фертов шли до самого Мариенбурга пустые, хотя с ходов были сняты принадлежавшие им мешки и ранцы. Федоров сообщил – все у Коротковых на фуражных повозках. Алексей отматерил и решил в Мариенбурге поговорить с ребятами крепко.
В Мариенбурге была дневка. Маленький городишко, в котором от прошлых времен остался только розовый костел и кусок крепостной стены, заметно стегнула плеть войны. Выбитые перестрелкой стекла нечем было заменить. Штукатурка пестрела следами пуль. На огородах – подозрительные круглые ямки. Один квартал лег черным ковром пожарища, подняв кверху щербатые зубья обгорелых труб.
Дома стояли на запоре, ходили через задние двери, в погребах лежала солома, прикрытая тряпьем, – постель на дни обстрела. Бесстрашные старухи в серых платках останавливались на улице, оглядывая гаубицы и зарядные ящики.
Штаб помещался в большом гладкостенном и скучном доме против костела. Двор кишел красноармейцами. У крыльца – верховые лошади и мотоциклеты.
Алексей и Синьков пропадали в штабе у начальника артиллерии, в агитпропотделе. Командиры и красноармейцы раздобыли молока, яиц. На хозяйских сковородах зашипела яичница-глазунья.
Вечером лежали на копнах соломы, зевали, перебрасывались словами, не нарушавшими хода мысли, все еще целиком не оторвавшейся от семьи и города.
– Как думаете? По-старинному, надо бы преферансик, – склонился к Сверчкову Карасев. – Подойдет это в новых условиях?
Сверчков посмотрел на занявшегося командирской картой Каспарова и решил:
– Вряд ли, знаете… Может быть, потом. Ведь они не играют.
Карасев отошел. У печи он проследил случайно отогревшуюся муху. Она заползла в черный зев топки. Карасев лег на койку и накрыл лицо газетным листом. Это был неразговорчивый человек невозмутимого спокойствия. Его так же трудно было вообразить спорящим, как Алексея за роялем. Он никогда не выражал недовольства чем-либо и ничем не восторгался. Слабостью его были лошади. Он сам засыпал овес своему жеребцу и при этом вел с ним какие-то тихие, конфиденциальные разговоры.
Распоряжения были получены на следующий день. Фронт был недалеко от города, но батареям предстояло разделиться и идти до своих участков первой в два, а второй в три перехода.
Воробьев задержал Синькова в сенях:
– Когда же?
– Вечером – партсобрание, пойдем на огороды. – Не задерживаясь, Синьков прошел в комнату.
Ночь наступает на прифронтовой городишко быстро и решительно. Если где-нибудь в доме зажигают свечу, то прежде накрепко закрывают ставни. На улице, спотыкаясь в темноте и чертыхаясь, бредут пехотинцы. Верховые, чтобы подать голос и не напороться на встречного, понукают лошадей чаще, чем требуется. Собаки рвутся с цепей. Все задвижки и все замки защелкнуты. И только в домах, где стоят части и штабы, свет ламп пробивается сквозь щели в ставнях, а во дворах с огоньками папирос и походными фонарями бродят неузнаваемые тени.
– Не теряй связь, – шепчет Воробьев, держа Синькова за пояс. – У тебя больше возможностей. В крайнем случае – записку через Федорова. Этот не выдаст. Продали вы меня в Петрограде, сукины дети!
– Опять старые песни, – досадливо возражает Синьков. – На дорогах, на отдыхах будем встречаться.
– Не понимаешь ты… Я не умею с ними ладить. Я каждый вечер ложусь и думаю – как это я за целый день никому не ляпнул? А когда я подумаю, что дойдет дело до стрельбы, – не знаю я… не знаю! По своим – понимаешь? По своим!..
– Успокойся, – шипит Синьков. – Могут услышать. Мне не легче. Будет случай – не засидимся. Ну, успокойся.
Они держали друг друга за руки в темноте. В недалеких кустах кто-то кряхтел и отплевывался.
Глухие конские хрипы и стук копыт доносились от коновязей.
– По своим стреляй больше бомбами, – шептал Синьков, – и чуть-чуть в сторону. А увидишь, эстонцы, латыши – жарь в лоб, черт с ними! Бей и присыпай шрапнелью. Довольно одного такого обстрела – все тебе поверят. Я тебе говорю как другу.
Партсобрание не затянулось. Еще утром наскоро были обсуждены основные вопросы в присутствии инструктора политотдела. В ту пору партийные организации в армии еще не построились в строгую систему, которая, как стальной каркас небоскреба, гибкая и могучая, держит на себе все здание. Еще только нащупывали формы работы. Еще немало погруженных в тревогу за свою часть комиссаров ломало голову над тем, что впоследствии соответствующим циркуляром утверждалось как азбука политработы в войсковых частях. Еще не все уже изданные циркуляры дошли до сознания тех, кому надлежало проводить их в жизнь. Еще нередко комиссары готовы были устроить митинг, вместо того чтобы разработать вопрос в спокойной деловой обстановке. Алексею нравилась система работы, о которой горячо говорил, цитируя Ленина, Чернявский. Дисциплина строится в Красной Армии, как и в партии, на сознательности. За дисциплину и за сознательность надо бороться так, чтобы они слились в одно. Когда Алексей говорил об этом Синькову, тот презрительно усмехался и ничего не отвечал. Сам он привык считать, что сознательность рядовых бойцов и военная дисциплина – это разные, непримиримо враждебные друг другу начала и не быть им водном яйце, как желтку и белку, – никогда. Алексей считал, что это у Синькова от упрямства. На собственном примере видел он, как нелегким и извилистым путем все же пришел он к этому единству, а раз пришел он – придут и другие.
Он не жалел часов, чтобы растолковать свои мысли общему собранию и даже отдельным красноармейцам. Но нетерпение теснило его грудь, если кто-нибудь речистый, но путаный уводил собрание от ясности, от точных формулировок. Знал этот грех в прошлом и за собою и держал себя в руках.
На отдыхе часами думал – как бы приблизить свои мысли и приказы командования к сознанию малограмотного бойца? С чем сравнить, как связать с простыми, ясными для всех интересами?
Получив орудия, батарея легко развернулась в двухбатарейный дивизион. Сверчков стал командиром первой батареи, Воробьев – второй. Но партийная организация не была приспособлена к новым условиям. А между тем могло случиться, что батареи по нескольку недель и даже месяцев будут разделены расстоянием в десятки километров.
«Надо бы помощника комиссара», – думал с досадой Алексей, но такая должность не была предусмотрена штатами. Можно было возложить часть работы на председателя батарейной ячейки, но нужно было найти такого человека. Командир батареи Воробьев тяжел и силен, самолюбив и несговорчив. Он задавит своим авторитетом слабодушного парня. Каспаров предложил послать его самого во вторую батарею. Но Алексей отклонил эту мысль. Он не хотел лишиться помощи Константина, к которому привык и привязался. Решено было послать члена бюро Сергеева и для этого перевести его из первой батареи во вторую. Алексей и Каспаров долго сидели с Сергеевым на завалинке, обсуждали вопросы работы на отрыве.
В эшелоне и на походах дивизион успешно снабжался всем необходимым. Порция хлеба и сахара на фронте выросла. Но махорки не было ни в Альтшванебурге, ни в Мариенбурге. Покончив с петроградскими запасами, красноармейцы курили сухой лист, собирали крошку по карманам и материли снабженцев и штабы. Алексей слышал, как бранились и партийцы и командиры. Надо было воевать в штабе, у интенданта и одновременно подтягивать свою публику.
В Мариенбурге в отделе снабжения Алексею сказали, что больше чем на треть фуража от довольствующих организаций ему рассчитывать нечего. Провиант, снаряды – об этом заботы нет, все это будет. Но фуража не хватит.
– Ищи всюду, покупай, – сказал ему комиссар группы.
– Забирать можно? – угрюмо спросил Алексей.
– Нет, нельзя! – сказал комиссар.
– А если лошади будут падать?
– Отвечать будете. По всей строгости. И ты и командир.
– Достанем, товарищ комиссар, – сказал Синьков.
Какой у него временами скрипучий голос!
– А если продавать не будут? – настаивал Алексей.
– Сделай, чтоб продавали. Даром не бери.
– А впереди по деревням фураж есть?
– Пока есть. Дальше будет хуже.
Из большой деревни, полукольцом окружившей барскую мызу с лепным гербом над крепостными воротами, батареи вышли разными дорогами. Управление дивизиона шло с первой батареей. На площади прощались. Алексей и Синьков отдавали последние приказания и советы. Красноармейцы, держа лошадей в поводу, шутливо собирали свободной рукой слезы с глаз. Кричали уходящим уже издалека:
– Бей белого, не жалей!
– Крой их в хвост и в гриву!
– В Ригу придем – встретимся.
Савченко сделал руки рупором и закричал:
– Как Псков возьмете – нас подождите.
Все на него оглянулись…
Почувствовав, что переборщил, Савченко спрятался за гаубицу.
– Дурак, – не то про себя, не то комиссару сказал Синьков.
– Нет, это, брат, не дурак. Это – другое, – сказал Алексей.
К нему подошел Каспаров. Он держался рукой за луку комиссарского седла, и они долго разговаривали на ходу.
Глава III
МЕЛЬНИЦА
– Кстати, кстати, – гудел бородатый военком полка. – Вас нам обещали еще под Мариенбургом. Но мы и без вас справились. А теперь опять надо фронт рвать.
– Вот вы грохнете разок-другой – наши приободрятся, а враг решит, что прибыли серьезные подкрепления…
– Собираетесь наступать? – спросил Синьков.
– Все время движемся. Не быстро, но верно. Защищаются они упорно, в особенности офицерские части, а у нас конницы нет. Прорвем фронт, верст пять – десять пройдем до новых холмов, и опять остановка…
По трехверстке он показывал позиции полка. Дивизия тонкой цепочкой растянулась километров на тридцать и еще умудрялась наступать. На всем участке действовали две легкие батареи, разбитые на отдельные взводы. Слева в болотистых местах держал фронт кавалерийский дивизион. На нем же лежала связь с соседней дивизией. Связь эта часто рвалась, и тогда левый фланг повисал над болотом. Справа двигались латышские и эстонские красные части, и здесь был центр наступления. Сейчас предстояло атаковать гряду холмов, перед которыми были разбросаны небольшие деревушки и помещичьи мызы. Мызы были превращены белыми в укрепления. За каменной древней оградой таились пулеметы и стрелки с автоматическими винтовками английского происхождения. У большой деревни над дорогой сооружено было кольцевое укрепление, которое можно было видеть в бинокль с передовой линии.
– Укрепление это мы разнесем, – проскрипел Синьков. – Сколько до него километров?
– Три-четыре…
– Ничего не останется.
Военком забрал в широкую ладонь огненную бороду и довольно улыбнулся. Алексей на секунду увидел его без бороды и вскрикнул:
– Товарищ Пивоваров!
Военком не удивился, все с той же улыбкой посмотрел на Алексея и сказал:
– Я смотрю на тебя, парень… где-то мы видались.
– Ночная операция в Петрограде… помнишь?
– А верно… Ранили меня тогда в шею… Видишь – следок остался. Вот я бороду и запустил. – Он закинул назад голову. В густой медной поросли прятался глубокий и лысый шрам.
– Ушел тот, с двумя маузерами?
– Ушел. И не видал его никто порядком. Вот сила! Дверь плечом вынес, как фанеру.
Синькову было не по себе. Все это слишком напоминало случай с Воробьевым. Надо предупредить Леонида. Пусть тоже отпустит бороду.
Командир полка подскакал с ординарцем, когда уже артиллеристы садились на коней.
– О, артиллерия! Это здорово. Поедем. Я покажу удобные позиции. Вы можете облегчить нам завтрашнее дело, и очень… Укрепление тут. У самой дороги, ни обойти, ни объехать.
Он вскочил в седло, с которого только что сошел.
Это был небольшой, поворотливый человек. Только портсигар на ремне и кожаная куртка под шинелью выдавали в нем командира. Худые щеки были небриты. Светлые усы никак не могли найти себе твердое положение на подвижной верхней губе, лезли в рот и в стороны. У него был деловой вид, и он напоминал Сверчкову какого-то эконома на полевых работах.
Но он, видимо, понимает толк в артиллерии, этот небритый комполка. Он сам едет выбирать артиллерийские позиции, не то что командиры царских полков, которые смотрели на артиллерию, как на шумных и чванных соседей, бьющих не туда, куда нужно пехоте, и в самый горячий момент отказывающих в поддержке из-за недостатка снарядов.
По пути он рассказывал артиллеристам о боях под Мариенбургом. Он отдавал должное врагу. Их немного, но дерутся они ожесточенно. У них много пулеметов и автоматов, но почти нет артиллерии. Много беспокойства приносит бронированный поезд.
– И поезд-то, – говорил он, легко подпрыгивая в седле, – обыкновенные платформы, обнесены броневой плитой и мешками с песком. Но шума много. Носится чертом вдоль фронта. То здесь, то там. Вот вы бы его поддели. Один снаряд по шпалам – и он не уйдет. Я ведь знаю… Я – железнодорожник.
– Вы не военный? – любезно удивился Синьков. – А выправка у вас солдата, и верхом ездите…
– Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет, – играя нагайкой, засмеялся комполка. – Помощник машиниста я. Отец был путевой сторож. На империалистическую меня не взяли – грыжа у меня. А грыжа-то маленькая. Я повязал бандаж и – ничего, бегаю. В Красную Гвардию я вступил с первых дней. В Октябре на карауле в Смольном стоял. Ленин, Подвойский. Все на глазах… Так на железную дорогу и не вернулся. А окончится драка – опять пойду. Люблю это дело. Люблю, когда углем пахнет. Рельсы смотреть люблю. Еще мальчишкой, бывало, тряпочку белую на палку нацепил – и на рельсы! Не знаю, откуда поезд вырвется. И не схожу, пока машинист не свистнет. Потом лягу на насыпь сбоку и смотрю – надо мной поезд высоко, как на ходулях, летит. Вот-вот с колес сорвется и на меня!.. А раз красную тряпку нацепил – поезд остановился. Отец драл потом… Потом сам служил. У нас, бывало, сутки гоняют, сутки спи. А я не спал, а все читал. И как читаешь, все думаешь: что ни происходит на свете – все на какой-то станции. Парижская коммуна, или лионские ткачи, или из газеты события. Я и воевать люблю около рельсов. Как в сторону, так у меня зуд какой-то, – виновато улыбнулся он и даже, сняв фуражку, расчесал волосы.
Позицию нашли в полкилометре от линии окопов. Алексей спросил – не близко ли? Синьков сказал – прятаться нечего.
– Место закрытое, артиллерии у противника нет. А в случае наступления можно будет бить по отступающим… Немцы всегда так делали.
Алексей сдался.
– Вы себя не обнаруживайте, – советовал командир полка. – Во время атаки и ударьте. Главное – это укрепление у дороги.

Деревянной старухой стояла на холме мельница с разбитыми крыльями. Отсюда комполка показывал артиллеристам черточки неглубоких и несложных неприятельских окопов, желтую полоску укрепления, мост через речонку.
– А если разбить мост? – соображал Сверчков.
– Стоит ли?.. На реке держится лед да и вброд можно. Обозы за рекой. Снаряды дороже… Ну, я домой… Не любит мой комиссар, когда я отсутствую.
Всесведущие разведчики сейчас же сообщили, что в полку командира любят. В бою не пуглив. В окопах сидит чаше, чем в штабе. Строг, но и заботлив.
Синьков, глядя в сторону, сказал, что командир такого большого соединения, как полк, не должен превращать себя в старшего красноармейца и место его в штабе.
Сверчков сказал, что сейчас идет малая маневренная война и нечего пример брать с зарывшихся в землю миллионных армий. Красная Армия – это, конечно, регулярная армия, но партизанщина, по-видимому, всегда будет ей присуща.
Алексей прислушивался к спору и даже толкнул незаметно Каспарова. Вечером Каспаров, ссылаясь на Ленина, говорил, что Красная Армия, будучи по духу иной, чем армия царя и буржуазии, должна взять у этих армий все их сильные стороны, и потому нужно тянуть не к партизанщине, а к системе регулярных дивизий.
«Все это так, – думал Алексей. – А вот командиру где место – в штабе или в окопах?»
Он мысленно примеривал себя на месте комполка.
Тем же вечером, сидя на хоботах гаубиц, на дышлах зарядных ящиков, на бревнах, красноармейцы слушали сообщение Алексея о предстоящих боевых действиях, которые он свел к вопросу о дисциплине в регулярной армии.
– Это для вас специально, – сказал Синьков, наклонившись к Сверчкову. – Поучайтесь.
– Мог сказать это мне лично, – обиделся Сверчков. – Всюду партизанщина…
– А как думают товарищи инструкторы? – спросил Алексей.
Командиры, как бояре в Алексеевой боярской думе, смотрели в землю. Нарастала неловкая пауза. Тогда Синьков сказал:
– Мы всегда за порядки регулярной армии. Но для этого нужна железная дисциплина. На этот счет в Красной Армии пока трудновато…
Он дружелюбно улыбнулся красноармейцам, которые потягивали махорку и с интересом следили за командирами.
– Я тут выхожу защитником партизанщины, – развел руками Сверчков. – Я-то партизанщину никогда и не видел… Сознаюсь, мне еще трудно воспринять Красную Армию как регулярную. Она выросла из Красной Гвардии, из добровольцев, из восстания… Мне кажется, что революционная армия – это когда восстает народ – всегда будет хоть отчасти партизанской: Гарибальди, греки, наш Пугачев, к примеру. И я ничего плохого в этом не вижу.
Карасев оказал:
– Я – как товарищ Синьков… Но только я думаю… армия будет. Хорошая армия… Регулярная, я хотел сказать.
Он никогда не говорил так много.
– А я хочу сказать, – вдруг начал Каспаров, – товарищ Сверчков напрасно думает, что Красная Армия без партизанщины обойтись не может. Народ всюду за нас, где нет армии – будут партизаны. И сейчас в тылу у Колчака – партизаны. И это хорошо. Так и должно быть. Но рабочий человек без организации не может. Который партийный, тот всегда начинает с организации. Рабочий человек знает, что без организации ни в подполье, ни в забастовке не победить. Мы эту царскую армию в прах рассыпали, а о своей армии еще на заводах думали. Рабочий класс всегда за дисциплину, за порядок.
Синьков внезапно захлопал в ладоши. Красноармейцы поддержали его. Савченко глумливо крикнул:
– Мы завсегда!..
Чтобы он ни говорил – все походило на издевательство.
В передках, в самой просторной халупе чаевничали Коротковы. На пороге с мешком меж коленями сидел Федоров.
– Господам хлеб везешь? – спросил Фертов, ткнув носком сапога в мешок.
– Ты хлеб не пакости, – принял мешок Федоров. – Ты, Фертов-перевертов. Что не перевернешься?
Он сплюнул Фертову под сапоги.
– Холуй ты командирский, – уже лениво говорил Фертов. – Это ты все вертишься, никак носом в командирский зад не попадешь.
– Брось, ребята! – степенно предложил Игнат Коротков. – Ссориться нам не рука.
– Подумаешь, не убудет, если я командирам хлеб свезу, – бурчал Федоров.
– А Каспарову, а писарю почто носишь?
– На коне ведь, заодно…
– Они тебя и не просили…
– А просили б, так я, может, и не привез бы.
Федорову уже давно было тошно от мелкого, бранчливого разговора. Но есть своя прелесть в том, чтобы оставить поле битвы последним.
– Ты бы ехал, – сказал вдруг Савченко. Он сидел на окошке среди хозяйских бутылок с бумажными цветами и о чем-то тихо беседовал с Игнатом Коротковым. – Тебя, может, еще куда надо послать. И чай без хлеба невдобно пить.
– Кроют тебя, земляк, и бонбой и шрапнелью, – усмехнулся Коротков. – А ты не робей, кончится война – мы с тобой потанцуем…
– Ты-то потанцуешь, – с недоброй усмешкой сказал Федоров. – У тебя братаны, пока мы воюем, дмитряковскую мельницу слопают. И то братишка пишет… За место помещиков будете…
– Разве пишет? – лукаво улыбнулся и потрогал усы Игнат. – А мой ничего про то не отписует. А может, ты сам хотел мельницу взять?
– Кто бы не хотел?
– Идиёт ты прирожденный, – вспыхнул вдруг Коротков. – Ее держать надо вмеючи. Четверо нас, и хозяйство у нас ладное. А у вас только петух да курица, да и тех, может, уже нет, Васька без тебя пропил… Кто ж тебе зерно доверит? У твоей сестры ворота мазаны… Я тебя работником возьму, – смягчился вдруг Коротков. – В тепле, в сытости будешь проживать, за хозяина богу молиться.
Федоров молча смотрел в темные сени.
– Только ты белого свирепо бей, – сказал вдруг Савченко. – А то он и у тебя и у него мельницу отымет.
– Не надо мне мельницы, – буркнул Федоров. – А только и с землей нас обидели. Неправедно у нас помещицкое делили… Еще дело не конченное. Кабы не война, мы б его перерешили.
– Кто это такие – мы? – опять осерчал Коротков.
– Нашлись бы такие… Комитетские… беднота…
– Ай, то-то ты за комиссаров тянешь. А мы и на комиссара и на командиров давно с крестом и пением положили.
– Чижолая вещь, – сострил Фонтов.
– Так ты и отпиши Ваське, – продолжал Коротков. – Пущай сидит в комитете и пайку жрет. А то приедет, скажи, Игнат Степанович Коротков, заслуженный красноармеец, и на огороде пропишет ему, контрреволюционеру, все, что полагается. Слышал?.. А к тебе я доброе сердце имею.
Он пошарил в мешке, вынул пачку махорки и швырнул ее через комнату Федорову.
– Кури, да никому не показывай. Увидят – скажи, спер где-нибудь! Потому на всем фронте махорки ни у кого нет. В штабе сухой лист палят.
Федоров поймал пачку у самого пола, долго вертел в пальцах, вздохнул и спрятал за пазуху, – карманы были все рваные. Потом он вскинул мешок на плечо, поднялся и, не прощаясь, вышел.
– Во бандит проклятый! – буркнул Фертов.
– Вы его, ребята, не дражните, – строго сказал Игнат. – Это парень наш. Как скажу – так и будет. В одной же деревне жить будем.
Приказ начальника дивизии предписывал батарее с началом пехотных атак открыть огонь по окопам противника. По занятии первой линии перенести его на кольцевое укрепление, одновременно поражая отступающие цепи белых шрапнельным огнем.
Под руководством Сверчкова фейерверкеры быстро построили веер, номера пригнали бревна под хоботы гаубиц, наводчик Лисицын топором зарубил точку наводки на высокой липе и вбил гвоздь для красного фонаря. Каспаров работал третьим номером у второго орудия. Он делал все старательно и чисто, и партийцы, глядя на его грузное усердие, начинали шевелиться энергичнее.
Карасев привез с пункта сделанную карандашом панораму позиции белых. Командир, выбрав наблюдательный пункт, опять отправился в штаб полка. Все это живо напоминало Алексею порядок и солидность галицийского фронта, и он был доволен.
Боевой порядок приятно поразил и Сверчкова. Он объяснял фейерверкерам смысл построения веера.
– Мы его тысячу раз строили, а что к чему – неизвестно, – сказал Лисицын.
Сверчкову хотелось пойти завтра на пункт свежим, выспавшимся, равнодушным и привычным бойцом, каким он был в Полесье. Не думать о том, куда он бьет и кто может быть под его ударами. Есть батарея, и есть объекты стрельбы, помеченные номерами на панораме Карасева. Цель номер первый и цель номер второй – окопы противника, цель номер третий – деревня Седла, цель номер четвертый – кольцевое укрепление. Алексей вот спит. Для него завтрашний бой – это естественный вывод из всей его деятельности. Но к Сверчкову сон не шел. Едва дремота тоненьким облачком затягивала сознание – уже смещались предметы, ослабевали законы времени и расстояний, уже мать присаживалась на край постели или несла быстрой дробью Катька, – как вдруг какая-нибудь нагло трезвая мысль срывала это дымчатое кружево и им овладевали все те же надоевшие, но неистребимые думы. Завтра все его действия и поступки последнего времени окончательно оформятся в полный и безраздельный перед совестью, перед историей переход в новый лагерь. Легко себе представить Чернявского, Каспарова или Бунге умирающими за большевизм. Но умирающим за большевизм себя Сверчков представить не мог.
Для него эта война – война «на жизнь». Он согласен жить с большевиками, согласен воевать на их стороне, он им не враг, он не против них, он с ними, но не до конца, не до конца… Лучше всего было бы переждать этот спор и потом найти свое место. В том, что под луной найдется ему место при всех условиях, Сверчков был уверен.
Он курил, зажигая спички под одеялом, чтоб никого не беспокоить, старался не кашлять, чтобы никто не знал, что он не спит.
«Эстонцы, – подсказывала ему слабеющая мысль, – это другое… Они против великой России. Буду глушить… Пусть не лезут!..»
На казенных часах, придраенных толстой цепью к карману Алексея, было четыре. Сон не отходил. Надо было усилием сбросить его с плеч. Алексей бросил кулаки в стороны, еще и еще, и загремел сапогами. Тела на полу, на койках, на лавках зашевелились. В сенях, напоминая о зимней ледяной воде, зазвенело ведро.
Пункт был так близок, что не стоило седлать лошадей.
У начальника участка толпились люди. Такие лица, позы, жесты Сверчков видел не раз. Отдаются последние приказы, и все уже охвачены ощущением готового вспыхнуть боя. Но вместе с тем здесь было что-то новое. Место штабной церемонности заступила простая, деловитая серьезность, какая-то будничная, неистребимая, несдающаяся решительность.
«Это оттого, что они все время наступают», – решил Сверчков.
Артиллериста засыпали вопросами о качествах гаубиц, снарядов, о дальности поражения.
– Если разобьете укрепление, – сказал один из ротных, – превеликое спасибо! – Он в поклоне нагнул тяжелую, заросшую голову и даже приложил руку к груди. Но он был похож на лесовика, степенного в движениях и мыслях, и потому не вызывал смеха. – Эк мы ему хвост наскипидарим! – Он вдруг сделал жест мальчишеский и быстрый. Из-под козырька длинных век, сметая степенность, выглянули молодые, задорные глаза. Все прыснули смехом.








