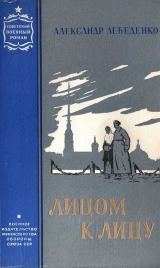
Текст книги "Лицом к лицу"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Глава VII
РЕКВИЕМ
Пристальные взоры мужчин в школе, на улице, в трамвае и раньше волновали Веру и вызывали в ней резкий протест. В трамвае она с неприязненным лицом отворачивалась от назойливых взоров, в школе вдруг начинала говорить сухо и скупо, если замечала попытки коснуться ее руки или перейти на интимные интонации в разговоре.
Аркадий больше не появлялся, но из мыслей не уходил.
В школе происходили перемены. На обнесенном чугунной решеткой дворе поставили гимнастические снаряды. Сначала неуклюже, затем все ловчее и ловчее курсанты взбрасывали молодые тела над турниками, прыгали через кожаную кобылу. Открыли большой зал, уставленный колоннами, обтянули хоры кумачом, по которому пошли тяжелые, уверенные белые буквы: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В центре хоров появился черный глаз киноаппарата. Рядом с залом очистили еще несколько комнат, и на входной двери в эту часть замка повисла надпись «Клуб».
Заведующим клубом был назначен живой, как ртуть, актер с ласковыми глазами, всегда приглашающими разделить его оживление. Он забегал и в библиотеку и, не переставая любезно шаркать ногами, просил Веру принять участие в клубной работе, тем более что и библиотека организационно будет отнесена к клубу.
Днем в клубе играла музыка, строгая и сильная, как шагающие по улицам ряды. Музыка эта оседала где-то на хорах и, казалось Вере, не уходила из зала и из классов никогда.
Вечерами Вера оставалась в клубе, резала, клеила, рисовала, выискивала лозунги из газет и журналов, развешивала портреты вождей. В помощниках не было недостатка. Работа увлекала курсантов. Они не переставали расспрашивать Веру, начклуба, руководителей кружков обо всем, что попадалось под руку.
Еще раньше в дальней комнате затрубили тромбоны и валторны, в проходной у стен выстроились самодельные мольберты. Если кому-нибудь из курсантов удавалось нарисовать облитый солнцем дом или вылепить из глины лицо преподавателя географии – товарищи приходили гурьбой, и слава художника облетала роты.
– Какая у них жадность к жизни, – говорил Вере завклубом. – Они всё хотят получить, всему научиться в восемь месяцев. Я провел анкету, там был вопрос: «Чем намерен заняться, когда окончится гражданская война?» Кроме троих, все написали – «учиться». Так и пишут: «учиться на доктора», «учиться на учителя», «на инженера», «на командира». А из троих один обязательно пишет: «Поеду в деревню, заведу культурное хозяйство…»
Над Летним садом в этот день носились стаями галки. Черными пупырышками они укрывали золотой, высоко вознесенный шпиль. У ворот стояла нестройная, но необычайно молчаливая толпа курсантов. На высоких гранитных воротах повисла черно-красная лента. На ней слова:
«Мы отомстим белобандитам за смерть товарищей!»
У Веры сжалось сердце. Не задерживаясь, она пробежала в библиотеку. Среди холодных, встречающих взор зеленоватым стеклом шкафов было пустынно. Вера принялась за комплекты газет. В перемену вошел ее любимец, Сергей Коньков. Он был без книг и был взволнован.
– Слышали, Вера Дмитриевна?
– Что случилось, товарищ Коньков?
– Двоих наших привезли. Белые убили на Урале. Помните, месяц назад добровольцами уехали по партийной мобилизации десять человек?
Добровольцев провожали с музыкой, и Вера помнила даже речи курсантов и командиров.
– Гришанина Петра и Веревкина Алексея…
– Гришанина? Это ведь старшина взвода. Худой, высокий.
Фамилию заслонил живой человек. Ну да, это он любил географию. С ним она развешивала карты по стенам. Гришанин был так высок, что, не взбираясь на стул, забивал гвозди чуть ли не под самым потолком, и она заметила, что у него был раздроблен палец. Он рассказывал: это случилось в мастерской, молотком. Гришанин обводил рукой зеленые разбеги океанов и все повторял, что хотел бы жить на острове, чтоб кругом была вода и всюду нужно было бы идти на корабле.
Веревкина она не помнила.
– Ну, Вера Дмитриевна, такой же худой, чуть пониже. Они в одной паре ходили. Вместе и поехали.
В окно было видно, как въезжали во двор экипажи. Простучал разбитый автомобиль. Это съезжались комиссары и командиры на гражданскую панихиду.
Вера стояла в углу у дверей Красного зала. Два гроба возвышались на помосте среди зеленых ветвей, нарезанных за городом. Черные буквы обходили красный куб, заворачивая легко угадываемые концы прощальных слов.
Курсанты расступились, и, звеня шпорами, вереницей вошли командиры. Впереди шел худой, острый, как клинок, Альфред. За ним Алексей. Какая у него большая и упрямая голова. Он был назначен председателем партийной организации запасного артиллерийского дивизиона и теперь пропадал с утра до вечера. Настя говорила, что он худеет с каждым днем. Вера сама чувствует, что раньше он был и веселей и проще.
В толпе командиров – начальник школы и комиссар. Все в зале говорили шепотом. Один за другим выходили к помосту курсанты и командиры. Каждый говорил по-своему, но сжатые губы, шепот, зелень над красным помостом уже связали в один узел мысли этих людей.
Представитель Смольного, в рабочей блузе, с бородой и повязанной платком шеей, говорил дольше всех. Он рассказал о перевороте в Омске, о борьбе на Урале, об угрозе Югу и Северу страны, о делах молодой Красной Армии, о Ворошилове и Буденном.
Алексей говорил одним из первых. Тяжелыми кулаками размахивал он так, как будто грозил или производил работу. У него разметались на лбу волосы, и пряжка кушака ушла совсем на бок.
– Нас много, – крикнул он в зал. – Всех не перестреляют. А мы как один пойдем против врага. – Он обернулся к гробам: – Спите спокойно, товарищи. Никто никогда не ступит вражеской ногой на ваши почетные могилы!
Он шагнул в толпу, и Вера видела, как он стоял, не глядя ни на кого, ни к кому не обращаясь и, может быть, никого не замечая. Никто ничего не говорил ему, никто не наклонялся к его уху, может быть понимая, что в этом человеке сейчас бушуют чувства более значительные, чем сказанные им слова.
«Такие, как Аркадий, – думала Вера, – должны быть рады. Убиты два врага». А сама она помнила, что эти люди хотели учиться и плавать на кораблях. Кто-то не хочет, чтобы они учились и свободно бродили по земле.
Вера повторяла про себя эту фразу, как будто смысл ее только по капле просачивался в ее сознание.
«А может быть, все это сложнее?» – постаралась она укрыться, как за щит, за это обычное соображение.
Все равно – в этом зале сегодня звучала большая правда, и эти два красных гроба – как сургучная печать на ее свитке.
– У вас сегодня ничего больше не будет, – сказал ей у выхода Алексей. – Давайте подвезу. У меня лошадь.
Он был тяжел и печален.
Вера говорила с ним тихим голосом, словно хотела охранить то чувство, которое наполняло его до краев.
Настасья впустила обоих в квартиру. Они никогда еще не приезжали вместе. Она смотрела вслед Алексею, поспешно ушедшему в кабинет, и направилась в угловую вслед за Верой со слишком очевидным вопросом на лице.
Раздевшись, Вера рассказала ей о панихиде. Настасья сидела задумавшись. Потом спросила:
– Учить нас хотят. А я не знаю… Я ведь грамотная… А что мне еще нужно?
Со всем красноречием Вера стала убеждать Настасью ходить на вечерние уроки и тут же по первой попавшейся книге стала объяснять, что грамота – только дверь к знанию и, открыв эту дверь, не следует задерживаться на пороге. Настасья стала уходить вечерами в райсовет, и Вера, по ее просьбе, грела в эти дни для Алексея чай и застывшую на погасшей буржуйке кашу.
В один из вечеров, когда Настасьи не было дома, повелительный звонок застал Веру в передничке у растопленной мелкой щепкой печурки. Она подошла к двери и спокойно повернула французский замок.
В дверях стояло трое мужчин. Все в кожаных фуражках с красными звездами. Решив, что это товарищи к Алексею, Вера отступила, пропуская вошедших в переднюю. Сам Алексей, заслышав звонок, уже шел по коридору. По его лицу Вера поняла, что пришедшие ему не знакомы, и встревожилась внезапно, но не глубоко.
– Кто проживает здесь? – спросил передний.
– А вам кто нужен? – неласково спросил Алексей.
– У меня есть ордер на обыск всей квартиры.
Он предъявил Алексею узенький цветной документ.
– Живу я, моя сестра и вот еще племянница прежнего владельца квартиры, генерала Казаринова…
Алексей цедил слова. Он думал: неужели же нужно производить обыск там, где живет он?.. Хотя бы это и была генеральская квартира.
– Вот с вас мы и начнем, – обратился чекист к Вере. – Покажите вашу комнату.
Вера зачем-то развязала передник и тщательно развесила его на вешалке.
Чекисты заглядывали в большие брошенные комнаты и проходили мимо, как будто знали наверняка, что здесь нет ничего их интересующего, но Верина комната подверглась тщательному осмотру.
Тревога, вспыхнувшая в Верином сознании, росла. Они могут найти в ее столе письма из Волоколамска. Тетка не стесняется в выражениях, когда речь идет о большевиках. Но пришедшие мало интересовались содержанием стола. Один из них посмотрел на почтовые штемпеля, спросил, от кого письма, и положил нетолстую стопку под пресс-папье. Осмотрев шкафы и печь, они принялись за кушетку. Тут только Вера вспомнила о свертках Куразиных. Кровь прилила к ее лицу. Старший чекист посмотрел на нее подозрительно.
– Здесь вещи одного знакомого, – шагнула она вперед.
– Посмотрим. Увесисто, – поднял он сверток. – Вы знаете, что здесь?
– Какие-то фамильные ценности, – неуверенно сказала Вера.
Но в свертке оказались маузеры, наганы, пачки и ленты патронов.
«Фамильные ценности», – насмешливо и враждебно бросил Вере в лицо чекист. – Неловко работаете, барышня.
– Откуда у вас? – крикнул Алексей.
– А вы, товарищ, зевнули, а еще красноармеец, – сказал чекист.
– Алексея Федоровича не было дома, когда принесли… – проговорила Вера.
Она решила, что погибла окончательно, хотя и не понимала, в чем ее погибель, и теперь боялась, чтобы из-за нее не пострадал Алексей, чтоб он и Настя не сочли ее неблагодарной тварью.
– Мы с вами обстоятельно поговорим, – сказал чекист и предложил Вере одеваться.
В гробовом молчании уходила Вера. Алексей долго не запирал дверь. Холодная струя с нетопленной лестницы проникала в квартиру. Затем он сорвал с вешалки шинель и фуражку и побежал к Чернявскому.
Глава VIII
ИГНАТ СТЕПАНОВИЧ КОРОТКОВ
Адъютант подошел так неслышно, что Аркадий вздрогнул.
– Зайдите вечером. Есть разговор.
Он повернулся на каблуках каким-то полубалетным па и исчез.
У Дефоржа был вид заговорщика, а осторожность Аркадия увеличилась еще больше в дни арестов. Вечером никакого разговора не получилось. Аркадий с места стал расхваливать большевиков. России – белой или красной – нужна сильная армия. Она нужна народу. Ножны можно будет сменить, но клинок останется. Сейчас задача всех русских – помочь большевикам в организации боеспособной армии. Он говорил негромко и убежденно.
Дефорж смотрел на него глазами обознавшегося на улице прохожего. Он пробормотал что-то нечленораздельное. Командование хлопочет о дополнительном пайке командирам, так вот он хотел предупредить Синькова. Он суетливо распрощался, ссылаясь на занятость. Своим очевидным разочарованием он доставил удовольствие Синькову.
Теперь нужно было разыскать Коротковых. Но сделать это следовало незаметно.
Бывший командир батареи и бывший каптенармус встретились случайно на Варшавском вокзале. Они обнялись и поцеловались, как старые боевые товарищи. Игнат Коротков шел нагруженный мешком и сундуком. Он бранил власть, отправлявшую его на фронт, жесткими солдатскими словами. В семнадцатом году, в зловещие месяцы керенщины и развала, такие, как Коротков, составляли последнюю опору офицерства и эсеровских комитетов. Это были плохие союзники, но на болоте каждая кочка – друг.
За плечами Короткова улыбались Синькову псковичи, режицкие, опоченские знакомцы Короткова. Кто призван в артиллерию, а кто попал в пехоту.
Он сам только накануне, по совету Живаго, подал заявление на имя комартформа. Боевой георгиевский кавалер, он заявлял, что считает всех интервентов и тех, кто им помогает, врагами родины. Своим местом он почитает не Дон и не Сибирь, но ряды народной Красной Армии. Он был немедленно зачислен в армию и получил батарею.
После трех ночей далеко не мирных разговоров и разъяснений Леонида Ивановича подал немногословное заявление и Воробьев. Оно было лишено какого-либо пафоса и походило на обычное прошение человека, заинтересованного в службе и заработке.
Синьков решил действовать. Встреча с Коротковым поможет ему сделать эту батарею послушным орудием в его руках.
Поэтому стремление Дефоржа сблизиться с ним огорчило Синькова. Еще ни слова не было сказано, но он уже чувствовал, что это – апелляция к офицерской солидарности. Дефорж и командир дивизиона Малиновский – это грызуны, которые работают рядом и, как казалось Синькову, слишком шумно. Если они так быстро почувствовали в нем своего, то недорого же стоит одетая Синьковым маска.
Простившись с адъютантом, Аркадий продолжал смотреть в окно на двор казармы с невыразимой тоской. С детства он любил все военное. В кабинете отца висел военный император. Старики генералы, молодцеватые, прославленные кавалеристы – все Синьковы и Победимские, родственники матери. В столовой на стене запомнилась на всю жизнь большая картина, изображавшая парад на Марсовом поле. Ее можно было рассматривать часами, фигурку за фигуркой. Сколько головок он отломал у оловянных солдатиков. Затем корпус – семь лет игры в потешные. С детства идеалом его был сильный, рослый офицер в щегольской фуражке, с саблей, которая тянется по земле, со шпорами, которые помогают выразительно шагать. Беспорядочный в своей частной жизни, он любил порядок в казарме, на линейке, на походе. Он любил нерушимую линию строя протестующей против всякой расхлябанности любовью. Солдат, не подобравший в строю живот, с пряжкою на боку, становился его личным врагом. Он поставил себе задачей стать популярным, но требовательным командиром, о котором старые солдаты говорят: «Он строг, но справедлив». В этом было противоречие, и это было нелегко, но удавалось. Он гордился тем, что даже Февраль не поколебал его авторитет у солдат. Он мог стать командиром дивизиона по избранию. Но Октябрь – это было больше, чем он согласен был перенести. Живаго убедил его в том, что в случае наступления белых армий массовый переход на их сторону красных частей будет служить успеху не меньше, чем победа в бою. Можно было понять, что это установка Парижского центра и союзных посольств.
По двору, окруженный красноармейцами, прошел Шавельский. Этот тенор чувствует себя как рыба в воде. Ворот расстегнут, пуговица у хлястика на нитке. На ногах обмотки с прилипшей грязью…
Таких, как Шавельский и Дефорж, можно сломать в руках, как спичку. Против грубой силы нужна грубая сила. На одном из собраний агитатор-коммунист назвал белые офицерские отряды первоклассными войсками. Аркадий решил, что оратор либо льстит красноармейцам, которые уже били эти войска, либо ничего не смыслит в военном деле. Войска из белоручек. Для многих из них винтовка тяжела. Кто из этих «студентов» пройдет десять километров с полной выкладкой?
Аркадия по-своему тянуло к солдатам. Только в соприкосновении с их черноземной силой офицер становится силен и сам.
У него возникла идея сколотить батарею из знакомых и преданных ему солдат. Эту идею одобрил Живаго. Нужна только выдержка. Спокойствие. Кропотливая работа. Тайна. Синькова увлекла эта мысль. В ней была романтика трудного достижения, дальнего прицела.
Приходя в дивизион, Аркадий очень мало времени уделял штабу. Он сознательно укреплял свою репутацию у красноармейцев. Он шел в казарму, вмешивался в занятия, беседовал с красноармейцами. За ним быстро установилась репутация хорошего командира. На хозяйственном дворе он рубил суковатые пеньки могучими ударами по клину, один вертел хобот гаубицы, ругался с каптерами и поварами за качество каши.
Он проводил все новые виды учений, организовывал прогулки по городу, приводил в порядок орудия и конюшни, чтобы завоевать доверие комиссаров.
Он тщательно и бережно ткал паутину, за которой должна была скрываться его работа иного порядка…
Коротков Игнат сидел на дышле зарядного ящика в дальнем углу двора и черным ногтем упорно крушил ни в чем не повинную свежую стружку.
– Что сегодня как туча? – спросил, усаживаясь рядом, Аркадий.
Коротков пересел по-новому, вполоборота к командиру, утер нос цветным ситцевым платком и сказал:
– Письма нехорошие, Аркадий Александрович.
– Из деревни?
– Баба пишет. Хлеб опять забрали. Комитет бедноты… Обратно… в Совет голоштанные пролезли…
– Теперь бедным лучше.
– С какого богатства, Аркадий Александрович? Может, детям жрать не останется.
Аркадий молчал. Молчал и красноармеец. Розовое, сытое лицо его в черных пятнышках выражало досаду и злобу.
– Я бы был… Я бы поговорил с товарищами.
– Не помогло б, Игнат Степанович. Хлеб армии нужен. В городе по карточкам тоже… У вас, вероятно, крепкое хозяйство?
– Что ж, мы повинны всех кормить? А нас кто кормит? Ни обувки, ни ситчику… Карасину, спичек, гвоздей там – на что барахло! – и то нет. Нас на котле, на фунте держат. А в деревне всё берут. Куда ж девается, Аркадий Александрович?
«Стану я еще объяснять тебе, дураку», – подумал Аркадий и сказал:
– Я и сам иногда думаю, думаю и многого не понимаю, Игнат Степанович. По-новому живем. Потерпим – привыкнем.
– Кобыла привыкала, привыкала и сдохла…
– Ну, не все сдыхают, кто и останется…
Красноармеец пытливо смотрел в лицо командиру. Он крякнул, отбросил стружку и, осмотревшись, сказал:
– К вам со всем уважением, Аркадий Александрович. Как вы и раньше к солдату всей душой. В морду никогда не били. За правду в семнадцатом стояли. С понятием. Я вам скажу, Аркадий Александрович, иные ребята хочут по домам пойти. Беспорядок ведь.
– Брось, брось, Игнат Степанович. Это не дело. Это там в горах где-нибудь, на Урале… А здесь переловят вас всех да и пустят налево. И семье не поможешь, и сам пострадаешь. Это называется дезертирство. Жену пайка лишат, землю, коров отберут. Если бы все так, как вы… А то ведь многие не так думают…
Голова Короткова опускалась. Фразы Аркадия давили своей правдивой силой. Легко было все это представить себе.
– А и так всё заберут, Аркадий Александрович.
– Ну, не всё, – начал было Аркадий и спохватился.
Зачем ему, этому парню, знать, что его командир, Синьков Аркадий Александрович, еще с детских лет с чужих слов усвоил, что крестьяне хитры, бедными только прикидываются и обязательно что-нибудь прячут.
– Всё, Аркадий Александрович, – настаивал Игнат. – Прочитайте сами.
Он совал ему письмо, уставленное крупными каракулями. Аркадий невнимательно читал послание, женскую слезливую жалобу.
– Не пойму я вас. Ваша же власть.
– Да и где там, Аркадий Александрович. Беднота, ободранцы там…
– Ну, уж это ваше дело, – раздражался Аркадий. Голос его неприятно поскрипывал. – В старой армии, в семнадцатом, что захотели, то и сделали.
Игнат смотрел вопросительно.
– Были все вместе, дружно, сговорились и сделали…
Игнат по-прежнему спрашивал глазами.
«Неужели дурак не понимает?» – думал Аркадий, боясь сказать что-нибудь лишнее.
– Значит, в частях? – скорее сам себя спросил Игнат. – При оружии?..
– Говорят, скоро пошлют батарею не то на Урал, не то к Риге, к Ревелю. Если к Риге – поедем через Остров.
– Остров – вспыхнул Игнат. – Семьдесят верстов до Байкова… до нашей деревни…
– Ну, видишь, и ездить не надо. Все к вам придем.
В глазах Игната бегали огоньки.
– Кто есть из ваших… ну, знакомых, земляков… но только спокойные, не бузотеры… пускай подают заявление на мое имя. Я приму. Чем больше будет своих, тем лучше. Но только чтобы без лишних разговоров…
– Понятно, Аркадий Александрович, понятно…
Бывший каптенармус как будто бы действительно понял бывшего командира батареи. Он энергичной мохнатой рукой развязал кисет. Крепко бил кресалом о кремень.
Алексей проходил через двор в казарму.
Дружно беседует командир с красноармейцем…
«Я тебя выживу отсюда… Я-то знаю, что ты за птица», – думал Алексей, вступая на порог казармы.
– Черных, я думаю, комиссаром будет, – уронил Синьков.
Коротков проводил Алексея тяжелым, мрачным взглядом…
Всю революцию Алексей слушал, говорил и действовал, не забывая о долге и об обязанностях. Но при этом, как ветер в горах несет снеговую завихрину, его несло сильное, как голод, волнение. Он не мог молчать, как не могли молчать его товарищи. Офицеры готовы были заткнуть им рот… хотя бы пулей. Но фронт от Риги и до Дуная говорил так громко, что весь мир припал ухом к земле и слушал. Вокруг Алексея распускалась весна вольной человеческой речи. Он чувствовал, как новые, никогда прежде не слышанные слова приносят ему такую правду, которая вторым солнцем загоралась в небе, чтобы больше не уходить ни днем ни ночью. Эта правда покончила с войной, она повернула в другую сторону штыки миллионов, его самого из слепого и одинокого сделала сильным, уверенным товарищем Альфреда, Порослева, Чернявского, всей многочисленной партии и самого Ленина. Он действовал не один. Рассыпанные по стране люди, называвшие себя большевиками, делали тысячи неловких шагов, ошибок, но прошлое падало под их ударами, как подорванная крепостная стена, подымая к солнцу, луне и звездам опаленные заревом облака пыли.
Как за тусклым стеклом, лежали в прошлом годы, когда солдат Черных видел перед собой только окопы, рассекающие мир на несливаемые части, и в будущем – неведомые дороги, по которым он понесет свои сильные руки в поисках спасающей от голода случайной работы.
На Виленский Алексей шел, еще крепче сознавая, что у него есть и долг и обязанности. Он вступал в игру по точным правилам. Теперь он, Алексей Черных, отвечает перед партией за каждый шаг и за успех своей работы с сотнями различных, различно настроенных людей.
В сущности, люди были те же, что и на фронте. Революция несла им жизнь, мир, землю и волю. Она была единственной силой в стране, способной создать порядок и армию для охраны его. И Алексей верил твердо, что революция столкуется с этими людьми.
Первое заседание бюро коллектива состоялось в райкоме. Возвращаясь домой, Алексей мучительно рассуждал о том, какие меры он примет прежде всего, вступив в исполнение своих обязанностей. Но, увлекаясь, он сводил дело к тому, какие слова он скажет товарищам по части. Они еще не выветрились, эти слова семнадцатого года.
На другой день впервые, никого не предупреждая, Алексей прошел коридорами трехэтажного здания, занятого штабом запасного дивизиона. Никто не спросил его, кто он и кого ему нужно. Только вчера прибыла партия мобилизованных. Эти люди ходили по двору и по зданию в сумбурном смешении фронтовых и деревенских нарядов. Тихие и робкие, как гости, но готовые вдруг ощетиниться в воспоминании о воле петергофские батраки, крестьяне олонецких болот и новгородских посадов, ладожские рыбаки, красносельские огородники, псковские льноводы и петроградские рабочие. В длинных, до полу, шинелях уверенно проходили инструкторы и кадровые унтер-офицеры, взятые в Красную Армию еще весною и летом.
На двери одной из самых больших комнат висела выведенная обратным концом ручки или мундштуком от папиросы чернильная надпись:
ДИВИЗИОННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
и ниже, для ясности, еще раз:
КОЛЛЕКТИВ
Голый стол с оборванной клеенкой, скамья и одинокий стул. Портрет, прибитый к стене единственным вершковым гвоздем, отчего лицо вождя неестественно вытянулось. У печки – мусор, щепа, занесенное с дровами сено. Женщина с седыми волосами, в матерчатых туфлях чутьем опытной курьерши угадала в Алексее будущее начальство, разыскивающее свой будущий кабинет. Она предложила позвать коменданта. Перед Алексеем предстал тридцатилетний человек в шинели без петлиц и укороченной настолько, чтобы из отрезанных пол можно было скроить два необъятных кармана. Они топорщились на бедрах, как два походных ранца. Лицо с коротенькими усиками улыбалось. Нос был расплющен на конце в лопатку.
– Вот они спрашивают, – сказала старушка и осталась за дверью.
– Вы кто же будете? – осведомился утконос.
– Я – организатор коллектива.
– Как? – переспросил утконос.
– Организатор партийной ячейки.
– Ага. – Нельзя было догадаться, понял ли он или нет. – И что же вам будет угодно?
– Как бы это достать для коллектива столы, стулья, мебель какую-нибудь… Сегодня вечером будет заседание. Портреты вождей в рамках.
Утконос внезапно направился к окну и, глядя на улицу, ответил:
Кто теперь вешает картины в рамках? А мебель всю переломали… а может быть, растащили. Командиру дивизиона нечем кабинет обставить. Мебель адъютант распределяет.
– Кто адъютант?
– Поручик Дефорж… бывший поручик.
– Позовите его сюда.
Комендант посмотрел так, как смотрят на скворца, сказавшего внезапно человеческое слово.
– Их кабинет напротив командира…
«Не крупного же ты калибра», – подумал Алексей и вышел в коридор.
Дефорж сейчас же философски согласился с тем, что, если партийный коллектив будет обставлен, туда охотнее станут заходить и беспартийные. Сомнение проскользнуло слишком тонкой змейкой, которая легко, не задевая чужого внимания, всегда струилась с острых губ Дефоржа, украшенных английскими усиками.
– Но мебели сейчас на военных складах нет вовсе. Об этом как-то не подумали… – прибавил он с приличествующей печалью.
– Пришлите мне фурманку – я наберу у себя.
– Да, если собственной… Но так не делают…
– Это не Малеев. С этим будет труднее, – сказал Малиновский, выслушав Дефоржа. – Одной предупредительностью его не купишь.
– Придется устранить, – задумался Дефорж. – На фронт, комиссаром…
– Посмотрим… Не сейчас. Найдутся и у этого слабые места. Он смотрит непримиримым… Такие часто не опасны… Пусть клокочет почаще, по всякому поводу маленьким вулканом. Начадит – его и выбросят свои же. Устраивайте ему побольше стычек с красноармейцами… А мебель нужно поставить. Хорошее кресло иногда успокаивает лучше брома.
Глава IX
БУНТ
Шавельский подкупал красноармейцев мягким добродушием и песнями. Деревенский человек любит песню, которая хватает за душу. Стены раздвигаются, костры в лесах становятся теплее, рубаха – мягче, когда ручейком, не зная себе предела и края, льется серебряная теноровая трель. Песня не пришла на село, она – своя сестра, она родилась там вместе с нуждой и работой, у прясла, у межи, вместе с беспричинной, скупой радостью. А Шавельский готов был петь где угодно – в поле, на улице и в казарме.
Когда Шавельский приходил во двор дивизиона с намерением начать занятия по строго обдуманному и даже записанному в блокнот плану, каждый раз из этого ничего не выходило. Он не умел приказывать. Он всегда просил. Но и просить Шавельский тоже не умел. Казалось, будто сам он не знает, чего хочет. Казалось, отказать ему в просьбе совсем легко и не обидно.
Все события от Февраля до Октября он принял, как изменения погоды по сезонам: стало холодно – следует надеть шубу. Он с легкостью опростился и усвоил подходящую фразеологию.
В десять часов утра у орудий, во главе со взводными, собирались красноармейцы. Взводные снимали с гаубиц чехлы, открывали замки. Но каждый раз обнаруживалось, что на вчерашнем объяснении большинство не присутствовало, и приходилось все начинать сначала. Было скучно инструкторам и еще скучнее слушателям. Потом приходил каптенармус, просил батарейного дать десять человек для переноски белья. Вместо десяти уходили двадцать и тридцать человек, и остальные с завистью посматривали вслед ушедшим. Затем комендант требовал десять человек для пилки дров, просились к доктору, на почту, в штаб, и у орудий оставались только присяжные любители разбирать, свинчивать и развинчивать все на свете, будь то зажигалки, перочинные ножи, ходики или пушки. И когда батарейный собирал людей для строевого учения, то на дворе, у гаубиц, оказывалось так мало людей, что стыдно было водить их под команду. И Шавельский распускал батарею.
Синьков при комиссаре, Алексее и самом Шавельском заявил, что нет возможности держать в руках людей, когда в одном и том же дворе, в тех же казармах половина красноармейцев не знает никакой дисциплины.
Малиновский загорячился, замахал руками и сказал Шавельскому, что он ждет от него такой же настойчивости, какую проявил Аркадий Александрович, и просит начать строевые учения, согласно приказу, с завтрашнего же дня.
– Именно с завтрашнего дня, – подтвердил комиссар Малеев. – Я сам приду посмотреть.
Шавельский церемонно взял под козырек и сказал, что исполнит приказание.
Алексей присматривался к Синькову. Глушил в себе неутолимую неприязнь, но она вспыхивала в нем при каждом взгляде в холодные, бесцветные глаза Синькова, при звуках его скрипучего голоса, при воспоминании о Вере… Неясен был для него этот властный и сильный человек. Но как инструктор он действует отчетливо. Надо добиться, чтобы все инструкторы и командиры работали так же, как Синьков.
Холодным, ветреным утром с серыми гонкими тучами, какие проносятся по осеннему небу Петрограда, когда Финский залив грозит превратить городские улицы в каналы, Алексей отправлялся со всем бюро коллектива в райком. На дворе под звучную, умелую команду Синькова ходила первая батарея. Сам Малиновский стоял посредине двора в перехваченной поясом шинели. А где-то в глубине, у цейхгаузов, топтались жидкие ряды второй батареи. Голос Шавельского, такой ладный и звучный в песне, едва доносил до улицы слова команд.
«Начали все-таки», – подумал Алексей и пожалел, что его срочно вызывают в партийный комитет. Он тоже посмотрел бы, как идет учение, как ведут себя коммунисты.
Малеев вышел во двор, когда Малиновский уже возвращался в управление, а Синьков выводил команду за ворота. Малеев пропустил мимо себя тяжело и гулко шагавшие ряды и прошел во двор, где нескладно шагала вторая батарея. Шинели у многих красноармейцев были расстегнуты, в строю шли разговоры, на глазах у комиссара люди покидали ряды и разбредались по двору.
Малеев уже представлял себе, как энергично он будет разговаривать с командиром. Этакая шляпа, не может взять людей в руки.
Шавельский крикнул:
– Стой!
Двое вышли из второго ряда и двинулись к казарме. Малеев пустился наперерез:
– Куда, товарищи?
– На минуточку в казарму, товарищ комиссар, – не останавливаясь, сказал один из беглецов.
– Стойте, товарищи, когда с вами говорит комиссар! – раздраженно крикнул Малеев.
Не сразу, с ленивым достоинством, оба остановились.
– Почему покинули строй?
– Командир разрешили.
– Пойдем к командиру.
Шавельский уже заметил комиссара и сделал ему навстречу несколько шагов.








